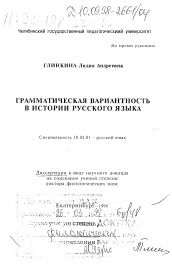автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.01
диссертация на тему: Грамматическая вариантность в истории русского языка
Полный текст автореферата диссертации по теме "Грамматическая вариантность в истории русского языка"
од
/
На правах рукописи
ГЛИНКИНА Лидия Андреевна
ГРАММАТИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Специальность 10.02.01 - русский язык
Автореферат диссертации в форме научного доклада
на соискание ученой степени доктора филологических наук
Екатеринбург 1998
Работа выполнена на кафедре русского языка Челябинского государственного педагогического университета
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор К.И. Демидова
доктор филологических наук, профессор Р.П. Рогожникова
доктор филологических наук, профессор М.Э. Рут
Ведущая организация: Институт русского языка
им. В.В. Виноградова Российской Академии наук.
Защита диссертации состоится 3 июля 1998 г. в 11 часов на заседании диссертационного совета Д 113.42.02 при Уральском государственном педагогическом университете по адресу: 620219, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26.
С докладом можно ознакомиться в научной библиотеке Уральского государственного педагогического университета.
Автореферат разослан 2 июня 1998 года.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат филологических наук /7). _,/^
доцент /^г0^х)В.П.Хабиров
ВВЕДЕНИЕ Общая характеристика работы
В докладе представлены результаты многолетних исследований автора в области грамматической вариантности, выполненные на историко-лингвистическом материале. Настоящая работа посвящена теоретическому осмыслению варьирования как универсальной формы развития языка в любом из его звеньев. В ней подводятся итоги практической реализации отдельных положений применительно к современной речевой ситуации - в научной, научно-методической, педагогической и научно-просветительской работе автора.
Актуальность темы исследования мотивируется тем, что для исторической русистики теоретические проблемы грамматической вариантности по существу являются новыми и задачи их практического решения только определяются [Иванов ДГр 1995, с. 4).
А между тем к концу XX в. изменяемость различных объектов органического и неорганического мира, соотношение тождеств и различий обрели статус общенаучной проблемы. И понятие варьирования (вариантности, вариабельности, вариативности) стало значимым звеном в кругу общенаучных понятий: система-элемент-структура-вероятность-модель-инвариант-функция. Языковая и речевая вариативность с разных позиций оказались объектом и предметом научного анализа различных дисциплин: собственно языкознания, философии, логики, психолингвистики, психологии и др. [Глинкина 1979а].
Оценка ГрВ* как объекта русского исторического языкознания определяется общенаучным, общеязыковым статусом варьирования языковых единиц.
В общем языкознании вариативность признаётся сегодня важнейшим многомерным свойством языковой системы, заслуживающим выделения в самостоятельный объект всестороннего изучения
* В докладе принят ряд сокращений: ИРЯ - история русского языка; ГрВ - грамматическая вариантность (варьирование); МВ - морфологическая вариантность; МСВ - морфосинтаксическая вариантность; ЛСВ - лексико-синтаксическая вариантность; С В - синтаксическая вариантность; ФГрВ - функционально значимая грамматическая вариантность; РРР - русская разговорная речь; АГ - академическая грамматика; ССП - сложносочинённое предложение; СПП - сложноподчинённое предложение; БСП - бессоюзное сложное предложение; ДГр - древнерусская грамматика Х11-Х111 в в.
с позиций внешней и внутренней лингвистики, синхронии и диахронии. Контуры общей теории вариантности как универсального свойства языковых систем наметились лишь в последней четверти века. Этому немало способствовали три общесоюзных тематических конференции: "Вариантность как свойство языковой системы" [Москва 1982], "Вариативность в германских языках" [Калинин 1989], "Явление вариативности в языке" [Кемерово 1994], а также ряд обобщающих публикаций по данной и смежным темам: сборник обзоров "Проблемы языковой вариантности" [ИНИОН 1990], монографии В.М. Солнцева [1971], К .С. Горбачевича [1971; 1974; 1978], Е.И. Шендельс [1964], A.A. Зализняка [1967; 1979], Л.К. Граудиной [1980] и ряд других публикаций по теме, с которых начиналось формирование нового направления в лингвистике, - Ф.П. Филина [1963], Р.П. Рогожниковой [1966;1967], О.И. Блиновой [1968], В.Л. Тимофеева (1971|, К.И. Ходовой [1970; 1971; 1975] и др.
Краткий экскурс в историю становления вариативности в отечественном языкознании позволяет утверждать, что р у с и с тика исподволь была подготовлена всем ходом своего развития к научному "буму" вокруг этой проблемы в конце XX в. [1979а; 19796; 1995а]. Научное осмысление проблемы языкового варьирования происходило постепенно вместе с формированием и развитием классических традиций познания языка в системности и строгом единстве значения и формы, заложенных A.A. Потебнёй, Ф.Ф. Фортунатовым, A.A. Шахматовым, И.А. Бодуэ-ном де Куртенэ. Мы считаем, что особенно важную роль в создании концептуального фундамента теории вариантности сыграли следующие факторы:
- Углубление понятий грамматической категории (ГК), грамматического значения (ГЗ), грамматической формы (ГФ) и словоформы в известных трудах JI.B. Щербы, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Н.Ю. Шведовой, М.В. Панова, В.М. Жирмунского, В.Н. Ярцевой, М.М. Гухман, Т.В. Булыгиной, A.B. Бондарко и др. учёных,
- Интенсивная разработка грамматической теории, стремление к непротиворечивым классификациям и единой системе лингвистических терминов при создании ряда коллективных многотомных академических трудов, академических грамматик русского языка (АГ-56, АГ-70, АГ-80), новых лингвистических энциклопедических и терминологических словарей, а также нового поколения учебников для вузов по современному языку [Н.Ю. Шведова 1995; В.А. Белошапкова 1997].
- Научная постановка проблемы тождества и различия языковых знаков в русском и зарубежном общем
языкознании, развивающая идеи Ф. де Соссюра [А.И. Смирниц-кий 1952; 1954; О.С. Ахманова 1957; К. Габка 1965; В. Скаличка 1965; А. Мартине 1965; В. Матезиус 1967; В. Барпет 1976; 1989 и др.].
- Утверждение в отечественных и зарубежных фонологических школах научных понятий фонемы, вариации, варианта, инварианта и обращение к изоморфизму в грамматике [Н.С. Трубецкой, P.O. Якобсон, Р.И. Аванесов, A.A. Реформатский, В.В. Иванов, В.К. Журавлёв и др.].
- Поиск объективных критериев различения словоформы, варианта и самостоятельной лексемы в теории и практике современной и исторической лексикографии и лингвогеографии при создании словарей разного типа и картографировании материалов в ДАРЯ и ОЛЯ [Проекты словарей древнерусского языка XI-XIV вв.; Словаря русского языка XVIII в.].
- Стремление описать в рамках современной теории обширный материал, накопленный в рамках лингвистической географии и лингвистического источниковедения.
- Первые опыты ленинградских учёных по лингвистической обработке многотысячного банка данных по именному склонению XI-XIV, XV-XVII вв. в славянских языках - с помощью современной техники [1974; 1977].
- Интеграция и дифференциация научного знания не только своей, но и других сопредельных наук, выделяющих вариативность как объект изучения: теории биологической мутации и коммуникации, формализации вариативных правил смешанных диаграмм волновых моделей и др. [Глинкина 1995а].
Изучение обширной литературы позволило нам определиться в формирующейся общей теории вариантности ("вариантологии" - В.М. Гак) и обозначить круг фу н даме и та ль них положений - "к о н с т а н т", а также заслуживающих внимания (доверия или проверки) теоретических допус ков в подходе к проблемам ГрВ на историко-лингвистичес-ком материале и сформулировать их так:
- Варьирование языковых единиц в устной и письменной речи - фундаментальное системное свойство любого живого развивающегося языка.
- Причиной ГрВ является действие непреложного закона асимметрического дуализма языкового знака, открытого С.О. Кар-цевским, В. Матезиусом и В. Скаличкой.
- Отношения вариативности возникают только среди сема нтически и функцинально однородных единиц языка, в чём и состоит их отличие от смежного и
менее строгого явления синонимии.
- Типология вариантов (речь о "внутренней" вариантности) должна иметь системно-структурную основу в поуровневом анализе парадигматики и синтагматики единиц языка.
- Гр.В - интегративный объект, который пересекается с теорией грамматических оппозиций и их нейтрализации.
- Узуальные и кодифицированные нормы на разных этапах развития языка интерпретируются как выбор вариантов гомогенного происхождения, с учётом межъязыкового гетерогенного варьирования, в частности старославянизмов и русизмов.
Объект нашего изучения допускает самое общее определение: ГрВ - как сосуществование, а при диахроническом подходе - и как последовательность (замена) семантически, формально и функционально адекватных элементов грамматики в аналогичных отношениях с другими элементами языковой системы.
Предмет исследования оказался многочастным в зависимости от эмического уровня единиц:
1) морфологическое варьирование (МВ) на уровне слова-лексемы как совокупности словоформ [Глинкина, публикации 19671998 гг.];
2) морфосинтаксическое варьирование (МСВ) словоформы-син-таксемы в определённой позиции:
а) эволюция так называемых вторых падежей в истории трёх восточнославянских языков [Глинкина 1968];
б) МСВ в сфере подлежащего на материале истории русского языка (Х1-ХУН вв.) [Глинкина 1978];
3) синтаксическое варьирование (СВ) в сфере сложного предложения при сравнении бессоюзных и союзных предложений в ИРЯ XI-XVII вв. [Глинкина, публикации 1961-1990 гг.];
4) функционально значимое грамматическое варьирование в рамках текста как синтаксического целого (ФГрВ) [Глинкина, публикации 1984-1997].
Цели данного исследования определяются необходимостью:
- осмыслить историко-лингвистический эволюционный процесс в отдельных его звеньях в аспекте современной теории вариантности, рассматриваемой как методологический ключ к пониманию саморазвития языка;
- обобщить накопленные в исторической русистике знания по проблемам ГрВ избранных для анализа частных объектов ИРЯ;
- определить в современном объективном знании о ГрВ место
собственных многолетних наблюдений и обобщений по данной теме.
Общие задачи работы:
1. Выявить структурно-семантическое своеобразие ГрВ как функционально взаимозаменяемых единиц в соответствии с их языковой природой.
2. Наметить основы типологии ГрВ как системного явления в развитии языка.
3. Определить специфику ГрВ в диахронии, учитывая "исход" варьирования в зависимости от его места в типологии ГрВ, отношение к процессам конвергенции/дивергенции, к узуальной или кодифицированной нормализации в данном звене языковой системы или жанро во - стилистическо к сферы.
В соответствии со спецификой разнотипного грамматического варьирования дифференцировались частные задачи изучения.
1) При анализе МВ самостоятельных слов-лексем в теоретическом плане задача состояла в выработке критериев тождества и различия слов при варьировании с учётом их семантики и функционирования. Это соответственно требовало практического отграничения МВ от смежных типов - морфо-нологического варьирования и от дублетности, а также определения сферы взаимодействия морфологического варьирования со словообразованием и формообразованием вследствие грамматической аналогии, лексикализации и грамматикализации.
2) При исследовании варьирующихся служебных с лов [объектом изучения были исторически новые пояснительные союзы - Глинкина 1972; 1978] следовало выявить контексты их употребления и найти языковые условия, в которых формировались на основе свободных номинаций (слов, словосочетаний) грамматически омонимичные им служебные средства синтаксической связи.
3) При изучении МСВ синтаксем было необходимо определить константные и переменные единицы синтаксической позиции [подлежащего - Глинкина 1978; первого (прямого/ косвенного объекта) и второго (предикативного) падежа - Глинкина 1968], а также установить влияние парадигматического ряда на возможность/невозможность МСВ.
4) При анализе СВ и семантико-структурных свойств бессоюзных и союзных сложных предложений в русском языке XVI-XVII вв. требовалось установить границы трансформации друг в друга сопоставляемых полипредикативных единиц.
5) Изучение функционально значимых в ариантов, затронувшее три сферы их употребления: деловую
письменность XVIII в., эпистолярный стиль русских писателей XIX-XX вв. и и сторико-лингвистические тексты, близкие к живой разговорной речи, предполагало лингвотекстологический анализ, раскрывавший условия отбора определённых МВ, МСВ, СВ в дискурсе.
Гипотеза нашего исследования была предопределена сопоставлением неоднотипных фрагментов ГрВ в ИР Я. Её основу составляют два положения:
1)Типология ГрВ при синхронности его проявления неоднородна на каждом диахроническом срезе;
2) Она определяется внутренними закономерностями парадигматики и синтагматики каждого уровня.
Относительно материально-источниковедческой базы исторической лингвистики мы разделяем методологически важную позицию В.В. Иванова: "Не может быть сомнения в том, что только на основе глубокого познания языковой материи возможно создать ту или иную теорию языкового развития и что без опоры на факты языка любая теория оказывается построенной на песке и потому рассыпается при первом же столкновении с действительностью, т. е. с языковыми фактами" [Актуальные проблемы совр. лингвистики// Филолог, науки. 1978, № 5, с. 30].
Источники изучения ГрВ в содержательном, хронологическом и локальном планах были многообразными в зависимости от конкретного объекта и предмета анализа.
1) Основу анализа СВ и МСВ в позиции подлежащего составляют тексты древнерусского и старорусского периода." Особенно тщательно изучены тексты старорусского языка ХУ1-ХУН вв.
2) При описании МСВ была использована уникальная синтаксическая картотека сектора сравнительно-исторического изучения восточнославянских языков, которая составлялась в течение ряда лет целым коллективом под руководством В.И. Борковского.21
3) В отборе материала для осмысления МВ мы опирались на данные историко-лингвистических и диалектных словарей с последующей их коррекцией по материалам картотек "Словаря
1) Перечень изученных текстов см. в кн. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. Под ред. В.И. Борковского. -М.: Наука, 1978; см. также Глинкина 1962, с. 296-302.
2) Список текстов, послуживших основой этой картотеки, см. в кн. Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения. Под ред. В.И. Борковского. -М.: Наука. 1968, с. 291-296.
древнерусского языка X1-X1V" и "Словаря русского языка XI-XVII вв." (ИРЯ РАН).
4) Самым трудоёмким языковым источником оказались неопубликованные скорописные документы XVIII в., хранящиеся в Челябинском государственном архиве. Обзор этих текстов в аспекте лингвистического источниковедения дан С.Г. Шулежковой [1956], А.П. Чередниченко [1972], Л.А. Глинкиноц [1996].
5) Для сопоставления наших наблюдений с тем, что описано в исторической русистике, привлекались материалы исследований по истории отдельных явлений. Среди них особое место занимают классические труды С.И. Соболевского, A.A. Шахматова, Е.С. Ис-триной, Е.Ф. Карского, С.11. Обнорского, Л.А. Булаховского, В.И. Борковского, Т.П. Ломтева, академические монографии под ред. Р.И. Аванесова, В.И. Борковского, С.И. Коткова, В.В. Иванова.
6) Спорадически по мере надобности и возможности мы обращались к данным русской диалектологии, лингвистического источниковедения с его локальной ориентацией, а также к наблюдениям над ГрВ в современной русской разговорной речи.
Широкий диапазон источников разной лингвистической информативности позволил документировать наши выводы по эволюции отдельных типов ГрВ в истории русского языка и высказать своё отношение к некоторым глобальным теоретическим вопросам развития и нормативности русского языка, а в ряде случаев снять искусственное противопоставление в анализе диахронии-синхронии.
Таким образом, в работе принято широкое понимание ИРЯ как постепенной "смены системных отношений в тот или иной период существования языка" в тех частных звеньях, где есть своего рода "критические точки" в его развитии [Иванов 1978, 34], что, впрочем, не мешает языку, изменяясь, оставаться самим собой.
В качестве основных методов исследования ГрВ были использованы структурно-системное описание, в одном из объектов МСВ - сравнительно-историческое сопоставление трёх восточнославянских языков в средневековый период их жизни (XV-XVII вв.).
С ними сочетались следующие методические приёмы научного анализа:
- соединение источниковедческого и лингвотекстологическо-го подхода к материалу;
- выделение особо значимых для стилистики жанра тексто-образующих элементов, в том числе в сфере ГрВ;
- сопоставление "разночтений" в передаче одних и тех же тематических блоков по спискам летописи, что позволяет с высо-
кой степенью достоверности судить в рамках "малой диахронии" (1-2 столетия) о ГрВ как о живом динамическом процессе. Такая методика была использована для изучения ГрВ лексем по трём спискам Лаврентьевской летописи: Академическому, Радзивилов-скому и Троицкому [Глинкина 1995г].
Косвенно с ГрВ связано обращение к ретроспективному изучению исторической глубины отдельных конструкторов РРР, входивших некогда в исторические оппозиции по ГрВ [Глинкина 1995д). Наш приём получил признание в московской школе кол-локвиалистов и был отмечен в программном выступлении Е.А. Земской на X Международном съезде славистов [Земская 1988, с. 182, 189].
Достоверность полученных результатов обеспечена опорой на значительный материал, часть которого (южноуральские скорописные тексты XVIII в.) вводится в научный оборот впервые. Отдельные темы по ГрВ в аспекте южноуральского лингвокраеве-дения, выполненные на местных архивных текстах XVIII в. как кандидатские диссертации под нашим руководством (часть из них - совместно с проф. Г.А.Турбиным ), получили высокую экспертную оценку [А.П. Чередниченко 1973; JI.A. Конькова 1980; Н.В. Викторова 1993; H.A. Новосёлова 1996]. В работе привлекается значительный научный аппарат: это классические и современные труды по русскому и зарубежному языкознанию, сыгравшие важную роль в создании концептуального фундамента теории вариантности.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят в разработке концепции неравномерного и специфического развития разных типов ГрВ применительно к ИРЯ. Её основные параметры состоят в следующем:
♦ грамматическая вариантность выделена в иерархии языкового варьирования как наиболее характерная, отличающаяся многообразием вариативных форм;
♦ путём системно-структурного анализа установлена сложная типология ГрВ, которая структурируется в зависимости от парадигматики и синтагматики инвариантных единиц: MB, МСВ, ЛСВ, С В и связывающее их в дискурсе ФГрВ;
♦ определены разные количественные и качественные параметры "исхода" разновидностей ГрВ как неустойчивого диалектического комплекса тождество - различия;
♦ установлена типологическая близость развития МСВ в одном из звеньев близкородственных восточнославянских языков после распада древнерусского языка;
♦ впервые введены в научный оборот новые тексты из фондов провинциальной южноуральской канцелярии XVIII в.;
♦ разработаны принципы исторического лингвокраеведе-ния, которые могут быть основой для анализа любого частного проявления ГрВ в его истории;
♦ опробован ретроспективный подход к историко-лин-гвистическому объяснению глубины синтаксических явлений РРР;
♦ сформулирована проблематика дальнейшей научной разработки ГрВ в истории русского языка.
Апробация исследования
Разработка подходов к анализу ГрВ, создание программ по историческому лингвокраеведению на Южном Урале, в которые входит как обязательный компонент изучение ГрВ, публикация ряда статей и пособий, руководство работой аспирантов реализовались в течение 41 года (с 1957 г.) в Челябинском государственном пединституте (с 1995 г. - педуниверситете). Однако ряд самых значительных публикаций связан с непрекращавшимся научным сотрудничеством докладчика с ИРЯ РАН, где была выполнена кандидатская диссертация (1953-1956 г.), а затем -главы коллективных монографий сектора сравнительно-исторического синтаксиса восточнославянских языков [Глинкина 1968; 1978]. В итоге в академических изданиях опубликовано 23 работы докладчика общим объёмом - 16 печ. л. [Глинкина 1960; 1963; 1968; 1971; 1974; 1978; 1979; 1985; 1993; 1995а; 19956; 1995в и др.]. Основные положения и идеи были высказаны нами на ряде международных всесоюзных (всероссийских, межвузовских), региональных, внутривузовских конференций и опубликованы в статьях и тезисах. В 1983 г. докладчик принял участие в обсуждении докладов на IX Международном съезде славистов [Глинкина 1986].
Реализация планов научного исследования разных типов ГрВ в рамках исторического лингвокраеведения получила выражение в создании специальных программ [Глинкина и др. 1980; 1988; 1990], пособия "Лингвокраеведение на Южном Урале" [1993]. Подготовленное докладчиком научное содержание проекта "Лингвистическое краеведение на Южном Урале. Язык деловой письменности XVIII в." было отмечено грантом на всероссийском конкурсе грантов 1997, проводимом Уральским государственным университетом.
Этапы нашего исследования и становления предложенной
концепции ГрВ в ИРЯ можно условно определить как тематико-хронологические:
В 60-70 годы наша научная работа была направлена на изучение проблем синтаксического и морфолого-синтаксическо-го варьирования в структуре простого и сложного бессоюзного предложения: защищена кандидатская диссертация, написанная под руководством акад. Борковского В.И. [Глинкина 1962], опубликован по этой тематике ряд статей в центральных и местных изданиях ]Глинкина 1960; 1961; 1963; 1966; 1971; 1972]. В 19641967 г.г. автору было доверено написание главы "Вторые косвенные падежи" для коллективной монографии "Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков" под редакцией В.И. Борковского [1968]. Работа в целом и названный раздел получили ряд положительных откликов в России [Георгиева 1969], на Украине [Спринчак 1969], в Белоруссии [Янович 1969] и за рубежом [ОгаппеБ 1984; 1988; 1998]. Затем по поручению ИРЯ АН СССР была написана глава "Подлежащее" для исторической грамматики русского языка ("Синтаксис. Простое предложение.") [Глинкина 1978]. Работа получила высокую оценку рецензентов [Собинникова 1979; Попова 1979].
В этот период докладчик открыл для себя новую область научного знания - проблему тождества и различия лексемы и обратился к историко-лингвистическим и диалектным словарям, данные которых корректировались материалами картотеки древнерусского словаря Х1-Х1У и картотеки словаря языка Х1-ХУ11 вв. в ИРЯ АН. Это был один из первых опытов введения в научный оборот историко-лексикогра-фических источников, а также одно из первых подробных описаний субстантивного варьирования в ИРЯ [Глинкина 1967; 1972; 1974; 19746; 1975; 1976; 1978], на которое позже ссылался ряд исследователей [Азарх 1984; Шульга 1985; Копелиович 1988 и др.]. Параллельно были подготовлены и прочитаны вузовские спецкурсы по историческому синтаксису и историческому словообразованию. Одновременно с 1964 г. во внеурочной работе с одарёнными детьми в секции "Юный филолог" при Челябинском Дворце пионеров и школьников им. Н.К. Крупской начался сбор материала из текстов русской классической литературы XIX в. для задуманного нами словаря забытых и трудных слов. Это стало уникальным опытом создания картотеки устаревших слов силами "адресата" будущего словаря - самих старшеклассников.
В 80-е годы расширялась и углублялась избранная проблематика по МВ и СВ: на внутривузовских конференциях состоялись наши доклады по варьированию категорий рода, числа, па-
дежа и формы в истории прилагательных, местоимений, числительных, причастий, по историческому соотношению и варьированию возвратных-невозвратных глаголов, были сделаны обобщения по самым значимым проблемам ГрВ и впервые в исторической русистике предпринята попытка классифицировать МВ в зависимости от системно-структурных свойств лексем [Глинки-на 1979а; 19796], проведены наблюдения над взаимосвязью МВ с процессами лексикализации и грамматикализации [Глинкина 1983; 1984; 1988а], с явлением грамматической аналогии [Глинкина 19886]. Стала совершенно очевидной связь разных типов ГрВ со становлением и развитием грамматических норм в языке [Глинкина 1983; 1984; 1985; 1995а].
Принципиально важным считаем рождение в эти годы ю жноуральского исторического л и н г в о -краеведения. Для расширения лингвистической источниковедческой базы в условиях уральской провинции докладчиком было уделено много внимания транслитерации местных скорописных текстов XVIII в., введена в учебный процесс в вузе архивно-диалектологическая практика, для неё создана специальная программа "Историческое лингвокраеведение в учебном процессе", одобренная научно-методическим центром "Духовная культура Урала" при УСО АН СССР и опубликованная Уральским университетом [Глинкина 1990], защищены первые кандидатские диссертации по синтаксическому варьированию на местном лин-гвокраеведческом материале XVIII в., выполненные под нашим руководством (совместно с проф. Турбиным Г.А.). В последние 4 года по этой программе ведут архивно-диалектологическую практику в регионе наши аспиранты - И.А. Шушарина - в Курганском университете и М.С. Выхрыстюк - в Тобольском пединституте. Параллельно автор разработал и впервые прочёл спецкурс "Становление норм литературного языка и грамматическое варьирование" (28 ч.). Расширение источниковедческой базы сделало устойчивым интерес к южноуральскому лингвокраеведению, к языку деловой письменности конца XVIII в., осмыслению ГрВ в связи с функционально -стилистическим расслоением языка [Глинкина - публикации 1984; 1985; 1988; 1990; 1992; 1993; 1994; 1995а; 1995г; 1995е; 1996].
Научно-исследовательские интересы совмещались с научно-методической работой по историческому комментированию. фактов современного русского языка, и в первую очередь явлений парадоксальных, которые по своим истокам, как правило, были связаны с нейтрализацией грамматических оппозиций и стали "исходом" грамматического варьирования [Глинкина 1978; 1985]. Одновременно шла первичная обработка материалов картотеки
устаревших слов, к которой было привлечено 10 преподавателей кафедры. В течение 12 лет (с 1979 по 1991 г.) докладчик руководил регулярной рубрикой "Живое русское слово" в областной газете "Челябинский рабочий", где было опубликовано 186 статей, из них 110 написано ведущей. Опыт работы обобщён в сб. "Языковой облик уральского города" [Глинкина 1990].
В 90-е годы была закончена работа над иллюстрированным словарём забытых и трудных слов из произведений русской литературы ХУШ-Х1Х вв. [Глинкина 1998}; удалось обобщить сделанное по лингвокраеведению на Южном Урале [Глинкина 1995ж], создать пособие по этой теме для школы [Глинкина 1993] и подтвердить на местном материале уже высказанную в литературе С.И. Котковым и В.В. Ивановым мысль о более раннем становлении грамматических норм в языке делового письма, о его наддиалектном статусе на этом языковом уровне уже к XVIII в. и об активном жанрово-стилистичес-ком расслоении деловой письменности конца XVIII в. [Глинкина 1993г; 1995а; 19956]. Были защищены ещё две кандидатские диссертации по южноуральскому историческому лингвокраеведению.
Научно-просветительская работа автора обрела с 24/11 97г. новую форму еженедельных радиобесед по областному радио и руководство радиослужбой языка для челябинцев (до 1 июня 1998 г. проведено 60 бесед, записанных на 5 кассет и уже служащих методическим пособием в работе по культуре речи в Челябинском педуниверситете, Курганском университете и в Челябинском колледже "Наука" (учитель-методист В.Ю. Зайцева).
Кажущаяся разнонаправленность научных, научно-методических и культурно-просветительских интересов докладчика изначально и постоянно была стимулирована глубинным интересом к интегративной и неисчерпаемой теме языкового варьирования в его сложной истории и взаимосвязях.
Положения диссертации, вынесенные на защиту
I. ГрВ представляет на каждом этапе эволюции русского языка существенную часть корпуса его варьирующихся единиц.
II. Диапазон ГрВ и механизм развития регулируются системно-структурными ограничениями и исторически сложившейся языковой ситуацией.
III. ГрВ - динамическое явление, отражающее диалектику развития грамматических категорий в противоречиях и единстве их грамматического значения и формы.
IV. Соответственно - типология грамматических
вариантов определяется в зависимости от парадигматики и синтагматики синхронно эквивалентных инвариантных единиц.
V. Разные типы грамматических вариантов проявляют неодинаковые тенденции в своём историческом развитии:
1. На морфологическом уровне в силу более глубокого воздействия на параллельные лексемы закона грамматической аналогии относительное время существования морфологических вариантов короче, а пути трансформации ГрВ более радикальны. Это устранение асимметрического дуализма языковых знаков за счёт лексикализации, грамматикализации одного из вариантов, рождения грамматических омонимов и реже -дополнительной дистрибуции.
2. На лексико-синтаксическом уровне разрушение варьирования завершается узуальным выбором одной или двух форм и их грамматикализацией.
3. Чем больше языковых единиц в структуре м о р ф о-лог о'- синтаксических и синтаксически х вариантов, тем медленнее процесс нейтрализации варьирования и тем выше жизнестойкость каждой параллельной единицы в синонимическом ряду.
VI. Неодномерный характер и сравнительная недолговечность ГрВ в разных звеньях системы обеспечивают языку в его эволюции относительную диахроническую устойчивость и единство на уровне грамматики.
VII. ГрВ как конкуренция древнерусских и старославянских вариантов в силу их исторической общности лишь осложняет, но не нарушает общего г о м о г е н н о г о характера ГрВ в истории русского языка.
VIII. ГрВ, будучи сложным проявлением эволюции языка, является составляющей функционально значимой вариантности на уровне текстсобразования. Это обстоятельство мотивирует необходимость расширения лингвотексто-логической базы исследования, в частности за счёт скорописных текстов деловой письменности из провинциальных канцелярий к. XVIII века.
IX. ГрВ как непрерывный процесс и проявление неединообразных структурных потенций языка является основой для формирования узуальной и кодифицированной грамматической нормы, что обусловливает возможности широкого прагматического подхода к теме на современном этапе истории русского языка.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Грамматическая вариантность как объект исторической русистики
К концу XX в. языковая и речевая вариативность получила неоднозначную интерпретацию в автономных системах ряда дисциплин в соответствии с различными целями, задачами и методами изучения. Так, в логике это часть проблемы соотношения понятия и слова, тождества, симметрии и противоречия. В философии - особый аспект взаимосвязи общего и единичного. В психологии и смежной с ней п с и х о лингвистике - часть проблемы знаковой природы слова, речевой деятельности с учётом субъективных и объективных факторов порождения смысла, речи и текста, в лингвистике - это проблема тождества и отдельности языковых единиц и вместе с тем - проблема асимметрического дуализма языкового знака. В Лингвистическом энциклопедическом словаре [Солнцев 1990, 80] дано два определения термина вариант: вариант как модификация некой нормы или отклонение от неё и в а р и а н т как член оппозиции вариант-инвариант. При этом под вариантами понимаются разные проявления одной и той же сущности, например, видоизменения одной и той же единицы, которая при всех изменениях остаётся сама собой. Инвариан т - это абстрактное обозначение одной и той же сущности (например, одной и той же единицы в отвлечении от её конкретных модификаций - вариантов) [Там же]. Общая теория вариантности/ инвариантности в русской лингвистике, а тем более в исторической русистике пока имеет очень нечёткие контуры. Не случайно она не нашла отражения в ряде последних обобщающих работ по грамматике и в справочниках [И.А. Мельчук. Курс общей морфологии. Введение. Часть первая: Слово. Москва-Вена, 1997; Современный русский язык. Под ред. В.А. Белошапковой. Изд. третье, испр. и дополненное. М.: Азбуковник, 1997; Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков, П.А. Лекант. Краткий справочник по современному русскому языку. М.: Высшая школа, 1995]. Есть опыт выделения инвариантной-неинвариантной оппозиции морфем [Лопатин 1991]. Мы принимаем в самом общем виде вариантно-инвариантный подход за основу анализа варьирования в истории русского языка, вкладывая в понятие инварианта отображение общих свойств класса
относительно однородных объектов. Вместе с тем считаем, что вариантность проявляется не только на всех системно-структурных уровнях языка, но и во всех его функциональных стилях, где обнаруживается свой набор предпочтительных вариантов "речевых жанров" (по М.М. Бахтину) и свои способы их комбинации. Инвариантность/вариантность для нас служит классификационным свойством языкового устройства и соответственно - его описания, т.к. предполагает внимание к совокупности: з н а ч е н и е
форма-функция, которое предназначено углубить научное представление о системности языка во всех его звеньях и на всех этапах развития.
Узловые вопросы вариативности онтологически связаны в отечественном и зарубежном языкознании с такими глобальными проблемами, как отдельность и тождество слова, соотношение в нём лексического и грамматического, взаимодействие словообразования, словоизменения и формообразования, поуровневый анализ парадигматики и синтагматики языковых единиц, формирование нормы, специфика речевой деятельности и сферы коммуникации, механизм языковой эволюции. Такая многомерность предмета вариативности придаёт новому направлению в лингвистике интегративный характер. Круг названных теоретических проблем так или иначе был всегда в нашем поле зрения, хотя мы и не претендуем на их полное решение относительно историко-лингвистического материала [Глинкина 1979а; 19796; 19956 и др.].
1.1. Вариантность и диахрония
Проблема проявления вариантности в диахронии является новой для языкознания XX века. Неслучайно среди трёх десятков разновидностей вариантов в "Словаре лингвистических терминов" О.С. Ахмановой нет понятия о диахроническом варьировании, как до сравнительно недавнего времени не было понятия о диахроническом тождестве языковой единицы: вслед за Ф. де Соссюром варьирование как равнозначное функционирование соотносилось только с синхронией. Вариантность различных языковых единиц, несомненно, проявляется прежде всего синхронно. Однако при этом далеко не всегда можно определить причинно-следственные связи в пределах той или иной разновидности варьирования. Варианты выступают как множество трудно поддающихся упорядочению языковых единиц [АГ-80; Головин 1983], а их классификация, будучи чисто описательной, не имеет объяснительной силы. Однако практика обращения к вариантности в диахро-ническом плане
показала правомерность и необходимость исторического изучения проблемы. Варианты возникают в процессе исторического развития языка и являются сигналами этой динамики в системе языка. Исторический подход к проблеме тождества и различий в языке, а значит и вариантности, соотносителен с философским решением проблемы. Тождество и различия - это лишь момент движения, поэтому их нельзя абсолютизировать, превращать в нечто неизменное. Исследование вариантности в диахронии предполагает не только "констатацию возможностей языка на определённом хронологическом срезе (это тоже необходимо как точка отсчёта), но и позволяет выявить путём сравнения нескольких синхронных срезов историческое движение, процесс развития, продуктивные и непродуктивные звенья системы, причинные связи и взаимодействия разных сторон языка, а в конечном итоге -движущие силы языковой эволюции. При этом возникают специфические задачи: установить историческое тождество слова, выявить состав и совокупность вариантных рядов, вскрыть причинность в возникновении или разрушении каждого вариантного ряда.
Вариантность в диахронии стала предметом изучения лишь в последние два десятилетия. На старославянском материале лексические и грамматические варианты рассматривались в ряде работ К. Н. Ходовой [ВЯ, 1970, № 5; Совет, славяноведение, 1971, № 1; ВЯ, 1975, № 5], в области древнерусской лексики её исследовали с позиций текстологии Л.П. Жуковская [1967; 1976] и Н.Г. Михайловская [1967]. Фонетико-фонологическое варьирование в связи с синтагматикой и парадигматикой на материале древнерусских текстов XII-XIII вв. было фундаментально изучено В.В. Ивановым [1968; 1995, ДГр.-95]. Морфонологичеекой вариантности в древних славянских отглагольных именах был посвя-щён доклад Ж.Ж. Варбот на VII Международном съезде славистов [1973]. Межъязыковая (греческо-славянская) вариантность как средство переводческой техники в первых старославянских переводах описана в монографии Е.М. Верещагина [1972]. Тождество древнерусского слова на разных уровнях рассматривает Э.Г. Шим-чук [1974]. В фундаментальной монографии Ю.С. Азарх "Словообразование и формообразование в древнерусском языке" [1984] внутренне заложена идея тождества и различия морфем. Морфемное устройство и варьирование анализируется в работах В.В. Лопатина и И.С. Улуханова [1983; 1988; 1996 и др.], Ж.Ж. Варбот [1969; 1984], Н.П. Зверковской [1986]. Внутренние резервы лексики и грамматики одного памятника исследует O.A. Черепанова [1976]. Попытка изучить варьирование в процессе функционирования отдельных элементов грамматической системы древкерус-
ского языка, а именно в эволюции грамматических категорий рода, числа и в разновидностях склонения древнерусских существительных, сделана в ряде наших статей [Глипкина 1967; 1974; 1976; 1995]. Истории отдельных сторон русского слова, изменениям в словоизменении и формообразовании в системе посвящены обстоятельные исследования в области исторической грамматики В.В. Иванова, В.М. Маркова, Г.А. Хабург'аева, И.Б. Кузьминой, М.В. Шульги, В.Б. Силиной, С.П. Лопушанской, М.Л. Рем-нёвой, В.Б. Крысько, С.И. Иорданиди и др., а также ИГРЯ. Гла-гол-85, ДГр.-95.
Представляется, что и чисто исторический (синхронно-диахронный) анализ вариантов в памятниках определённого времени и диахронический подход к вариантности с его причинной направленностью одинаково допустимы, правомерны и желательны в отношении языка древнерусской, старорусской и более поздней письменности. Установление степени и пределов колебаний единиц разного уровня, определение хронологического "пика" вариантности - это инструмент для осмысления вариантности в диахронии как проявления эволюции в языке. Применительно к истории русского языка из отношения вариантности к проблеме "диахрония-синхрония" неизбежно вытекает, что для выяснения хотя бы приближенно полного представления обо всех параллельных вариативных средствах языковой системы на определённом синхронном срезе необходима регистрация и анализ максимального количества вариантов в письменных памятниках данного периода. Лингвостатистичсский метод особенно продуктивен в анализе морфологической вариантности, как это убедительно показано в коллективных работах по именному склонению в славянских языках Х1-Х1У и XV-XVII вв., выполненных ленинградскими учёными [Герд, Капорулина, Колесов 1974; 1977]. Картина не может быть столь же объективной при анализе вариантности в одном тексте древней письменности, хотя в научном плане и этот аспект исследования представляет значительный интерес, будучи "единичным" по отношению к "общему", "интериндивидуальному" - к письменному языку определённой поры [Глин-кина 1993]. В целом же диахроническая морфология русского языка, которая строится на эволюции отдельных оппозиций, -дело отдалённого будущего.
Идеальная структура сбора материала по памятникам письменности, по-видимому, должна была бы соединить все отмеченные направления и поиски. Относительно любого синхронного среза эта схема должна содержать, на наш взгляд, варианты разного характера: проявляющиеся внутри одного и того же текста,
варианты в разных редакциях и списках одного текста с учётом хронологии, варианты в памятниках одного и того же жанра и времени. Вместе с тем наибольшую полноту картины варьирования лексем в связи с определёнными грамматическими категориями, например рода и числа существительных, обеспечивают словарные материалы картотек древнерусских словарей Х1-ХУШ и Х1-Х1У веков и в известной мере - "Материалы для словаря Древнерусского языка" И.И. Срезневского, а также вышедшие тома "Словаря русского языка Х1-ХУП вв." АН СССР, Словаря древнерусского языка Х1-Х1У вв., Словаря русского языка XVIII в.
Таковы в самых общих чертах штрихи современного научного знания, в котором определяется объективно-исторический статус ГрВ как многопланового и сложного проявления языковой эволюции.
1.2. Вариантность и норма
В синхронном плане вариантность рассматривается прежде всего в аспекте соотношения системы и нормы. Это касается и лексикографической практики при составлении нормативных словарей современного языка и теоретических исследований.
Поскольку норма является динамической категорией культуры речи, она не может быть исторически неизменной. Поэтому проблема нормативной системы, а значит и нормативных вариантов, актуальна по существу для всей письменной истории русского языка, хотя и значительно осложнена применительно к прошлым этапам письменности.
Русистика пока располагает только одним конкретным исследованием исторической изменчивости языковой нормы, выполненным К.С. Горбачевичем [1971; 1975). В работе представлен в сравнении нормативный материал двух последних столетий.
В нормативно-статистическом и структурно-системном планах рассматриваются варианты в монографии Л. К. Граудиной [1980] и в опыте частотно-стилистического словаря "Грамматическая правильность русской речи" [1976].
Опыт определения норм книжно-славянского языка с учётом вариантов представлен в монографиях М.П. Ремнёвой [1985], М.М. Живова [1987], Б.А. Успенского [1994]. Параллельно были установлены многие нормы грамматики делового языка, ставшие общенациональными [С.И. Котков 1974; В.В. Иванов 1978; 1990]. В целом же ретроспективное учение о норме ещё не создано. Исторические грамматики русского языка пока ещё не в состоянии ответить на ряд вопросов о соотношении нормы и вариан-
тности в разные эпохи, в частности, о выборе нормативного варианта, об отражении в нём закономерных свойств эволюционирующего языка, о различии нормы по стилям, о времени утверждения в социально-языковой практике того или иного варианта, об основных тенденциях сосуществования нормативных и ненормативных, закреплённых и незакреплённых в литературном языке вариантов, о том, как происходит отбор нормы в истории русского языка. Для исторических исследований оказывается актуальным, таким образом, выявление внутрисистемных и экстра лингвистических факторов порождения вариантности языка на егор азныхуровнях.
Особенно существенно изучение варьирования в связи с историей параллельного употребления старославянской и древнерусской морфемики в древних и поздних памятниках письменности разного жанра, так как это поможет сделать вывод о взаимодействии русизмов и старославянизмов в определённый период и о ведущих тенденциях в этом процессе. Хронология соотношения этих норм, протекавшая в борьбе конкурентных вариантов разного происхождения, пока ещё точно не установлена.
1.3. Проблема исторического изучения языковой вариантности важна и для определения путей формирования лексической и грамматической омонимии и синонимии, так как процессы лексикализации и грамматикализации вариантов - это одна из тенденций в их развитии. По существу, с грамматическим варьированием в языке соприкасается формирование системных свойств русской лексики и динамическое равновесие словоизменения и словообразования.
В докладе перечислены далеко не все проблемы, связанные с вариантностью в историческом плане, но из сказанного с очевидностью вытекает многоаспектность, актуальность и перспективность темы исследования.
2. К проблеме типологии грамматической вариантности в истории русского языка
Относительно диахронии представляется целесообразным функционально-структурный подход как основание типологии вариантов и различие их как эмических единиц: фонема, морфема, граммема, лексема, синтаксема [Глинкина 19796]. Поэтому при изучении онтологии вариантности допустимо положить в основу типологии вариантов любой относительно автономной подсистемы языка сходство и различия переменных единиц данного уровня.
2.1. На уровне слова традиционно различается варьирование семантическое и формально-грамматическое. Своеобразие лексико-семантического варьирования в том, что его единицы, отдельные "лексико-семантические варианты" многозначного слова, никогда не занимают одинаковой позиции, а это проявляется в их разной сочетаемости и рождает сомнение в правильности отнесения их к вариантам одного и того же слова. Как известно, особенно детально изучено формальное варьирование на уровне фонемы и морфемы, хотя с последним далеко не всё ясно, поэтому словообразовательные варианты выделяются отнюдь не в каждой классификации вариантов. Спорным остаётся вопрос о том, всегда ли тождество морфем приводит к тождеству слов. Поскольку различие в структуре слов неизбежно связано с различием лексем, едва ли можно категорически говорить о тождестве слова с разными словообразовательными аффиксами, хотя и одинаковой семантикой, даже если они этимологически родственны, как, например, древнерусские ловиско-ловище [Гринчи-шин 1975]. Нам представляется более убедительным осторожное решение этого вопроса в работах В.В. Лопатина и И.С. Улухано-ва, которые учитывают, что тождество на уровне слов значительно шире, чем тождество на уровне морфем, т.к. зависит и от включения на уровне слова категориального и грамматических значений, ср. структурно тождественные, но тем не менее слова-неварианты: точило-точила, громило-громила, отличающиеся одушевлённостью-неодушевлённостью. В основу классификации морфологических вариантов может быть положено лишь учение о формах слова, грамматических категориях и грамматических значениях. Грамматические (морфологические) варианты понимаются как функционально равнозначные словоформы одной лексемы, возникшие в одном парадигматическом ряду, тождественные по лексическому, общему грамматическому значению, словообразовательной основе и сочетаемости. Варианты проявляются на уровне словоизменения и отличаются друг от друга только окончанием. В соответствии с этим определением под инвариантом понимается лексическая, структурно-грамматическая и функциональная общность сопоставляемых словоформ. Формальные варианты, объединённые общим инвариантным значением, составляют вариантный ряд, или вариантность определённого типа. Для более чёткого выделения грамматического варьирования как объекта научного познания представляется существенным установить его сходство и различия не только с синонимией, но и с дублетностью.
При широком понимании варьирования и вариантов под это явление подводятся все параллельные способы передачи языковыми средствами одного и того же содержания, например морфологические, лексические, синтаксические функционально равнозначные единицы в пределах функционально-семантического поля, а также все типы языковой синонимики. Термин "вариант" используется при этом по существу нетерминологично [Ев-геньева 1970; Бондарко 1971].
В других случаях этим термином обозначают однокоренные семантически и функционально тождественные слова одного и того же лексико-грамматического класса, независимо от их морфологической структуры, например, поворот - свёрток, лиса -лисица. При этом вариантами оказываются как словоформы одной лексемы, так и самостоятельные лексемы [Ахманова 1957; 1960; Блинова 1968].
Синонимия, как это достаточно убедительно показано в ряде специальных работ [Филин 1963; Рогожникова 1966; 1967; Иван-никова 1972 и др.], по своей природе предполагает лишь функциональную эквивалентность единиц и не требует от них строго обязательного структурного тождества. Вариантность - явление не только функциональное, но и структурно-семантическое, т.е. более узкое, частное, видовое по отношению к синонимии. Суть расхождений между двумя последними определениями в том, какие различия следует считать существенными для вариантов: пустые формальные расхождения в знаках, которые не нарушают лексико-семантической и функциональной общности сравниваемых единиц (функциональный подход), или минимальные грамматические различия словоформ, которые находятся в отношениях дополнительной дистрибуции, составляют оппозицию и потому никогда не могут быть абсолютно тождественными (структурно-системный подход). Вслед за Л. Ельмслевом ряд авторов называет первый тип варьирования свободным, а второй - связанным. Если даже не принимать перенесения термина "вариант" в систему регулярных грамматических оппозиций вместо традиционного термина "словоформа" как член парадигмы, нельзя игнорировать тех отношений исторической взаимосвязи и преемственности, которые существуют между оппозитивными словоформами (связанными- вариантами), с одной стороны, и неоппозитивными (свободными вариантами), с другой. Так, многие современные свободные грамматические варианты по своему происхождению являются словоформами с нейтрализованной дополнительной дистрибуцией. Например, современные стилистически отмеченные вариантные формы сравнительной степени менее и меньше в древнерусском языке Х1-ХП
вв. были противопоставлены по роду и числу: менее - форма ср. р. ед. ч., а меньше - форма муж. р. мн. ч. Другой пример: современные грамматически равнозначные формы деепричастий сняв и снявши различались в древнерусском как краткие формы действительных причастий прошедшего времени в разных формах рода: сняв - муж., ср. р., снявши - жен. р. В том и другом случаях связанные варианты со временем стали свободными в результате разрушения оппозиции по грамматическому роду.
Идея систематизации морфологических вариантов с учётом грамматических значений и аффиксов формообразования принадлежит Ф.П. Филину, а первые шаги в её реализации были сделаны К.С. Горбачевичем, авторами коллективного труда "Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов", а также лексикографами, работающими над историческими словарями. Систематизация древнерусских грамматических вариантов наиболее последовательно, хотя и несколько схематично (автор учёл далеко не все реально существовавшие в тот период наборы флексий и вариантные ряды), реализована на основе оппозиционного анализа Т.П. Ломтевым. И хотя ни одна работа по исторической морфологии не обходится без указания на формальные варианты, пока ещё не создана полная типология морфологических вариантов в пределах разных частей речи на определённых диахронно-синхронных срезах. Какие лингвистические и нелингвистические критерии можно положить в основу такой классификации?
Вариантность - системное явление, охватывающее разные стороны языка, поэтому основу типологии любого уровня могут составлять лишь сходство и различия переменных единиц данного уровня. Так, в основу типологии морфологических вариантов должно быть положено учение о формах слова, грамматических категориях и грамматических значениях. При этом существенно разграничение словоизменения, формообразования и словообразования, как это ни сложно относительно древнерусского и старорусского периодов: структура и взаимосвязь этих категорий исторически изменчивы, а границы между ними подвижны.
Морфологические варианты должны быть также отграничены от смежных с ними морфонологических вариантов и грамматических дублетов. Морфологические варианты - изменяемые словоформы, принадлежащие к одному парадигматическому ряду, тождественные по грамматическому значению, семантике и функции, различия в которых касаются только форм словоизменения, но не затрагивают общего для вариантов грамматического
значения. Морфоно логические варианты, в которых проявляется алломорфность любого морфа, на наш взгляд, не образуют новых словоформ и не существенны для словоизменения. Ср. др. русск.: костий - костей, родомъ - родъмъ, язъ-я и т.д. Отметим сходство и различия между грамматическими/морфологическими вариантами и дублетами.
Грамматическое варьирование (ГВ) и грамматическая дуб-летность (ГД) - однородные системные явления, которые объединяются рядом факторов:
- общностью генетических истоков: то и другое возникает либо при нейтрализации грамматических оппозиций, либо при рождении новой грамматической корреляции;
- эквивалентностью функционирования, а следовательно, равнозначной заменой в одинаковых контекстах, которая обеспечена единством лексической, общекатегориальной, словообразовательной семантики и основного грамматического значения форм;
- одинаковыми историческими судьбами;
- сходными путями трансформации ГВ и ГД за счёт развития новых коннотаций у одного или обоих тождественных значений и возможной омонимизации;
- сложным однотипным взаимодействием с грамматической аналогией;
- относительной недолговечностью ГВ и ГД, которые на любом этапе жизни языка выступают как признак эволюции его грамматических категорий;
- неоднозначной взаимосвязью с соседними языковыми уровнями: лексикой и словообразованием;
- потенциальными возможностями выбора одной формы в качестве нормативной при кодификации или при становлении узуальной нормы.
Различия между обоими типами формальной избыточности в языке вытекают из их неодинаковой обращённости к формообразованию.
Морфологические варианты возникают в сфере словоизменения и являются равнозначными словоформами одного и того же слова, которые отличаются только флексией. Морфологические дублеты - это единицы более сложного структурного порядка: они сопряжены с образованием производных форм слова, в которых при тождестве семантики, словообразовательной основы и общего грамматического значения десемантизирован формообразующий аффикс. Сравните, ГрВ:
домове = дамы = дома - им. п. мн. ч.; и ГрД: бояти = боятися; боле = больше-, умыкаху = умыкиваху.
Границы между ГВ и ГД очень зыбки. Они проходят в сфере, где совершается языковое таинство рождения свежих номинаций путём превращения формы слова в отдельное слово, где есть многозначность морфем.
Типология ГВ и ГД неотделима от теории частей речи, словообразования и формообразования, поэтому в её основе лежит соотношение грамматического значения и грамматической формы в любой категории изменяемых частей речи [Глинкина 1990].
2.2. Фразеологизмы как особый семантико-грамматический класс номинативных единиц, имеющих при раздельной оформленности цельное значение, несомненно, должны занимать особое место в классификации грамматических вариантов. С развитием "фразеологической морфологии" в русском языкознании к началу 90х годов накопилось немало наблюдений над варьированием компонентов фразеологизмов в процессе их функционирования в современном языке [В.Л. Архангельский, Е.И. Диброва, Р.Н. Попов, В.П. Жуков, В.Н. Телия, Ю.А. Гвоздарёв, В.М. Мокиенко, A.M. Чепасова, Л.Я. Костючук, С.Г. Шулежкова и др.]. Была констатирована возможность изменения количественного и качественного состава фразеологизмов при сохранении ими категориальной семантики. К сожалению, диахроническая фразеология в этом аспекте изучена слабо. Но для наблюдений над варьированием устойчивых единиц в истории русского языка уже сейчас можно использовать как надёжный источник вышедшие тома историко-лингвистических словарей по русскому языку XI-XVII, XI-XIV и XVIII в. и "Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX в.", т. 1, 2. Под ред. докт. филол. н. А.И. Фёдорова [Новосибирск: Наука 1991].
2.3. Промежуточное положение между лексико-семантическими и синтаксическими вариантами занимают, на наш взгляд, объединённые общей семантикой служебные слова и примыкающие к ним устойчивые сочетания, эквиваленты слов в функции служебных [Черкасова 1967; Рогожникова 1977; 1981; Кобзев 1994]. Нам очень близка позиция Р.П. Рогожниковой: "При рассмотрении вопроса о вариантах служебных слов следует иметь в виду, что составные служебные слова и их варианты оформляют идентичные по структуре и семантике конструкции" [1981, 93]. Механизм варьирования
связующих фразеологических единиц в русском языке тонко прослеживает А.П. Чередниченко [Пути формирования связующих фразеологических единиц в русском языке// Семантика слова, образа, текста. -Архангельск, 1995}. Формированию пояснительных союзов и их варьированию в истории русского языка посвящены две наши статьи [Глинкина 1970; 1978|. В целом же тема варьирования контекстов при формировании служебных слов ещё ждёт углублённого историко-лингвистическо-го исследования и обобщения всего сделанного.
2.4. Что касается варьирования синтаксических единиц, в этой области Гр.В мы не располагаем ни одной обобщающей работой на уровне синхронии, а тем более диахронии, в которой бы фиксировались в системе явления обязательной/необязательной модификации грамматических единиц и отмечалась бы их предсказуемость/ непредсказуемость. Синтаксическое варьирование обычно иллюстрируется разными случаями замещения синтаксической позиции объекта при поливалентных глаголах на материале современного русского языка. А между тем, в основу классификации СВ, как и при анализе МВ, было бы логично положить структурно-семантический принцип и соответственно ставшую традиционной классификацию синтаксических единиц в современной науке: синтаксическая форма слова (по Г.А. Золотовой - синтаксема), словосочетание, простое предложение, сложное предложение, сложное синтаксическое целое.
В свою очередь, функциональная типология каждого из этих звеньев, в том числе синтаксем, может быть описана в терминах-понятиях коммуникативного синтаксиса. Так, синтаксема различается как свободная, обусловленная и связанная [Г.А. Зологова Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М.: Наука, 1988, с. 4-5].
Основные параметры синтаксемы:
1) категориально-семантическое значение,
2) соответствующая ему морфологическая форма,
3) вытекающая из (1) и (2) способность реализоваться в определённых позициях.
Назовём разные случаи ролевого функционирования слов-синтаксем морфосинтаксическим варьированием (МСВ). Этот термин не используется ни в одной из существующих "отечественных" классификаций вариативных единиц, в том числе и в нашей [Глинкина 1979]. Термин МСВ принадлежит А. Граннесу [Избранные труды по русскому и славянскому языкознанию. Под ред. В.Б. Крысько. М.: Языки русской культуры, 1998]. Автор обозначает так "морфологические колебания" в "объектном пред-
икативе" и в других синтаксических позициях.
2.5. Типология ГрВ синтаксических единиц самого высокого ранга (предложения, сложного предложен и я) осложняется их многокомпонентным составом, полисеман-тичностью и возможностью ГрВ различных синтаксем в их структуре. В целом же на этом уровне в основе идентификации сложных синтаксических единиц как ГрВ лежит совокупность следующих параметров:
а) совпадение конструктивных свойств, лежащих в основе синтаксической связи (соположенность частей, соотношение лек-сико-грамматических категорий глаголов-сказуемых, наличие "опорных компонентов");
б) совпадение основных грамматических средств выражения одинаковых смысловых отношений [Ковтунова 1955; Стани-шева 1964; Золотова 1970];
в) равнофункциональность и допустимость трансформации сравниваемых единиц;
г) возможность их включения в однородный ряд [Шведова
1967];
д) гомогенность происхождения, в отличие от МВ, где при падежном варьировании разных склоняемых слов и при формообразовании глаголов имели место гетерогенные параллельные формы, ср. ст.слав. - др.рус. формы Р.п. ед.ч.
3. Морфологическая вариантность
В ряде наших работ рассматриваются системно обусловленные морфологические вариантные ряды прежде всего в сфере и менного словоизменения [Глинкина 1967; 1972; 1974а; 19746; 1975; 1976; 1978; 1979а; 19796; 1983; 1984а; 19846; 1988а; 1988б;1990; 1992а; 19926; 1993а; 19936; 1994; 1995а; 19956]. Морфологическое варьирование в формальном выражении именных категорий рода, числа и падежа в ИРЯ представляет значительный научный интерес для сравнительно-исторической, диахронической морфологии: систематизированные хронологически "узлы" вариативности обнажают основные направления эволюции именных частей речи.
3.1. Морфологические варианты грамматического рода в древ-
землл
великаго
Силиным.
земл'к
великого
сильной.
нерусском именном склонении
3.1.1. Эволюция грамматического рода и морфологическая вариантность в субстантивной парадигме единственного числа
В славистике общепринято положение о ведущей роли грамматического рода в развитии словоизменительной грамматической системы [Потебня (по изд 1958 и 1968 г.); Обнорский 1929; Кузнецов 1961; Зализняк 1964; Иванов 1965; Карпинская 1966; Журавлёв 1967; Горшкова, Хабургаев 1981, Шульга 1988; Копелиович 1995}.
Принятые нами критерии родовой идентификации существительных опираются на их парадигматику и син т а г м а т и к у, т.к. учитывается выражение грамматического рода с учётом флексий всей падежно-числовой п арадигмы лексемы, а также согласование с другими именными классами. Кроме того, прослеживается проявление этой категории в соотношении с языковой интерпретацией категорий пола, лица, одушевлённости-неодушевлённости [Немировский 1938; Ревзина 1970; Бондарко 1976; Ицкович 1980; Крысько 1994]; во взаимосвязи грамматического рода и словообразовательной структуры имён [Азарх 1984]. Колебания в грамматическом роде у существительных с одинаковой основой не могли касаться всего класса существительных, а проявились в сравнительно ограниченных рядах определённой модели или семантики [Глинкина 19796]. Среди них описанные в историко-лингвистической литературе разновидности полного и неполного субстантивного родового варьирования:
- названия лиц мужского пола с "женской" флексией -а: слуга, сатана; Данило-Данила;
- существительные личные/неличные с уменьшительными суффиксами -ушк, -ишк, -онк, -енк, -енц с их колебаниями по всем трём родам;
- существительные общего рода [Азарх 1984; Хабургаев 1990].
Менее изучены колебания в грамматическом роде среди
древнерусских названий животных с основой *г' {лебедь, гусь, голубь и др.), отмеченных в прошлом как имена женского рода.
В отличие от первой, а отчасти и второй группы, где колебания в грамматическом роде не сказались на всей падежно-числовой парадигме, в этой группе различия первоначально проявлялись лишь синтагматически, на уровне сочетаемости с адъективными именами, только при переходе этих существительных в мужской род и продуктивный класс - основ колебания ох-
ватили всю падежно-числовую парадигму.
Особое внимание уделено родовым вариантам в функцио-
нировании имён-названий невзрослых существ-детёнышей домашних и диких животных, птенцов, детей: осля, отроча и т.д. (отроча ... кърмимъ и всяко отроча). При несомненном преобладании ср. р. в ДРЯ колебания имели место между формами муж. и ср. р. На истории стабилизации в этих номинациях грамматического рода по признаку пола сказались два фактора: 1) устойчивая тенденция к установлению однозначной соотнесённости значений пола (лица), одушевлённости с муж. или жен. р.; 2) конкуренция однокоренных производных имён с релевантными по грамматическому роду суффиксами: жеребя - жеребёнок - по диалектам: жеребок - жеребчонок [ДАРЯ, т. I, карта 35]. Этот процесс вытеснения значения и формы ср. р. проявился в неодинаковой частотности разноструктурных однокоренных синонимов в довольно поздних памятниках XVII в. [Ха-бургаев 1969; Котков 1974; Марков 1974; Азарх 1984].
Особое положение в грамматической классификации вариантов древнерусского слова должны занимать колебания в грамматическом роде существительных типа древнерусских бедро -бедра, берлогъ - берлога [Глинкина 1974]. С одной стороны, в силу некоррелятивного характера категории рода такие формы следует толковать как разные лексемы, а не словоформы одной лексемы, так как на синхронно-диахронном уровне они не входят в общую грамматическую оппозицию. С другой стороны, их всё-таки можно назвать вариантами, так как они не противоречат общему подходу к вариантам", относятся к словам с одинаковой семантикой, функцией, основой и генетически восходят к родовой грамматической оппозиции у общеславянского имени, некогда нерас-членённого на существительное и прилагательное.
Специфика этих исторически самых долговечных, но сегодня архаичных родовых колебаний во всей парадигме описана на материале живого общенародного языка [Обнорский 1927], языка древнерусских и старорусских текстов [Шамина 1971; Глинкина 1972; 1974; Азарх 1984] и в современном русском литературном языке [Гор-^ачевич 1971; Граудина, Ицкович, Катлинская 1976; Граудина 1980].
В дублирующих друг друга лексемах, означающих неодушевлённый предмет, нейтрализована категория рода. По "Материалам..." И.И. Срезневского и другим историко-лексикогра-фическим источникам удалось установить, что в XI-XV вв. функционировало около 300 пар генетически однородных славянских и заимствованных коррелятивных по роду существительных. Они представлены шестью рядами парадигматической родовой корреляции:
-а/-ъ,ь: ряда-рядъ, завора-заворъ, лучь-луча;
-о/-а: бедро-бедра, блюдо-блюда;
-о/-ъ: мыто-мытъ, бересто-берестъ;
-ъ/-ь: възрастъ-върасть, кедръ-кедрь;
-ь (муж. и жен. р.): степень, псалтырь;
-ъ/-а/-о: j>(?5-_yc?o, глезнъ-глезна-глезно.
По своему происхождению и морфологической структуре основная масса древнерусских родовариантных имён очень монолитна. Среди них преобладают приставочные и бесприставочные де-вербативы с семантикой физического действия: (за-, при-, пере) в-к с (ъ/а); (до-, за-, на-, при-) сад (ъ/а), имена с одно-/двуфонемными суф-фиксами, опрощенными на ранней стадии: ужинъ/а, лучъ/а (суф. j); в народно-разговорном языке (XV-XVII вв. - отглагольные образования с суффиксами -ък- (ъ/а), -ые- (ъ/а): прив-Ьсъ - прив-ксъкъ и привеса - прив-Ьсъка и др. Возможно, что в зоне ранней высокой родовой вариантности оказались не только имена-девербативы, но и деадъективы, которые имели в качестве основного родового варианта средний род и нередко субстантивировались: худо, добро, дурно, право, лихо и др. В целом же родовое варьирование и родовая дублетность в дописьменной истории славянских языков были связаны со становлением грамматического рода как именной суперкатегории [Потебня (по изд. 1958 и 1968 г.); Мейе 1951; Бен-венист 1963; Аксёнов 1984; Бирнбаум 1987 и др.]. В сложной истории родовой дифференциации, к которой причастно MB по грамматическому роду как внутриструктурное явление в существительном, особенно значимы следующие явления:
1) утрата древнейших семантических детерминативов и трансформация тематических гласных в именных основах;
2) частеречная дивергенция общеславянского имени как имени адъективного и имени субстантивного;
3) параллельное закрепление за рядом именных суффиксов морфологической субстантивной функции;
4) растущая упорядоченность в соотношении грамматического значения и грамматической формы и соответственно - более строгое оформление парадигматико-синтагматических классов существительных;
5) устранение парадигматической избыточности при сохранении синтагматического выражения грамматического рода у существительных через согласование с более унифицированными родо-надежно-числовыми парадигмами адъективных слов;
6) пересечение категорий рода с семантически родственными категориями лица/нелица, одушевлённости/неодушевлённости.
3.1.2. Эволюция грамматического рода и варьирование в субстантивной парадигме множественного числа
В древнерусском языке, как и в целом в восточнославянском регионе, к началу письменности сохранились следы сложного соотношения грамматического рода и падежно-числовых парадигм в ед. и мп. ч. В научной и учебной литературе активность грамматического рода называется главной причиной сближения парадигм существительного (Кузнецова 1953; Иванов 1965; Марков 1974; Горшкова, Хабургаев 1981; Шульга 1983; 1985; 1988; Хабургаев 1990; Иорданиди 1981; 1995; Иорданиди, Крысько 1995]. Неоднозначный процесс унификации именного словоизменения связан напрямую с преобразованиями смысловой и структурной категории числа. Парадокс состоит в сочетании жизненной активности грамматического рода-классификатора в ед. ч. и полной его устранённости во мн. ч. Это тем более кажется загадочным, что через родовое значение любого существительного выражается категориально-грамматическое значение предметности. Названный парадокс в эволюции этой категории языка определён как преобразование грамматической категории рода из облигаторной в частную, лексико-грамматическую категорию, сочетающуюся только с единственным числом [Шульга 1988].
По данным лингво-статистического анализа обширного материала Х1-Х1У и ХУ-ХУП вв. [Именное склон. 1974; 1977], неопровержимо доказано, что реестр флексий единственного числа в ДРЯ был значительно беднее и однообразнее, чем во множественном числе, а группировка по грамматическому роду в ед. ч. глубже и последовательнее, хотя и сегодня она остаётся асимметричной. Перегруппировка не могла закончиться нивелированием грамматического рода: единственное число - слабая грамматическая категория, "почти нулевая" [Виноградов. Русский яз.], и оно не могло стать опорой для категориального значения предметности в полной числовой парадигме. Во мн. ч., представленном массовой вариантностью окончаний, происходили одновременно глубинные изменения в соотношении категориального значения и формальных средств выражения. Родовое значение при сильном грамматическом значении множественного числа постепенно нивелируется без надёжного формального выражения. А оно оказалось с нулевой различительной силой в отдельных падежах (Р. п. мн. ч. - ж., м., ср. р. - ъ/ь в зависимости от основ: р-ккъ, полъ, селъ, народъ; Д. п. мн. ч. - ж., м., ср. р. - ьмъ: костъмъ, тьстъмъ, телятьмъ, именьмъ; М. п. мн. ч. - ж., м., ср. р. - ьхъ: костьхъ, тъстъхъ, телятьхъ, именьхъ. Соотношение номинативно-аккуза-тивного начала во мн. ч. связано с падежным варьированием [Иорданиди, Крысько 1993]. Большинство падежных флексий во мн. ч. в ДРЯ были омонимичны по роду и от общеславянского
языка унаследовали разные родовые значения (муж. + жен. р.) -ср. р. в основах на *а^а, Внутриродовое варьирование при взаимодействии деклинаиионных классов сочеталось с межродовым взаимодействием. Итогом стало значительное падежное варьирование в Им. п. мн. ч., Род. п. мн. ч., в котором наметилась тенденция к ограничениям для отдельных форм, стилистическому и лексическому распределению вариантных флексий. Импульс шёл, как нам представляется, от второго формального показателя рода-сказуемого атрибутивного слова, призванного выразить род в любой падежно-числовой форме. А между тем флексии родоизменяемых адъективных слов (прилагательных, неличных местоимений, причастий) уже в общеславянском склонении во мн. ч. не различались по грамматическому роду в Род., Дат., Тв. и Предл. п. В этом раннем родовом единообразии субстантивных форм мн. ч. кроется, на наш взгляд, разгадка того, что формы существительных во мн. ч. так редко лексикализовались в ИРЯ.
3.1.3. Морфологическая вариантность по грамматическому роду в несубстантивных именных частях речи
Грамматический род как суперкатегория проявляется по-разному в соответствии с частеречной природой несубстантивных именных частей речи. Однако их многое объединяет: чисто словоизменительный синтаксический характер грамматического рода ("отражательность"), относительная устойчивость, однотипность и бедность формального выражения через флексии, независимость системы флексий от семантики и словообразовательной структуры лексем. Категория рода в этих классах слов семантически ослаблена и грамматически формализована.
Грамматическое абстрактное категориальное значение не подчинялось лексическому многообразию как означающего, так и означаемого. Их флексии изначально синкретичны (род, число, падеж). Всё это обусловило последовательную корреляцию родо-падежно-числовых флексий и парадигм этих лексико-граммати-ческих классов слов. Парадигма могла осложняться морфоноло-гическими альтернациями гетерогенного происхождения (ср. Р. п. ед. ч. жен. р.: доброй - др. рус. и добрил - ст. сл.), которые не имели отношения к структурно-системным оппозициям. Относительно самостоятельная родовая парадигматика этих слов в полных формах сложилась независимо от существительных. Нивелировка родовых различий именных форм в Им. п. мн. ч. связана с историей субстантивного склонения. Колебания флексий -ы/-и в Им. п. мн. ч. кратких форм отражают морфологическое обобще-
ние Fie только показателей рода, но и числа. В полных (местоименных) формах утрата родовых различий касается только И.-В. мн. ч. (XIV-XV вв.), т.к. в косвенных падежах основы и флексии стабилизировались по грамматическому роду ещё раньше.
В древнерусском прилагательном в аспекте родового варьирования выделялись формы сравнительной степени. Едва ли можно согласиться с мнением Г.А. Хабургаева о согласовании этих сравнительно редких в русской книжности форм с подлежащим в роде и числе "вплоть до нового времени" [Хабургаев, Имена, 209]. Как бы ни были многообразны по структурным и морфоно-логическим признакам диалектные и литературные формы синтетической сравнительной степени прилагательных [Бромлей 1959; Бромлей, Булатова 1972], формы на -е (-ее, -ае, -ше, -ейши) и даже на -ей, пройдя стадию родового варьирования и отбора узуальной нормой, стали общеродовыми, а затем утратили это грамматическое значение [Лукина - ДрГр-95, с. 318-321], как и значения числа, падежа. Их стабилизация в форме среднего рода связана со спецификой предикативного употребления.
В рамках нашей типологии именных грамматических вариантов целесообразно рассматривать в хронологическом сопоставлении все родовые оппозиции кратких и полных форм с точки зрения их нейтрализации, параллельно с утратой родовых различий во мн. ч. субстантивного склонения. При этом выделяются модели оппозиций:
- именные и местоименные прилагательные, страдательные причастия;
- именные и местоименные действительные причастия;
- отадъективные и отсубстантивные количественные числительные;
- местоимения краткой и полной формы.
Богатый материал для обобщений и сравнения содержится в ряде исследований [Чурмаева 1955; Толстой 1956; Толкачёв 1960; Хабургаев 1990; Сумникова 1995 и др.]. Итак, варьирование в выражении грамматического рода в субстантивном и адъективном склонениях имело разную природу и разный исторический исход. В их истории можно выделить две центральные оппозиции, которые по-разному соотносятся с парадигматикой и синтагматикой системы: 1) немотивированный, пустой параллелизм родовых дублетных форм с неодинаковой парадигмой в субстантивном слово-изменении как результат устранения праславянс-кой оппозиции; 2) постепенное разрушение ("на глазах") живых парадигматически значимых родовых оппозиций и сосуществование прежних родовых и новых обобщённых внеродовых форм.
3.2. Морфологическая вариантность в связи с эволюцией грамматической категории числа
Универсальная грамматическая суперкатегория числа также имела в славянских языках сложную историю, что отразилось на грамматической вариантности в ДРЯ и на её асимметричности в современном русском языке [Потебня, Белич, Брандт, Соболевский, Обнорский, Иорданский, Кузнецов, Марков, Дегтярёв, Горшкова, Азарх, Шульга]. Становление этой категории связывают с такими обобщёнными типами семантики, как парность, единичность, количественная расчленённость, многосоставность, собирательность, совокупность, абстрактность, вещественность, интенсивность, разнородность. Эти признаки можно положить в основу формальных оппозиций по числу.
Издревле смысловую основу противопоставленности по числу составляло отражение обобщённых представлений о количестве лиц, одинаковых предметов, явлений, действий. В ДРЯ старшей поры грамматическое число было более последовательно словоизменительной категорией, чем сейчас, что формализовалось в парадигматическом противопоставлении ед. ч. - дв. ч. - мн ч. в именном и глагольном словоизменении [Глинкина 1976]. Однако уже в ДРЯ обнаруживаются внекоррелятивные ряды:
- только дв. или мн. ч.: в-Ьжд'Ь - в-Ьжды - "глаза", пл'Ьсн'Ь -пл-Ьсны - "след", "стопа";
- только ед. ч.: руно, золото, мыло, тъска, днина, рогозина [Азарх, Горшкова];
- только дв. ч.: самабрата - "друг другу братья"; гл-Ьзн'к -"щиколотки" и др. [подробнее: Глинкина 1978];
- только мн. ч. (их в ДРЯ по нашим подсчётам ~ 80, а в современном языке ~ 500): дрожди/дрощи, клещи, шьвъни - "сани" и др. Среди них много утраченных позже.
Колебания в числе как производное эволюции этой категории связаны прежде всего с утратой с ХШ в. двойственного числа, которая, в свою очередь, отражает новый этап в языковом оформлении абстрактных, квантитативных обобщений и противопоставлений: ед. ч. - мн. ч.
При колебаниях древнерусских существительных в числе грамматическими вариантами становились равнозначные формы:
а) единственного - множественного числа: Знаменають иною кознью. Лавр, л., л. 20 Много волхвують жены чародейством... и ин-йми б^совьскими козньми. Пов. вр. л., 6579 г. Этот тип грамматической вариантности коснулся в основном семантически ограниченных групп имён, обнаруживших тенденцию к закреплению в форме р1игаПа или $1вди1апа 1апШт;
б) множественного - двойственного числа: Обратиша плещи на язвы... Новг. 1 л., 6888 г. Чюдь дата плеща. Там же. 6750 г.
Вызванный активизацией в XIV веке тенденции к утрате двойственного числа, этот тип морфологической вариантности охватил не только парные существительные, но и имена, которые прежде знали трёхчленную числовую оппозицию. Ср.: из двою моихъ жеребьевъ. Дух. гр. Дм. Дон. 1378 г. (вместо жеребью) [Глипкина 1984];
в) варьирование существительного в формах единственного -двойственного числа. Эта вариантность распространялась на собственные имена: ср.: Перенесена быста Бориса и Пг£ба. Новг. I, л., л. 4; Призваша я царя. Василий и Костян-тинъ... Лавр, л., л. 987.
Особенно показательны колебания форм собственных имён (так называемая "двандва": Борис и Глеб и т.д.). На процесс варьирования накладывалась падежно-числовая омоформия парадигмы дв. ч. [кстати, с неполным различием рода], разноо-формленность флексий согласованных слов. Среди неоднородных по семантике имён, испытавших грамматическое варьирование в ДРЯ, особую роль в становлении бинарной числовой оппозиции, на наш взгляд, сыграли соматизмы. Обычно разрушение дв. ч. фиксируется с XIII в. Но начало процесса имеет большую историческую глубину. В силу своей семантической многоплановости это лексико-семантическое ядро формировавшейся категории двоичности-парности оказалось "не совсем надёжной опорой" для дв. ч.: ранняя древнерусская письменность XII в. (Мстиславо евангелие, Успенский сб.) отражает противоборство значений парности и расчленённой множественности, что отражается в грамматическом варьировании дв. и мн. ч. [Глинкина 1992].
В целом же процесс разрушения относительной цельности словоизменительной категории числа и её превращение для части существительных в словообразовательную сопровождался вариативностью и лексикализацией некогда оппозитивных вариантов [Глинкина 1983], а там, где число оставалось словоизменительной категорией, - усилением формальных средств выражения, в частности, ударения [Воронцова 19791, унификации флексий во мн. ч. [Обзор работ: Шульга 1988; Иорданиди, Крысько 1993, 1995], происходило усечение, наращение и чередование аффиксов в конце основ [Азарх 1994].
В несубстантивном словоизменении полных атрибутивных форм категория числа оставалась устойчиво сло-
воизменительной и реализовала в единообразных нсвариант-иых формах числовую характеристику определяемых существительных.
Краткие действительные причастия и компаратив в процессе адвербиализации прошли стадию родо-падежно-число-вого грамматического варьирования [Кузьмина 1980; 1985).
Грамматическое число у большинства местоимений было несловоизменительной категорией и не допускало варьирования.
3.3. Морфологическая вариантность субстантивных падежных форм
Словоизменительная категория падежа существительных, как и в современном языке, в древности выражалась полифункциональными флексиями, сочетанием с предлогами и формой согласуемых слов. Именно эти признаки можно положить в основу внутренней типологии падежного варьирования существительных и выделить как варианты:
а) морфологически (и синтаксически) или только синтаксически выраженные значения;
б) флексийные беспредложные или флексийные предложные варианты падежных форм.
В традициях современной и исторической русистики - изучение параллельных синонимических словоформ для выражения одного и того же падежного значения, которое определяется по контексту. Исследование материала ХН-ХШ вв. [Иорданиди -ДрГр-95] показало, что падежное варьирование в ДРЯ было сильно выраженным, а парадигма оказывалась совмещённой: падеж-но-числовой или родо-падежно-числовой [Глинкина 19795]. Сравнивая флексии, по данным лингвостатистического описания [Именное склонение Х1-ХГУ; XV-XVII вв.], мы учитывали для ДРЯ фономатическую близость окончаний -ы/-и; -о/-е; -ъ/-ь; -ь/-е; -ъ/-о; --¿хъ/-ехъ; -ъхъ/ьхъ и считали их не грамматическими вариантами, а флексиями-алломорфами.
Среди массы вариантных флексий существительных (их около 80) в памятниках ХШ-ХГ/ вв. есть инновации и архаизмы. К первым, по-видимому, относятся нулевые флексии в им. п. ед. ч. муж. и жен. рода, а также в род. п. мн. ч. на месте отпавшего редуцированного; флексии -ам, -ами, -ахъ в дат., тв. и мест, падежах у имён муж. р. на *-о. К архаизмам в XIV в. относятся грамматические варианты с низкочастотными флексиями -ы в им. п. ед. ч. муж. р. (камы), -е в род. п. ед. ч. жен. р. на *-«" (цьркве).
Максимум различительной силы имели по падежам только такие флексии в ед.ч.: им. п. -ъ (муж. р.), -ы, -и (жен. р.), -о, -е,
(ср. р.); род. п. и мест. п. -у (муж. р.); дат. п. -ови, еви (муж. р.) вин. п. -у, -ю (жен. р.). Остальные флексии ед. ч. многозначны по категории грамматического рода. Во ми. ч. наибольшую различительную силу в связи с родовой спецификой имели только формы муж. р.: им. п. -ове, -и, -ье; вин. п. -ове, -овъ, -ей, -ие; род. п. -евъ.
Особой разновидностью падежно-числового варьирования можно считать отдельные древнерусские формы мягкого и твёрдого вариантов муж.-жен. рода на *-а и муж.-ср. рода на *-о.
В дв. ч.падежно-родовая унификация к XIV в. коснулась всех падежных вариантов. Из этого следует, что парадигма существительных, оставаясь ещё родо-падежно-числовой в ед. ч., тяготела к падежно-числовой без родовой дифференциации внутри падежей и чисел.
Падежно-числовые различия при постоянстве грамматического рода могли проявиться как морфологические варианты и в отдельных лексико-семантических или словообразовательных группах существительных, например: а) в названиях лиц, которые при сохранении основы и рода имели разные парадигмы: вель-можь-вельможа, сердоболь-сердаболя и т.д.; б) в собственных именах, в оформлении которых не прекращались колебания в течение ряда веков: илъюхь-илъюха, данило-данила. Сюда же можно отнести имена общего рода: слуга-слуго\ в) лексикализованный характер имела падежно-числовая вариантность при сохранении рода у неодушевлённых существительных с некогда различавшимися тематическими суффиксами в конце основы: б-Ьла-б'клъ.
Полагаем, что именно в этой родо-числовой форме, в аспекте соотношения грамматического рода и деклинационных классов следует рассматривать парадоксальное варьирование т о ж д есловов с твёрдой и мягкой основой типа современных песнь - песня. Они описаны на древнерусском материале [Глин-кина 1967], однако остались "вне" исторических грамматик. При совпадении семантики у членов большинства коррелятивных пар, тождестве структуры и грамматического рода они различались падежно-числовой парадигмой: гвоздь - гвоздь', б'кла - б-кль - "белка"; казна - казня - "имущество". По нашим данным, в ДРЯ насчитывалось не менее 100 подобных корреляций [Глинкина 1967]. Они представлены в историко-лингвистических словарях по-разному:
- в одной словарной статье как равнозначные (погоня -погона; багръ - багрь - "багрец" и др.);
- как отдельные вокабулы без ссылок на связи между ними (суета - суеть; игра - игръ и др.);
- как варианты и дублеты с пометой о их сосуществовании (супръ - супрь - "соперник"; карась - карась и др.).
Соотносительность твёрдой и мягкой основы в исходной форме поддержана в них параллелизмом парадигмы, ср. маркированные формы Р. п. ед. ч. погоны - погоней (#) от погона/погоня. Варьирование основ проявлялось только в пределах мужского и женского рода, независимо от значения лица. Пары тождесловов мужского рода колебались в основах на *jä |] $ : вельможа - вельможь;
|| 8 : вечеръ - вечерь; *о || Т : хозъ - хозь - "кожа", "сафьян"; *jä || о : др'Ьвод-Ьля - др'квод'клъ.
При разграничении типов *o/jо и *jo-y учитывалось былое качество согласных по мягкости - твёрдости - полумягкости. Наибольшее количество колебаний в их склонении относится к XIII-XIV вв., времени активного взаимодействия твёрдых и мягких разновидностей склонения и параллельно - активной фонологи-зации противопоставления твёрдых/мягких согласных в восточнославянских языках [Калнынь 1956; Иванов 1990].
Варьирование основ у дублетов женского рода представлено разно-видностями *а-4/ (игра - игрь), *ja-Y (постелп -постель). Парадигматические различия в Р., Д., М. п. ед. ч. имели тождесловы на *ä/j2 (наковальна - наковальня). Все рассмотренные коррелятивные пары могли появиться, как и грамматическое дублирование, в глубокой древности в связи с д е с е м а и т и з а ц и е й тематических основ и становлением категории рода в качестве систематизирующего признака склонения. Не случайно в отдельных случаях варьирование основ у тождесловов переплеталось с родовым дублированием: вапа - вапь - вапъ -"краска". На процесс разрушения этих парадигматических коррелятов накладывались фонетические закономерности: вторичное смягчение полумягких согласных, падение редуцированных, а также воздействие грамматической аналогии. Подобная двувариан-тность основ среди заимствований могла быть следствием их адаптации в системе, располагающей альтернативными возможностями. Ср. нем. Kübel / kübel - др. рус. къбелъ - къбель - "ковш".
"Исход" варьирования оказался близким для слов мужского и женского рода: 1) большинство пар вышло из употребления в связи с утратой реалии либо было вытеснено синонимами; 2) корреляция разрушилась и в языке остался только один ва-риант, относившийся к продуктивному типу: верба, дуброва, кора; вечеръ, хворость, разд-йлъ и др; 3) вариантность оказалась "закрытой" для исследователя, но имплицитность её существования доказывается
ретроспективно: лексема, зафиксированная в словаре древнерусского языка с одной основой, позже отмечается лексикографами с другой основой: зубрь > зубръ, хреиь > хренъ, вихрь - вихрь. На переход в другое склонение имён баснъ, п'йснь, пустынь > басня, П'ксня, пустыня указывал ещё Ф.И. Буслаев [Истор. гр., 212 c.j. Возможно, устранение вариантности этого типа было более сложным, т.к. варианты не всегда совпадали по набору значений (ст'кна - 10 значений, ст'кнь - 8, общих - два), они могли быть связаны родовидовыми отношениями (лоза - лозь), могли иметь дополнительную дистрибуцию (погона - "преследующий отряд", погоня -"преследование" и др.). В ДРЯ можно обнаружить разные стадии варьирования основ у тождесловов:
- их смысловое и грамматическое равновесие,
- начавшееся разрушение корреляции основ; их семантические и стилистические ограничения и др.
Главное направление в трансформации вариантных пар этого типа определялось основными тенденциями морфологического и фонетического развития языка: а) устранением подтипа мужского рода в *i основах, б) подчинением мягкого варианта твёрдому в склонении *а и *о - основах и т.д. Более поздняя литературная нормализация довершила этот процесс, сведя на нет в русском языке параллелизм основ у лексем-тождесловов. "Пик" вариантности этой разновидности приходился на XIII-XIV вв. Несомненно, двувариантными и смешанными оказались парадигмы слов, перешедших в более продуктивные типы склонения при сохранении ими грамматического рода.
Таким образом, вариантность основ, как и родовая дублет-ность, выступает как симптом языковых изменений, заметных только в диахронии.
Вариантность флексий в ДРЯ отражает живой процесс перестройки родочисловых парадигм, в котором ещё только наметились тенденции устранения вариантности за счёт утраты конкурентной формы или дифференциации обеих путём их стилистических, акцентологических, словообразовательных, лексических ограничений либо семантических коннотаций. Длительный процесс сказался на формировании функционально значимых вариантов (ФГрВ) и норм с участием падежного варьирования.
Функционирование синтаксической категории падежа несубстантивных частей речи в ДРЯ давало основание для грамматического падежного варьирования
а) энклитических и полных форм Дат. и Вин. п. во всех числовых парадигмах личных и возвратного местоимений;
б) старославянских и собственно русских форм прилага-
тельных и местоимений в отдельных падежных формах;
в) колебаний форм Им. - Вин. п. в связи с развитием категории одушевлённости [Сумникова - ДГР-95) и др.
За пределами предложенной типологии МВ оказалось ГрВ в глаголе, связанная с более широким кругом грамматических категорий. Самый продуктивный вариантный ряд представлен в лично-числовой парадигме всех модальных и временных форм. В нём преломились: а) однонаправленное смешение (замена) множественным числом двойственного; б) взаимодействие личных окончаний (в 3 л. ед. ч. наст.-буд. вр.) [Иванов 1976]; в) соотношение тематических-нетематических глаголов; г) взаимодействие изъявительного-повелительного наклонений; д) нейтрализация различий в лице и числе в сложных формах времени и сослагательном наклонении. В памятниках ДРЯ широко представлена и грамматическая дублетность в глаголе, обусловленная стёршимися различиями и эквивалентностью простых форм прошедшего времени, наличием-отсутствием связки, конкуренцией связок в будущем сложном, грамматической однозначностью возвратных-невозвратных форм некоторых глаголов, синонимичностью суффиксов в глагольных основах и т.д.
3.4. Лексикализация и грамматикализация словоформ как исход разрушения морфологической вариантности
Динамика грамматического варьирования и дублетов в истории русского языка служила на всех этапах его развития одним из регулярных источников рождения новых номинаций.
Семантическое словообразование оказалось сопряжённым с грамматическим варьированием в силу разных причин. В о - п е р в ы х, потому, что его многомерные языковые единицы -равнозначные формальные модификации слова - обращены одновременно к разным уровням: грамматике, лексике, словообразованию. В о - в т о р ы х, на всех этапах развития языка последовательно реализовалась тенденция к устранению семантического, структурного и функционального тождества лексем путём гибели одного или обоих вариантов и возможной лексикали-зации одного варианта. В-третьих, явления омонимиза-ции и морфолого-синтаксической трансформации во всех её разновидностях как словообразовательные процессы всегда связаны с сопоставлением исходных и производных, лексика л из о-ванных языковых единиц. Таким образом, пересекались и совпадали конечные "усилия" грамматического варьирования и неморфологического словообразования. Поэтому логично проследить в динамике регулярность появления номинаций
путём: лексикализации вариантов и связать типологию семантических новообразований с типологией морфологических вариантов в парадигматике изменяемых частей речи.
Хотя историческое соотношение русского именного словоизменения и словообразования и было в поле зрения исследователей, мы пока не располагаем систематизированной картиной диахронической транспозиции вариат ивных словоизменительных единиц в отдельные лексемы и при этом формирования р егулярных моделей семантической деривации.
В ряде наших публикаций рассматривается процесс частичной омонимизации при распаде родовых дублетов в истории языка [Глинкина 1974; 1975]. В своей предыстории это общеславянские родовариантные имена с недифференцированной семантикой атрибутивности и предметности. Их формально-родовые различия обнаруживались первоначально на уровне словоизменения (ср. родовую парадигму древнерусских кратких прилагательных), и лишь с углублением семантических различий и прежде всего категориального значения предметности члены коррелятивной вариантной пары обрели большую лексическую самостоятельность и превратились в грамматические дублеты. Не отя-гощённое значительными семантическими различиями формальное варьирование, а затем дублирование среди общеславянских имён с опрощенными односложными суффиксами -В-, -Д-, -Т-, -Н-, -М-, -Р-, -Л- пр10£ело к их существенной семантической эволюции. В результате устранения семантического и функционального тождества древнерусские коррелятивные пары в процессе развития обрели новую семантику и новую предметную соотнесённость, которая позволяет считать их частичными омонимами: берестъ - "вяз", береста, бересть - "березовая кора"; дивъ - "чудовище", диво - "чудо"; заступъ - "орудие труда", заступа - "защита"; гостинец - "подарок", гостиница - "место обитания приезжих" и др. Ещё в XIV-XV вв. они фиксировались как дублеты с одинаковой семантикой и функционировали в одних и тех же контестах: берестъ - береста - бересто - "березовая кора", гостинец - гостиница - "большая дорога", дивъ - диво - "чудовище" (ср. фольклорное диво одноглазое), заступъ - заступа - "заступничество". Смысловое расхождение сделало значимыми некогда пустые родовые различия, а лексическое противопоставление оказалось морфологизованным. Преодоление семантической близости в родовых дублетах установило через стадию омонимизации равновесие между исходно фиксированной грамматической (родовой) формой имён и их изменчивым лексическим значени-
ем. В современной словообразовательной системе эти слова из распавшихся пар уже несоотносительны и самостоятельны как объект морфологического словообразования. Омонимизапия как разновидность семантического словопроизводства стала пределом грамматической дублетности. И хотя такой путь устранения формального тождества слов и МВ не единственный и даже не главный в диахронии, в нём обнаруживается и структурная регулярность данного словообразовательного типа семантического словообразования и зыбкие границы между семантической и морфологической деривацией в их истории. Родовая синонимия в прошлом стала внутрисистемным фактором-катализатором для рождения новых лексем путём слияния и адвербиализации пред-ложно-падежных форм общеславянских дублетных основ в таких рядах, как: зад- / задь-, ряд- / рядь, зем- / земь, перед-, пр+>д- / передъ-, пр-Ьдь и др. Для древнерусского языка даже самой старшей поры производные от этих основ наречия соответствуют моделям адвербиализации.
Типология морфологической вариантности древнерусских существительных в числе при функциональной конкуренции семантически равнозначных форм ед. - мн. ч., мн. - дв. ч. позволяет увидеть ещё один источник омонимического словопроизводства в случаях лексикализации мн. ч. в одном из значений многозначного имени. Другие значения при этом продолжали сохранять полную числовую парадигму. Например, букы - букъвь: букъвы - "буква, буквы"; букъвы - "письмена"; в-кжа: в-йжи -"хозяйственная постройка(и)"; в'Ьжи - "стан, кочевье"; железо: железа - "железное орудие, оружие, цепь"; железа - "суд горячим железом". Формы числа здесь дифференцируют разные по значению слова, а флексии мн. ч. становятся словообразовательным аффиксом, оформляющим слова-омонимы и одновременно знаком опустошённой формы существительных-плюративов.
Этот тип грамматической и лексической омонимии представлен в ДРЯ десятками пар [Глинкина 1976; 1984е; 1988]. И в этом случае разное грамматическое оформление вариантов и несовпадение парадигм ускорило процесс омонимизации. История многих русских сингулятивов и плюративов показывает, что они прошли в своём становлении стадию числового варьирования: усто - уста, недро - недра, верига - вериги, святок - святки и т.д.
В эволюции числового противопоставления чаще всего прослеживаются 3 этапа: 1) исходная, сильная оппозиция, 2) промежуточная, слабая, когда один из противочленов оказывается количественно ограниченным, 3) разрушение, или нейтрализация оппозиции в связи с развитием лексико-грамматических разрядов
вещественности, собирательности, отвлечённости в недрах категории предметности, в результате чего возникали формы и рг.
Вариантность существительных в падеже была максимально грамматичной и поэтому допускала лексикализацию лишь в единичных случаях типа: домови - домой, долови - долой, ночью - днем - вечером; пешком - бегом и др. По-видимому, особая морфолого-синтаксическая природа падежа способствовала превращению таких падежных форм в регулярные модели морфологического словообразования [Шмелёв 1960; Чурмаева 1972, 1989].
Многие адвербиализованные грамматические варианты и дублеты подтверждают слова В.В. Виноградова: "Принцип грамматической дифференциации играет существенную роль в адвербиальной изоляции формы. Слабые грамматические дублеты легче всего переходят в категорию наречия" [Виноградов 1947].
В пределах других именных частей речи, в том числе причастий, особенно показательны в плане соотношения способа словообразования и типа грамматического варьирования диахронические связи кратких и полных форм, которые представлены параллельными парадигмами именного и местоименного словоизменения в ряде частей речи.
Возникнув в общеславянском языке как самостоятельные слова на основе регулярного сращения кратких (именных) форм и указательных местоимений, аналитические образования уже в древнерусском включены в морфологическое словообразование, а в отдельных родо-числовых моделях - в активное новое семантическое словопроизводство путём субстантивации или адъективации (причастия). Речь идёт о нескольких моделях определённой семантики:
о древнерусских названиях податей, повинностей (людьс-кое, портьное...) в форме ср. р., ед. ч.;
об абстрактных субстантивах, в форме ср. р. мн. ч. (будущая - "загробная жизнь";
о именованиях жены по мужу - в жен. р. ед. ч. {Прославляя, Глебовая и др.);
о названиях крюковых знаков: сорочья, св-ктьлыи, поводьный
и т.д.;
о названии грамот: мировая, рядъная, льготная, меновая и др. [Качалкин 1989]. Ср. следы этого процесса в современных фразеологизмах: святая святых, все и вся, и прочая и прочая...
При этом более сложной и более обращённой к семантическому словопроизводству и лексикализации оказалась история кратких форм прилагательных, местоимений, числитель-
ных, причастий. В значительных по лексическому составу семантических классах краткие формы были просто утрачены (относительные прилагательные, качественные прилагательные со значением лошадиная масть: ср. возможные в деловой письменности конца XVIII в. сочетания: (мерин) рыж, каур, мухорт, гн-кд, карь и т.д.; адъективы с *1-основами: особь, свободь, раз-личъ, сверсть и Др.). Зато в топонимии и ономастике краткие адъективы обрели статус продуктивных морфологических моделей, а сохранившаяся корреляция кратких и полных форм прилагательных осложнилась для ДРЯ омонимией в косвенных падежах в результате адвербиализации предложно-падежных сочетаний давнего имени [Марков 1974; Хабургаев 199]: замертво, добела, посуху, вчерне и т.д. С потерей склонения краткими прилагательными и разрушением вариантной корреляции меж-частеречный морфолого-семантический тип словообразования постепенно трансформировался в морфологический. Вероятно, то же имело место в истории именных форм причастий, образовавших деепричастия. Но, пожалуй, самым радикальным оказалось расхождение кратких и полных форм действительных причастий прошедшего времени с суффиксом -л, которое тоже способствовало упорядочению семантических отношений между глаголом и прилагательным как частями речи, а также закрепило как морфологический тип формообразование глаголов прошедшего времени и словообразование непродуктивной группы отглагольных прилагательных типа умелый, пошлый, усталый и т.д.
Разрушение прежней корреляции кратких и полных форм неличных местоимений способствовало семантическому обособлению и лексикализации лично-указательных местоимений 3 лица (он - оный). Вместе с тем в притяжательном значении местоименные падежные формы Р. п. (его, её, их) в живой речи развивают новую корреляцию кратких и полных форм: евоный, ейный, ихний.
Подводя итоги, можно сказать, что в грамматической дуб-летности (варьировании) и семантическом словопроизводстве разных типов проявляются ведущие тенденции развития. При этом грамматическое варьирование обеспечивает и отражает непрерывность схождений и расхождений слов и словоформ, а семантическая деривация фиксирует итоги конвергенции или дивергенции, к которым приходят вариантные оппозиции в процессе устранения языковой избыточности.
Все типы грамматической дублетности перекрещиваются с семантической деривацией, и наоборот, все выявленные типы семантического словообразования так или иначе вырастают из
грамматических дублетов или вариантов. В динамике их развития устанавливаются отнюдь не однонаправленные сложные отношения между словоизменением и словообразованием. В рамках семантического словопроизводства постепенно оформляются свои модели, которые сближают его с регулярным морфологическим словообразованием.
4. Морфосинтаксическая вариантность
В нашей исследовательской практике по историческому синтаксису в разное время рассматривались три разновидности МСВ: -ограниченное, связанное МСВ с синтаксемой в качестве компонента словосочетания в объектно- или атрибутивно-предикативной функции ( в отечественной терминологии - так называемые "вторые падежи", а в зарубежной - "объектные предикативы" [Глинкина, 1968];
- обусловленное МСВ с синтаксемой в функции предици-руемого компонента предложения (подлежащего-субъекта в структуре предложения) [Глинкина, 1978];
-близкое к свободному МСВ синтаксем - потенциальных распространителей предложения, которые в ходе исторического развития обретают статус слов-коннекторов, обозначающих функционально-семантические отношения в предложении. Таковы и пояснительные союзы в их истории [Глинкина, 1970, 1978а].
Каждый из этих относительно самостоятельных типов МСВ строится на материале многочисленных памятников разного жанра и охватывает длительный период с XI по XVIII век, при этом регистрируются все зафиксированные в древних текстах формы, которые были использованы в процессе коммуникации. Перечень текстов синтаксической картотеки, которая послужила основой для многотомного "Сравнительно-исторического синтаксиса русского языка", выполненного под руководством В.И. Борковского, включает 149 источников общевосточнославянской письменности (XI - XIV вв.), а также текстов старорусского, старобелорусского и староукраинского языков (XV - XVIII вв.) [Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения—М.: Наука, 1968, с. 291-296]". Этот обширный корпус 1) Автор доклада принимал посильное участие в многолетней коллективной работе по созданию этой уникальной картотеки, а затем предельно полно использовал ее данные в главе "Вторые косвенные падежи".
текстов/контекстов позволил с высокой степенью надёжности делать наблюдения, формулировать гипотезы и выводы об истории МСВ и по частотности судить о выборе узуальной нормы в анализируемом звене синтаксической системы, где МСВ выступало как экспликатор глубинных эволюционных процессов.
4.1. Морфосинтаксическое варьирование вторых косвенных падежей и творительного имени в позиции объектно-предикативной приглагольной синтаксемы - колоритная синтаксическая особенность истории восточнославянских языков. Этим и определяется незатухающее внимание к теме среди русских и зарубежных лингвистов разных направлений и разного времени [Потеб-ня 1888 / 1958; Шахматов 1920, 1941; Патокова 1929; Борковский 1948, 1964; Ломтев 1956; Мразек 1964, Kiparsky 1967, Чаги-шева 1968; Timberlake 1974 и др.]. Большая часть публикаций последних десятилетий по этой теме не охватывает объект в полном объёме, ограничивая его атрибутивным N2 и чаще всего хронологическими рамками XVIII - XX вв. [Шведова 1948; 1952; Доконова 1963; Правдин 1963; Слинько 1969; Ковинина 1970; Мясников 1970; Зелепукина 1973; Чеснокова 1973; Adamec 1975; Чернобривец 1982;Grannes 1984, 1986; Никольс 1985; Граннес 1998]. В ряде работ авторы ограничивают предмет изучения жан-рово-стилистической принадлежностью и / или их локальным ареалом [Колосова 1956; Н.И. Толстой 1957; Нелюбова 1962; Собинникова 1964; Buttler 1976; 1980]. В большинстве статей не ставятся вопросы генезиса параллельных синтаксических структур, но даётся тщательное описание конкретных условий их употребления.
Чаще же всего этот тип МСВ анализируется в обзорах по синтаксису отдельных национальных славянских языков [Ломтев 1941; Спринчак i960; Безпалько 1960; Борковский 1965; Bi-лод1д 1969, Юргелевич 1974; Eckert, Crome, Fleckenstein 1983; Якобсон 1985; Pisarkowa 1984, Rott-Iembrowski 1992]. В этом фрагменте работы по ГрВ сделана попытка, учитывая современное состояние разработки проблемы, проверить жизненность уже сделанных нами выводов и скорректировать их на новой стадии научного знания. Осмысление своего материала в сопоставлении с анализом предшественников и тех, кто работал над темой в последние два десятилетия, позволяют сделать в целом оптимистические выводы относительно состояния изученности этой темы сегодня и места в этом коллективном знании нашей обобщающей работы диахронической направленности (XI - XVIII вв.) [Глинкина 1968], на которую неоднократно и доверительно ссылается автор одного из самых обстоятельных исследований пос-
ледних лет - Альф Граннес [1998, с. 284, 298, 300, 320, 322, 337, 340, 357, 3 59). Особую значимость его работы, построенной на материале семи славянских языков XIX-XX веков, составляет таблица-резюме МСВ в позиции объектного предикатива в зависимости от эссивного или транслативного значения глагола. Но и этот новый поворот темы не ставит последнюю точку в истории рассматриваемого МСВ: впереди сопоставление его функционирования в разных стилях письменного и устного литературного языка с использованием в живой устной и диалектной речи.
Краткий обзор научной литературы относится преимущественно к МСВ типа В2||Тв. В нашей работе рассматривается эта альтернация как звено в более обобщённом варьировании второй падеж\\тв. предикативный, которое во всех разновиднос-тях обнаружило сходные историко-лингвистические тенденции (о них ниже), хотя каждый тип имел свою специфику. В составе оборотов с двойными падежами чётко выделяется три синтаксемы: глагол (V) - первый косвенный (N'bjjh. или N'даг)- второй косвенный падеж (N2 или N2 ). Итак: V-N1 -N2 даили V-N1 -N2 .
1 v вин. дат.' вин. вин. дат. дат.
Типология МСВ в позиции объектного предикатива учитывает на каждом этапе сложную комбинацию пяти значимых компонентов:
1) Семантика и валентностная структура коммуникативно недостаточного глагола-связки, которым определялся выбор первого, а также второго падежа объекта - предикативного объекта;
2) падежное и частеречное выражение синтаксемы в функции дополнительного предикативного признака: В.п. (N2 ), Род.2п. (№род ), Дат. (№дат), Тв. (Nra);
3) морфологическое выражение второго падежа (существительным, прилагательным, причастием, местоимением);
4) морфологическое выражение первого косвенного падежа N1 -N1 ;
ИНН. дат.'
5) порядок следования синтаксем в триаде: V-N'-N2.
В этой совокупности признаков значимость каждого последующего иерархически определяется предыдущими.
Отметим основные особенности исторического развития двух основных типов МСВ: V-N1 -N2 и V-N1 -N2 , учитывая все
ьин. вин. дат. дат.7 J
названные параметры их топологии и соотнося их с нашими основными выводами.
I. Семантико-грамматические свойства глагола
Можно бесконечно удивляться филологической эрудиции и лингвистической интуиции A.A. Потебни, который первым отметил: "...Причина, по которой второй винительный не смешивает-
ся с простым определением и приложением, заключена в вещественном значении действительных глаголов cognoscendi, sentien-di, declarardi, faciendi, от которых он косвенно зависит" [Потеб-ня, Из записок, т. I—II, с. 301]. В этом внимании к семантике глагола как главного языкового средства коммуникативной деятельности человека, его речевых потребностей и намерений проглядывают истоки исподволь формировавшегося ещё в недрах классической русистики столь актуального сегодня коммуникативного синтаксиса и антропоцентрического подхода к языку в целом.
Новая семантическая классификация тех же глаголов в работе А. Граннеса [1998] по существу продолжает и развивает традиционную опору на дифференциацию значений глагольного предиката. Автор группирует по семантическому признаку "вводящие" оборот глаголы как эссивы для обозначения состояния и действия в глагольном предикате и вместе с тем независимые от него и как транслативы - для обозначения состояния, признака, каузируемого глаголами. Поскольку предметом нашего внимания были все комбинации и соответственно все модели трёхчастного оборота, в том числе и со вторым падежом-субстантивом, семантическая структура глагольно-предикативной синтаксемы в нашем материале структурируется иначе. На протяжении многовековой истории восточнославянских языков трёхчастный оборот организуется глаголами следующих семантических групп: назначения, называния, принятия (владения), чувственного восприятия, состояния (бытия-существования). Этот достаточно широкий круг глагольных лексем обнаруживает свои предпочтения в сочетании со вторым именным падежом, делающим до конца информативным предикативный признак в структуре предложения. В процессе эволюции менялась продуктивность этих знаменательных и полузнаменательных глаголов-связок, в структуре "триады" в зависимости от частеречной характеристики второго падежа.
А. При втором субстантивном "распространителе" - N2iiiHcyia
В древнерусский период наиболее употребительным семантическим типом связок при втором винительном были глаголы назначения (поставити, сътворити, посадити, изврати, благословити, положити): поставлю оуношю кназа имъ. и ругателе юбладающа ими (Лавр, л., л. 48); и съ съв-Ьта вьс-Ьхъ великааго никона игоумена себ-Ь поставиша (Ж. Феод. Печ:, л. 66г-67а); Добръ з1шо послухъ снъ твои Георгии, его же створи f°b наместника по тоб'Ь твоему влдцьству... (Сл. Илариона, с. 67);
Бдше оу миндовга снъ ... того (I Новг. л., л. 141).
поборника по правой В'Ьр'Ь
С этой семантической группой смыкается семантическая группа глаголов называния (наречи, нарицати, именовати, звати, глаголати, прозывати, назнаменати): блаженыи же того призъвавъ и благословивъ игоумена имъ въ себе м-ксто нарече (Ж. Феод. Печ., л. 63а); Члвка ли ва именоую то паче всего члвчьска оума преходита (Сказ, о Б. и Г., л. 16г-17а); Ц'ргя ли кназм ли ва проглаголю. Нъ паче Члвка оубо проста и съМ"Ьрена (Сказ, о Б. и Г., л. 16г-17); при Оустиньган-Ь цсрй. Звезда восига на запад-к. испущающи луча. Юже прозываху блистаницю (Лавр, л., л. 55 об.).
При глаголах со значением называния в этом типе МСВ возможно употребление очень близкого второму винительному от существительных так называемого именительного независимого названия, употребляющегося до сих пор: въниде въ манастырь тоу соущи близъ города иже наричють ю ¿тЯга гора (Ж. Феод. Печ., л. 416).
Третья семантическая группа управляющих глаголов связана со значением принятия и владения (имати, имгкти, поукти, приима-ти): стыи же молгаше гл. да и поимоутъ въ сл-Ьдъ себе и съпоутьника (Ж. Феод. Печ., л. 28в); К неиже вси к^ртгане. страхомъ прири-щють. оут-Ьху и заступницю имуще тл ... (Ипат. л., л. 197-197 об.); клан/АемсА тоб-Ь. и хочемь тл им-Ьти со6-1; ищй. игоумена (Ипат. л., л.^0); тогды же Новгородци пришедше к Гюргеви. поаша оу него сна Мстислава кнлзл соб'Ь. (Лавр, л., л. 115).
В единичных случаях управляющий глагол мог иметь другое лексическое значение: вид^ти (видя), познати: Татарове же воз-бояшеся, видя Еупатия крепка исполина и навадиша на него множество пороков... (Пов. о раз. Ряз., с. 114).
В старорусских памятниках разных жанров, но особенно книжных, чаще всего встречаются в качестве связки глаголы речи, называния: кого за собою скажутъ стря(п)чи(х) и пору(т)чико(в)\ темъ вини(ти) у поля стоя(т)(ь) (Суд. Фед. Ив., с. 15); оковаху бо по верху тоя кади жел-кзнымъ. обручемъ для того, что бы нелз'Ь ея ур-Ьзати, а осмину именовали осмую долю бочки (Ст. О Смуте, с. 1285-1286); Что тя ныне, кабаче, нареку, дурна ли или безумна, разбойника ли тя нареку, но манием о землю бросаешь, купца ли тя нареку (Сатиры о пьянстве, с. 89).
К этой же семантической группе с некоторой натяжкой можно отнести глаголы молить, просить, исповедать: Его же молиша и просишя государя себ'Ь на престолъ царств1а Московскаго государства... (Ст. о Смуте, с. 1319).
Как и в более ранний период, широко распространены при №гин-М2мн глагольные полнознаменательные связки со значением назначения. Их лексический круг стал шире (поставить, бла-
гословитъ, сотворить, выбрать, совосприподобить, дать): да того мертвого челов-Ька... да исца ему ябедника поставят (Пересветов, с. 66); Молю тя, христолюбивая, не ходи к еретику попу Осипу! Ей, бога свидетеля поставляю, сосуд пагубы... (Аввакум. Письма, с. 270); И раздали воинство на три полкы: первому полку воеводу постави единокровнаго своего болярина князя Михаила Васильевича Шуйского, другому же полку воеводу постави князя Ивана Михайловича Воротынсково, третьему полку воеводу постави князя Ивана Борисовича Черкаскаго (Пов. Кат.-Рост., с. 590); и на его И'ксто поставиша Великому Новуграду Исидора митрополита... (Ст. о Смуте, с. 1284).
Глаголы со значением владения, принятия встречаются очень редко: и возлюби у него дщерь, именем Маруху, и в о с хот-/; upturn и ю жену (Ск. О Гр. Отрепьеве, с. 722); Брата тя приспа присно имехом и имеем, и имети хощем (Аввакум. Письма, с. 294).
Таким образом, сравнение семантического диапазона глаголов, управляющих вторыми падежами существительных, в древнерусских и старорусских памятниках показывает, что произошёл некоторый сдвиг в частоте употребления структуры с двойным винительным при глаголах назначения, которые уступили своё первенство в XV-XVII вв. глаголам называния. Почти "вышли в тираж" управляющие глаголы со значением принятия, владения; семантические границы групп стали более зыбкими и неопределёнными.
В старобелорусской письменности шире, в сравнении со старорусской, распространены в качестве связки глаголы мысли (verba cognoscendi): верить, уверить, признавать, знать, вызнавать,поведать: а со исоусо"* оукрижова*^ ксми бы'*' a oyeepif^ ксми к го быти творца всего св-{;та (Страсти Христовы, л. 27); пане староста того есмо знали чорнокнижка быти сна езопа... (Страсти Христовы, л. 16 об.). Довольно пордуктивна группа глаголов называния и речи (казати, кликати, звати).
В староукраинских памятниках лексическое значение управляющих глаголов не выходит за рамки уже известных нам по старорусским и старобелорусским памятникам семантических групп.
1) Глаголы речи (назвати, называти, звати, речи, наре-чи, noe-kdamu, глаголати): кнлжащоу же Воишелкови в Литв-Ь и поча емоу помагать Шварно кназь. и Василко. нареклъ бо блшеть Василка шца соб-k и господина (Ипат. л. (Гал.-Вол.), л. 287); Зъ знаменитого оного Петрового вызнанья, учиненого на пытанье Христово свое "кого мя глаголють челов-йци (быти) сына челов-1гческого ..." (Палин. Копыст., с. 398).
2) широкий лексический круг глаголов назначения, при-
пяти я (учинити, поставити, чинити, зоставити, признавати, поз-нати, в'крити, знайти, въжЬнити,створити); Христосъ нам-кстни-ка по соб-Ь церкви Своей святой 1ерусалимской апостола 1акова зоставилъ (Отв. клир. Острож., с. 416); А познавши его быти не простого человека, але Бога правдивого ... заразъ пошолъ (Пере-сторога, с. 207); Я тебе стражу, слугу, неволника и вязня жен^ учиню (Виш. Книжка, с. 13).
Б. При адъективном "распространителе" ял)
Круг знаменательных глаголов, с которыми в древнерусских памятниках сочетался второй винительный прилагательного, оказывается ещё более широким, чем круг глаголов, сочетающихся со вторым субстантивным падежом.
Несмотря на трудности чёткой группировки по лексико-семантическим классам встретившихся в обороте переходных глаголов, можно выделить следующие их типы.
Глаголы со значением активного действия, вызывающие появление определённого признака в объекте (створити, оучини-ти, создати, положити, дати в значении сделать): кще же и сл('к)па к го сътворихов'к на оув'крик прочимъ (Сказ, о Б. и Г., л. 23в); и спов-кда кму х'олюбець. како стага имущему суху ногу 1(Ълу створиста (Чт. Б. и Г., л. 106г-107а); и възвратишасл в свога си wnAT. землю ихъ пусту створивше и пожгоща всю (Лавр, л., л. 137 об.); и встануть на безаконьк внучать твоихъ. и пусто творить мксто (Лествица, с. 93).
Обширную группу управляющих глаголов при адъективном втором винительном составляли и глаголы, обозначавшие движение. пребывание в состоянии, действие над объектом, сохраняющим определённые свойства, качества, выраженные в прилагательном (привести, извести, довести, нести, принести; держати, tiycmumu, отпоустити, оставити, дати, яхти, изьшати; нал^зти; соблюсти; въвергноути; погр-kcmu); при этом сам контекст налагал на прилагательное обстоятельственный_^ггенок ("в каком виде? как?"): и привезоша и въ новъгородъ мртвъ... (I Новг. л., л. 88).
Небольшой группой представлены управляющие глаголы со значением речи, чувства, восприятия (verba dicendi, sentiendi, cog-noscendi: eudhmu, проглаголати, наречи). Например: и npiifexa вид-к повержена Игорь мртвого (Ипат. л., л. 129 об.); И прииде из Чернигова в землю Резанскухо во свою отчину, и видя ея пусту (Пов. о раз. Ряз., с. 14); То слышавше в-Ьрнии люди видЪвше преже ногу кко суху сущю нын^Ь же ц^лу (Чт. Б. и Г., л. 106в).
В старорусских памятниках расширился круг синонимических глаголов трёх групп, актуальных для древнерусского периода и появились новые глаголы с широкой семантикой
физического действия (обрати, накрыть, кинуть, представить, исцелить, проглотить, искати и др.). Примеры: И тою горою высокою хотели нас живых накрыть и засыпать в Азовс городе великими турецкими силами (Пов. об азов, взятии, с. 73); веру к богу тверду и непостыдну держите (Моск. гр. 1572 г., Дух. дог. гр., № 104); Хощю неповинных представити вас в день просвещенный праведному судии (Аввакум. Письма, с. 291).
В старобелорусской письменности чаще всего оборот с вл наблюдается при глаголах со значением чув-
ства. мысли, речи: газык пред силною жалостда оуже быА стра-тиА оусю силоу говореша. да не дивь занюж оуже какъ бы мертвого сна видела (Страсти Христовы, л. 11); Въ тымъ же року 1572, видечи я пана отца моего осиротелого и велце для смерти малжонки своей жалосного, радячмсе ... (Дневн. Евлаш., с. 1.35); поведано ми на Трыщана, але сам знаю вЪрна его к соб-й (Пов. о витязях, с. 88).
Глаголы, управляющие объектом, уже имеющим свой устойчивый признак, представлены в старобелорусской письменности лексически многообразно (оставить, застать, кинуть, поймать, инлтъ, пустить, отпустить, схватить, держати, сжечь, выправить, отдать)-, сюда же можно отнести глаголы движения и владения (привести, повести, им^ти).
Лексические границы последней группы значительно шире, чем в древнерусских памятниках.
В староукраинской письменности лексические группы управляющих глаголов, от которых зависит структура двойных падежей, повторяют уже знакомые по древнерусским и старорусским памятникам семантические классы глаголов речи, чувства, мысли, активного действия. Однако есть и особенности: не используются глаголы движения, употребляется ряд новых глаголов, которые трудно отнести к какой-либо из названных; групп (прагнути, рачити, хотЪти и др.). При этом по частоте употребления нельзя отдать предпочтения ни одной из указанных групп. Естественно, лексическое выражение общей семантики в староукраинской письменности иногда особенное: мнимати, мовити или отмеченное украинскими фонетическими чертами: оставити - зоставити, учинити - вчинити, сказати - казати и др.
В. При партиципном "распространителе"
В древнерусской письменности по своему лексическому значению управляющие глаголы при втором винительном причастия так же широко разнообразны, как и при втором винительном прилагательных. Однако ведущую группу составляют глаголы со значением восприятия (вид-кти, слышати,
мнити, зр^ти).
вид^ти: сускд-к же eufrkuia ю таку лежащю. Вземше несоша ю въ храмину ину (Чт. Б. и Г., л. 113в).
слышати: ти слышааше блаженаго пришьдъша. то повел11ваа-ше гЬмъ пр-Ьетати С5 таковьна игры (Ж. Феод. Печ., л. 60а).
не насытисте ли са въ i и 'ги- л'Ьт зрлщи мене исполум-ртва лежаща? (К. Тур., л. 40).
Управляющие глаголы этой группы, по существу, семантически малооднородны (глаголы чувства, мысли, речи). Другие управляющие глаголы составляют семантически ещё более пёструю картину. Их объединяет значение действия, распространяющегося на объект, получающий или уже имеющий предикативный признак:
вести: И страньныга же много коривъши възвратисга въ домъ свои, гако н^кокго зълод-йга ведоущи съвъзана (Ж. Феод. Печ, л. 28г); и привезоша и на кол-Ь* кикована суща (Лавр, л., л. 88).
оудати: Въ л-кт tsr~r~x • "чг • ... мсца марта. въ^Ч/'а^Ч дйь оудавъша же кончака бежавши, посласта по немь Коунътоугдыга (Ипат. л., л. 222 об.).
шпи: и оускориша Кыгане передъ Володимеромь. и аша Игорл в цркви стояща по обычаю на шб'Ьдни (Лавр, д., л. 105 об.).
соблюсти: и тако Бъ соблюде и неврежена (Ипат. л., л. 216 об.). ^^
нал-кзти: оубькн же бй*"'<кн. Андрей> в су'ту на ночь... Нал'кзоша и подъ сЬньми лежаща (Лавр, л., л. 124 об.).
обрасти: и за т*Ьмь оутече Михаль. а Игорл поверзъше на ноз-Ь волокоша и сквозь Бабинъ торжекъ. до стое Ёци. и ту w6p-kmouia мужа стояща с колы (Лавр, л., л. 106); кназь же Все-володъ възвративъсд с5 Коломны, приде чшать в землю свою, и w6p"kme Гл'кба стох&ща на Колахши на р-Ьц'Ь (Лавр, л., л. 130).
В старорусских текстах самой активной группой управляющих глаголов оказываются полнозначные глаголы держать, оставить, сослать, привести, o6jrkcjnu, соблюсти; подщиса dhmu wcmaeumu наказаны в заповедехъ гснихъ (Домострой, 62); И посл-k же того за то же слово сосла еретикъ въ заточете отъ ближнихъ своихъ велможъ добраго по православно поборника, Михаила Игнатьевича Татищева, на Вятку скована (Сказ, о Гр. Отрепьеве, с. 740).
Как и в более ранний период, очень активны как структурно организующие глаголы со значением чувственного восприятия (видеть, зреть, слышать): Егда пршде ко Господу 1исусу Христу единъ отъ воинъ ко кресту, и вид-Ъ его умерша и коп-гемъ ребро ему прободе, и изыде кровь и вода (Пут. моек.
купцов, с. 139); Народи же хриспянстш, вид-квше его уныла суща, и воеплакашаея вси горко со слезами (Сказ, о Гр. Отрепьеве, с. 737).
В памятниках старорусского письма отмечается сужение количества вторых падежей краткого причастия при общей неустойчивости семантических границ управляющих глаголов.
В старобелорусских памятниках управляющий глагол представлен разными смысловыми группами, но и здесь преобладающими оказались глаголы со значением чувственного восприятия.
видеть (узрити, бачити, вбачити): виде' есми его шселк^ сед&чого (Страсти Христовы, л. 17): видели есте дълбла звитеже-ного и потоупленого (Страсти Христовы, л. 30); И коли в городе вбачылъ \ядно войско стоечы на поли (Ист. о Гвид., с. 137).
В староукраинских текстах второй винительный причастия также чаще всего встречается при управляющих глаголах чувственного восприятия.
видЪти - зр'Ь.ти: оузр^вше же бодре Галичьстии. Василка ки^шедша с полономъ воздвигоша крамолоу (Ипат. л. (Гал.-Вол.), л. 262); Тако теды и ты от инока не погоршайся, если бы еси его и напившася вид^л (Виш. Книжка, с. 41).
Глаголы другой семантики (мысли, речи, владения, движения) чрезвычайно редки: черезъ тую метафору монархою церков-нымъ назначоного и установленого быти его розум-клъ (Палин. Копыст., с. 357): вс-Ьмъ имъ сплоне однимъ разомъ об^тницу тую зысчену быти огь Христа Господа поведаем (Палин. Копысг., с. 399-400).
Иными словами, круг управляющих глаголов семантически в тех же границах, что и в древнерусских, старорусских, старобелорусских памятниках, хотя лексически некоторые из них характеризуются как юго-западные: мовити, показати мели, розум-кно.
Итак, семантика глаголов, рассмотренных в пунктах А, Б, ® (с }ч(2су!д прял прЯ,) позволяет сделать выводы о варьировании первого компонента МСВ этого типа:
1) Грамматическая форма глагольных связок ограничена переходными глаголами; наклонение, время, спряжение или склонение глагольных форм этой синтаксемы, по-видимому, не "влияют на структуру оборота.
2)Специфика каждой разновидности оборота определяется не столько морфологическим выражением именной части сказуемого, сколько характером преобладающих в каждом типе семантических групп управляющих глаголов. Так, при субстантивном втором винительном ведущими смысловыми группами оказыва-
ются управляющие глаголы назначения и называния; при адъективном - переходные глаголы со значением воздействия на предмет, уже имеющий предикативный признак, а также глаголы речи, мысли, чувства; при партиципном - глаголы чувствешюго восприятия.
Изменение происходит в направлении расширения синонимических рядов этих глаголов и лексически разного по трём языкам наполнения старых семантических групп.
Г. При втором предикативном распространителе И2д.ат (при-ч.,прил.,сущ.,мест.) - "двойной дательный", создаётся общее значение структурной модели - долженствование, необходимость. Едва ли объективно наше утверждение, что в оборотах с N2 грамматическим центром были личные семантически неоднородные глаголы дати, послабити, молитися и др. [Глинкина 1968]. Значения должествования и необходимости создавались всей структурой оборота обычно с инфинитивом быти: дасть имъ область чадомъ бо-жикмъ быти (Сказ, о Б. и Г., л. 18г); ти тако философьствовавше моласа по вса дни тако схраненоу быти (Ипат. л., л. 243-243 об.).
Стержневым словом мог быть безличный глагол или наречие: тако же подобантъ намъ нагомъ проити © св^та сего (Ж. Феод. Печ., л. 58г).
Наряду с численно преобладающим инфинитивом быти (87,5%), в качестве зависимого инфинитива в оборотах с двойным дательным спорадически могли выступать и другие редкие глаголы близкого лексического значения: нъ нази родихомъел. тако же подобакт намъ нагомъ проити w св-кта сего (Ж. Феод. Печ., л. 58г): оувы мн!г оуне бы съ тобою умрети ми неже оукдиненоу и оусиреноу £5 тебе въ семь житии пожити (Сказ, о Б. и Г., л. 13в).
В структурно-семантическом плане в старорусском, старобелорусском и староукраинском этот оборот отличается по другим параметрам: Како црА или кназа чтити и ко всако-му члкоу каковоу быти ... (Домострой, с. 1); Или мниши... и царю повелеваему быти? (Письма Ив. IV, л. 136-136 об.); и о томъ де пргЬхалъ третш гонецъ въ Крымъ изъ Царяграда, теб'к де пограблену быти отъ нихъ (Пут. Гогары, с. 120); А хто от вас к нам с такою глупою речью впредь будет, тому у нас под стеною города быть убиту (Пов. об азов, взятии, с. 70); сы" смрти есть а е годно емоу живоу быти на земли (Страсти Христовы, л. 24 об.); ... а пороучникъ быс Левъ. гако в'крноу емоу быти (Ипат. л. (Гал.-Вол.), л. 277 об.); Сам наводить заразъ тоежъ о всЬхъ иншихъ апостолахъ маючи о всемъ св^т^ старане взяти южъ имъ посполу быти нецотреба было (Палин.
Копыст., с. 441).
Обобщая квалификацию оборотов с двойными падежами, отметим, что глагол, как показала древнерусская и более поздняя восточнославянская письменность, не только именовал процесс и процессуальное состояние, но и, обладая особым семантико-син-таксическим потенциалом, стимулировал в структуре предложения синтаксическое поведение других слов, Формируя их ограниченную грамматическую сочетаемость.
Второй и третий параметры типологии МСВ с двойными падежами - падежное выражение синтаксемы в дополнительной предикативной функции с частеречной дифференциацией.
Синтаксическая сущность вторых падежей в самых общих чертах была определена A.A. Потебнёй: "Подобно всем так называемым предикативным падежам второй винительный представляет несколько видоизменённое повторение свойств первого, не-согласуемого винительного, стоящего в том же предложении". Однако в структуре предложения согласуемые падежи неоднородны, хотя оба управляются одним и тем же глаголом. Синтаксическую функцию первого винительного можно определить как чисто объектную, так как этот падеж выступает в предложении как прямое дополнение при прямопереходном глаголе. Второй винительный характеризуется двойными синтаксическими отношениями: он связан атрибутивно-предикативными, или аппозитивными, отношениями с первым винительным и объектно-предикативными - с управляющим глаголом. Таким образом, в древний синтаксический оборот с двойным винительным включались два согласуемых падежа и "вводящий" эти падежи полузнаменательный или полнознаменательный глагол.. Второй дательный также едва ли повторял семантико-синтаксическую сущность первого: будучи зависимым от инфинитива, он имел исключительно предикативное значение.
Но в том и другом случае N2^ и N2aai, в том числе и при замене Nra эта синтаксема обретала двустороннюю синтаксическую связь: с глаголом-сказуемым и с первой синтаксемой - первым косвенным падежом объекта (N'pim) или субъекта (N2 ).
Тенденция замены вторых падежей творительным предикативным и другими эквивалентами стала закономерностью не только восточнославянского, но и всеславянского синтаксиса [Потеб-ня, Шахматов, Пешковский, Патокова, Мразек, Ломтев, Карский, Борковский, Спринчак, Чагишева, Граннес].
С учётом топо-хронологии в наших и чужих наблюдениях, нам удалось уточнить конкретные условия и обстоятельства процесса с учётом всех названных выше параметров и сделать следу-
ющие выводы.
- Второй винительный существительных и прилагательных в древнерусский период был выражен сравнительно ограниченным семантическим кругом имен. Общая тенденция, проявившаяся в восточнославянских языках (ХУ-ХУН вв.), состояла в значительном расширении этого круга.
- Национальное своеобразие выражения функционирования № наиболее показательно в следующем:
а) в преимущественном использовании в старобелорусской письменности в качестве второго падежа полных форм причастий (полные формы составляют около 70%, краткие - около 30%).
б) только старобелорусскому письменному языку, в отличие от древнерусского и старорусского, свойственно использование в качестве второго винительного полных форм бывших действительных причастий прошедшего времени на -л, перешедших позже в прилагательные. Примеры: ... видечи ... пана осиротелого ... (Дневн. Евлаш., с. 135);
в) в западнорусских памятниках сравнительно часто встречается двойной винительный с инфинитивом от глагола быть: есмы слышали але£андра. бы' мудростю прикиздобленого (Александрия, с. 53).
История всех вариантов оборота с двойным винительным имеет много общего в восточнославянских языках: второй согласуемый падеж вытесняется творительным предикативным и пред-ложно-именными сочетаниями. Однако характер и активность вытеснения различны по языкам и в зависимости от морфологического выражения второго винительного. Наиболее интенсивно процесс синонимической замены и сосуществования оборотов с Ы2вин. - №в. протекал при субстантивном втором винительном (с XIII по XV в.), наименее - при партиципном (с ХУ1-ХУИ вв.). Развитие творительного предикативного на месте второго винительного прилагательных и причастий связано с появлением предикативного употребления их полных форм (с конца XV в.). Вытеснение второго винительного существительных, прилагательных и причастий происходило в старобелорусских и староукраинских памятниках более активно, чем в старорусских.
Второй дательный, в сравнении со вторым винительным, на всех этапах развития восточнославянских языков - явление менее продуктивное, что, вероятно, объясняется большим однообразием структурной модели и узостью общего смыслового значения этого оборота (обозначение долженствования, необходимости).
В древнерусских, старорусских, староукраинских и старобе-
лорусских памятниках наблюдается большая употребительность второго дательного прилагательных, затем причастий, частотная ограниченность согласуемого субстантивного падежа.
Прилагательное в этой фукции в древнерусских памятниках встречается лишь в именной форме, тогда как в старобелорусских и староукраинских уже часты случаи функционирования местоименных прилагательных, что соответствует общей тенденции более широкого развития предикативного употребления полных прилагательных в этих восточнославянских языках.
Сужение употребительности оборота с №дат в староукраинских и старобелорусских памятниках шло, по сравнению со старорусскими памятниками, более быстрыми темпами, т.е. мор-фосинтаксический вариант с Г1^ , сосуществуя с более древним оборотом с №дат, постепенно вытеснял его.
В этом типе МСВ исторически наиболее продуктивной общей заменой второго дательного был творительный предикативный, развившийся прежде всего на месте субстантивного согласуе-
МСВ в старорусских памятниках МСВ в староукраинских
и старобелорусских памятниках
мого падежа. Начиная с XV в. нарастает число случаев замены №дат - и предлож-
но-именным сочетанием <?+мест.п.мн.ч.сущ. в XVII-XVIII вв. Нормативный ещё в XVII в. Ы2дят перестаёт быть узуальной, а затем кодифицированной нормой только к XIX в. в русском языке. Таким образом, в памятниках старорусской, староукраинской и старобелорусской письменности существовали соотносительные ряды структур, разные по времени образования, степени употребительности и характеру лексического наполнения, дат. п. дат. п.
ТВ. П. ТВ. п.
Д1дат.+Инфинитив+ в+м. п. мн.ч. Д1дат.+Инфшштив+ в+м.п.мн.ч.
за+в.п.ед.ч.
В течение ХУШ-Х1Х вв. эти ряды МСВ сократились, утратив, по существу, самую древнюю структурную модель с согласуемыми дательными падежами. Следует отметить быстрые темпы этого процесса в сравнении с двойным винительным. Однако отголоски второго дательного имеют место в живом современном русском языке. В восточнославянских языках наряду с общими элементами в этих рядах есть и расхождения: украинский и белорусский знают более употребительное, чем в русском, предлож-но-падежное сочетание за+вин. п. ед. ч. на месте древнего вто-
poro дательного [Букатевич 1958].
Морфологическое частеречное выражение другой синтаксемы - зависимого от глагола первого косвенного падежа (NlMH , NL ).
В восточнославянских памятниках XI-XVII вв. первый в и-нительный при составном втором падеже мог быть выражен существительным (одушевлённым и неодушевлённым, собственным и нарицательным), субстантивированным прилагательным и чаще всего - местоимением. В ряде случаев наблюдается контекстуально обусловленная неполнота оборота с двойным винительным, и вместо трёх обязательных его композитов мы находим только два (связку и второй винительный), например: и>ни же вид-квыие отрока кротость и ризами же хоудами облечена, не рачиша того придти (Ж. Феод. Печ., л. 316); выейкше Всеслава исъ пороуба злии ищи. и поставиш кнза соб-к (Ипат. л., л. 128); и зело-де он, Иларион, мучил меня, - реткой день коли плетьми не бьет и скована в железах держал (Аввакум. Житие, с. 98).
Первый винительный в староукраинских и старобелорусских памятниках отличается от первого винительного в древнерусских и старорусских памятниках не в синтаксическом, а только в лексическом плане (ср. ниже в примерах дъябла, матку, птатства, ручничку и т. д.).
Первый дательный, как и первый винительный, чаще всего выражен местоимением или существительным. В отдельных случаях в роли первого дательного выступает субстантивированное прилагательное.
Иногда в восточнославянских памятниках наблюдается пропуск первого дательного, например: ти тако философьствоваше моласа по вса дни так схраненоу быти (Ипат. л., л. 243-243 об.); и рече Игорь къ Дружин^ своей: брапе и дружино! Луце же бы потяту быти, неже полонену быти (Сл. о плк. Иг., с. 5). При опущении первого дательного синтаксические функции второго падежа сохранялись неизменными, так как имплицитный падеж субъекта потенциально как бы присутствовал в предложении, будучи заложен в пропозиции.
Роль порядка слов в оборотах с двойными косвенными падежами в типологии МСВ была, по-видимому, фактором не первой значимости в плане их структурно-системной организации. Основные закономерности словорасположения являются общими для двойных винительных и двойных дательных падежей.
Как в памятниках XI-XIV вв., так и в памятниках XV-XVII вв. (русских, белорусских и украинских) порядок слов в словосо-четаЕшях с двойными косвенными надежами не является фикси-
рованным. Можно установить шесть типов компоновки элементов, составляющих двойные косвенные падежи.
Однако в исследуемом материале резко преобладает препозиция первого косвенного относительно второго косвенного падежа (т. е. первых три из шести указанных типов). Чем объяснить этот факт? Вероятно, актуальным членением текста: первый косвенный падеж (объект/субъект), представляющий собой "данное", "исходное" ("тему"), препозитивен: напротив, второй косвенный (предикативный признак), выражающий "новое" ("рему"), постпозитивен.
Инверсия, т.е. нарушение стилистически нейтрального "объективного" (по Матезиусу) словорасположения (Nl-N2), вызвана также актуальным членением, она наблюдается в том случае, когда "новым" в речи оказывается то, что обозначается вторым косвенным падежом. Ср. следующий пример, где целью сообщения является имя нового архиепископа: и поставиша архиепспа Новоугоро-доу Феоктиста (I Новг. л., л. 152-152 об.). Приведём ещё несколько примеров инверсии: съмереноу быти мнихоу (Ф. Феод. Печ., л. 43г); а отцу духовному вел-Ьли бы кете у него быть, въ Варсу-нофьево М'Ьсто, священнику старцу Хрисаноу (Моск. гр. 1589 г., АИ, т. I, № 225).
В случае инверсии важное значение имеет лексическая разноплановость первого и второго косвенных падежей, не допускающая смешения их синтаксических функций.
Естественно, что роль строгого порядка размещения частей при адъективном или партиципном втором косвенном менее важна, чем при субстантивном втором косвенном, так как синтаксическая функция адъективного или партиципного второго косвенного чётко отделяется от синтаксической функции первого косвенного в силу их морфологической неодинаковости. Тем не менее и здесь преобладает последовательность N'-N2. Нарушение этой последовательности приводит к ослаблению предикативной и усилению атрибутивной функции прилагательного или причастия: Бъ ... васъ блгослови и сънабъди. w пронириваго без б^ды. и неподвижимоу и твърьдоу гаже къ томоу в-kpoy вашю да съблю-деть (Ж. Феод. Печ., л. 63б-в); А коли хибачили входячого але^ан-дра №ыи который ранили дария скрилисе (Александрия, с. 70);
1. V-N'-N2
2. N1 - V - N2
3. N' - N2 - V
4. V - N2 - N1
5. N2 - N1 - V
6. N2 - V - N1
Не чудуй же ся, детино русский, видевши напившагося инока (Виш. Книжка, с. 40).
Итак, типология этой разновидности МСВ определялась сочетанием разных факторов [см. описание их комбинаций - Глин-кина, 1968].
Сравнительно-историческое сопоставление вторых косвенных падежей в трёх восточнославянских языках показывает общую направленность их изменений при наличии отдельных специфически национальных моментов. К последним относятся: более раннее вытеснение вторых падежей синонимичными оборотами в староукраинских и старобелорусских, чем в старорусских памятниках XV-XVII вв., различное (стилистически и количественно) соотношение вторых косвенных падежей и их замены на протяжении всего этого периода, характеризующегося в целом быстрыми темпами развития МСВ - синонимических "конкурентов" вторых косвенных падежей. Вопреки мнению ряда исследователей об украинско-польском влиянии на широкое распространение творительного предикативного в русском синтаксисе XVIII в. (О.В. Патокова, Л.А. Булаховский, У.Я. Едлинска и др.), полагаем, процесс становления главного из них, творительного предикативного, у всех восточных славян протекал самобытно и независимо. Старославянский не знал такого значения творительного падежа.
Кроме перечисленных факторов, оказывающих влияние на историю как двойного винительного, так и двойного дательного, есть факторы более частного характера: одни из них действовали в пределах только двойного дательного, другие - только двойного винительного. Так, вытеснение двойного винительного связано в какой-то степени с морфологической унификацией в системе склонения основ на *о, приводившей к совпадению именительного и винительного падежей множественного числа, а значит, к появлению трёх омонимичных морфологических форм (например, епископы - им., вин., твор. п. мн. ч.).
Второй падеж существительного был слабым членом МСВ создавшегося ряда синтаксических синонимов и по указанным мотивам хуже других конкурирующих вариативных средств отвечал требованиям чёткой коммуникации. Это обрекло его на архаизацию и утрату.
4.2. Морфосинтаксичсская вариантность в позиции подлежащего
Вопрос о признании/непризнании членов предложения, в том числе подлежащего, - один из спорных и неоднозначно тол-
куемых не только в отечественной, но и в зарубежной лингвистике [Шахматов 1920; Пешковский 1956; Виноградов 1953; Золо-това 1973; Храковский 1985; Теньер 1988; Гуро-Вебер 1984; Арутюнова 1990 и др.]. Пересечение функционального, грамматического, логического и семантического подходов вызваны сложной природой самого языкового явления, в котором семантический (логический) субъект не обязательно совмещается с грамматическим субъектом-подлежащим и способен передать свои функции при актуальном, тема-рематическом членении другим членам предложения. Осложнения возникают и при трансформации активного оборота в пассивный, и при передаче отрицания.
Не считая необходимым включаться в дискуссию, примем за основу традиционный взгляд на членение предложения с выделением подлежащего в качестве одного из двух основных, главных конструктивно-смысловых строевых компонентов в исходной модели двусоставного простого предложения, принимая за доказанное положение о номинативном строе славянского предложения с его формальным различением субъекта и объекта. В силу исторически сложившейся в науке к концу XX в. малоблагоприятной ситуации с развитием исторического синтаксиса [Иванов 1978; 1990] в учебной литературе по истории языка конспективно излагаются лишь отдельные самые значительные явления, или, вопреки своему названию, "грамматики" исключают синтаксис из своего состава [Горшкова, Хабургаев 1981].
В историко-синтаксических обзорах, естественно, не ставился вопрос о подлежащем в аспектах ГрВ и замещения синтаксической позиции [Ломтев 1956; Борковский 1965; Стеценко 1973]. Вместе с тем при анализе других грамматических тем накоплены полезные нам наблюдения [Потебня; Попов 1881; Истрина 1919; Карский 1929; Черных 1956; Соколова 1957; Котков 1974; 1980; Котков, Попова 1989]. В нашем докладе сделана попытка переосмыслить большой материал ( в библиографическом источнике ~250 памятников письменности Х1-ХУ11 вв.), описанный в главе "Подлежащее" (Глинкина 1978), а также в статьях (Глинкина 1986;1990), в аспекте современных научных парадигм. Мы подошли к анализу подлежащего с тех же позиций, что и прежде, выделяя как исходную платформу триаду значение - форма - функция.
Специфика их соотношения определялась, как и сегодня, безграничными возможностями семантико-смыелового заполнения номинативной позиции субъекта предикации в простом двусоставном предложении при ограничении формы. Остановимся на её "представлении" и вариативности в данном типе МСВ. Новые исследования по семантике и грамматике современного и
древнерусского языка, по лингвистическому источниковедению и специфике русской разговорной речи позволяют дать нашему материалу новую интерпретацию [Древнерус. грамм. XII-XII1 вв. Под ред. В.В. Иванова; 1995; работы Н.Ю. Шведовой 1995-1997; по РРР Е.А. Земской, О.Б. Сиротининой, O.A. Лаптевой и др.].
Итак, МСВ в позиции подлежащего на древнерусском материале имеет некоторую специфику. Одно из главных оснований типологии его модификаций - отсутствие однозначного соответствия между грамматическими классами слов и их функциями: между подлежащим и субъектно-объектными связями не было и нет отношений эквивалентности.
Основная, логико-коммуникативная функция подлежащего реализуется исключительно потому, что оно находится в предикативных отношениях со сказуемым и благодаря этому выражает тему суждения. Независимое имя или его заменитель - это синтаксема в обусловленной позиции, несмотря на её морфологическую самостоятельность (S=N„Mn).
Варьирование реализуется, как и в предыдущем типе МСВ, при участии всех трёх компонентов (значение - форма - функция), и проявляется как на парадигматиче ском уровне способов замещения позиции подлежащего (частеречная характеристика знаменательных лексем, словосочетания как разновидность МСВ), так и на уровне обусловленной этим синтаксической связи подлежащего и сказуемого.
Наш анализ подтверждает обобщение Н.Ю. Шведовой: "На значении слов лежит печать той реалии, которую через ступень понятия - оно именует. Это свойство значения непосредственно отражается на его семантико-синтаксическом потенциале, т.е. на предсказанных значением, стимулируемых им семантических и синтаксических связях" [Глагол как доминанта в системе русской лексики// Филолог, сб. к 100-летию со дня рождения акад. В.В. Виноградова. М.: Наука, 1995, с. 411].
4.2.1. Подлежащее - словоформа знаменательной лексемы 4.2.1.1. Существительное в функции подлежащего
Субстантивная номинация NKMri в этой позиции испокон веку является абсолютно преобладающей. Она способна задавать в качестве темы любое слово-понятие из области "наивной картины мира" и высокой абстракции, названия лиц, предметов (фактов и артефактов), свойств, оценок, отношений и
т.д. "При этом оказывается, что наивная модель мира отнюдь не примитивна. Во многих деталях она уступает по сложности научной картине мира, а может быть, и превосходит её" [Апресян 1997].
Эта сторона синтаксемы не нуждается в содержательно обусловленной классификации [Глинкина 1978]. Впрочем, она, вероятно, идентична той, которая выстроена для синтаксиса падежей в современном языке [Золотова 1988].
В отдельных случаях подлежащее в древней письменности могло быть выражено звательной формой: Отроковице Марига днсь родисл (Новг. мин. 1095 г., л. 86); Предана быс чстага твога пьрьвомчнице (Там же, л. 188); Анно уже ни прибыва-еть неплоды (Там же, л. 83); Wxb тотъ ma враже оулови (Лет. Лавр., л. 69); Оже придеть кръвавъ моуже на дворъ (Рус. Пр. 1282 г., 617 об.). Такой тип МСВ нарушал устойчивую грамматическую оппозицию Нимп - Nxos;bjj , с которой были связаны их различия в синтаксическом функционировании как подлежащего-неподлежащего. Вероятно, традиционным для славянских языков сохранением этой оппозиции и была предопределена относительно недолговечная судьба варианта с N .
Е.Ф. Карский, анализируя мнения Й.К. Ягича и Ф. Микло-шича, A.A. Потебни и Д.Н. Овсянико-Куликовского, называет ряд возможных причин употребления формы звательного падежа в синтаксическом значении именительного. Среди них для истории русского языка особенно существенны: 1) раннее смешение формы именительного и звательного, "вследствие чего их взаимная связь очень естественна"; 2) "невольное стремление соединить с подлежащим выражение известного чувства, которое говорящий питает к данному лицу". Однако кажется справедливым замечание П.С. Кузнецова о том, что "экспрессивное употребление" звательной формы вряд ли могло иметь место в юридической документации [Борковский, Кузнецов 1965, с. 226]. В работах А.И. Соболевского, A.A. Шахматова, Е.Ф. Карского, Ф.П. Филина приведено много примеров из двинских и новгородских памятников со звательным вместо именительного в основном от собственных имён. В свете новых исследований A.A. Зализняка по древненовгородскому диалекту, вероятно, следует пересмотреть интерпретацию ряда примеров в нашей работе [Глинкина 1978, с. 8] и считать образования типа Карпе, Константине, Иване как типичные для берестяных грамот XI-нач. XIII в. формы именительного падежа [Зализняк 1988]. Правда, есть и другие наблюдения, которые не снимают утверждение о возможности звательной формы в роли подлежащего. Изредка звательная форма в роли подлежащего встречается в московских
и других среднерусских и южнорусских памятниках: Той же Кучко [в др. сп. Кучка] возгордевся зело (Повесть о зачале М., л. 129 об.). Особый интерес представляют случаи, когда звательная форма образована от "неличного" существительного. Такое употребление отмечено В.И. Борковским в берестяной грамоте XIV в: сы осподинь коню не -Ьдь. Подобный же пример находим в "Сказании о Борисе и Глебе" (XII в.): Оувы мн*1; оувы мн'Ь како заиде св'кте мои не соущоу ми тоу (л. 96).
Исторически самыми устойчивыми в функции подлежащего оказались речевые штампы со звательной формой от узкого круга слов: боже, богородице, господи, владыко, слуго, владычице, царице. Они зафиксированы в памятниках XVII в., отражающих живую разговорную речь: И речет пресвятая госпоже Богородице (Пов. об азов, взятии, с. 112); Как тебя млсрдый владыко хранит (Грамотки, № 12, л. 12; см. там же № 2, 9, 12); Слуго (так в ркп.!) тво1 Михаиго Нестеров челом бью (Источники ХУП-начала XVIII в., № 18, л. 18).
Употребление звательной формы в функции подлежащего было утрачено русской деловой и светской письменностью в XVIII-XIX вв., однако оно долго сохранялось в белорусской и украинской народной поэзии [Карский, Потебня, Овсянико-Куликовский, Богозгетк!].
4.2.1.2. Субстантивированные части речи в роди подлежащего
В этом звене МСВ древнерусский и позже старорусский языки обнаруживают своеобразие. Прилагательное и причастие в функции подлежащего выступали обычно в полной форме в текстах книжного стиля. Они называли лицо по разным признакам: общественному, правовому, имущественному положению (богатый, б-Ъдныи, ни-щии, убогии, виноватый, правый); по возрасту (старый, молодии, малии, велиции, оуншии 'более юные'); по состоянию здоровья (хро-мии, больнии, хворыя, прокажении, болящии, глусии, слИпии, сюда же примыкают живии и мертвый); по отношению к церкви, религии, вере (погании, прав-кднии, нечестивии, в-крьши, нев-крьнии, лжебожънии, противьнии, блаженный и др.); по национальному признаку {русские, турские); по семейным связям и родству {родственные, ближние). В последней подгруппе выделяются вышедшие из употребления наименования женщины по имени мужа, например, Володимерлт, трославлтгя: Всеволожат и митрополитъ приидоста к Володимерю (Лет. Ипат., л. 90 об.); В то же лИт прсстависА Глебов а га Гюргсвича Суждали (Лет. Лавр., л. 228). Полные прилагательные в роли подлежащего отмечены в памят-
пиках разного времени и жанра, но преимущественно в церков-но-поучительной литературе: Познань ксть издалечл сильный изыкъмъ своимъ (Изб. 1076 г., л. 179 об.).
В Изборнике Святослава 1076 г. зафиксировано 40 случаев употребления действительных полных причастий в роли подлежащего. Приведём отдельные примеры: ВеличлтисА свокю <зъ>ло-бо!а съ нею състар-Ькть са (Изб. 1076 г., л. 157 об.); Любли д-кло бес печали перебывакть (Там же, л. 68 об.). Употребление страдательных причастий в роли подлежащего ограничено единичными случаями: Тако и блажлть са паче вьсего съм-Ьрении дхьмь (Изб. 1076 г., л. 197 об.).
Однако в ранней письменности книжного стиля отмечены единичные случаи субстантивного употребления и кратких прилагательных: Въ тъ путь спсенига и оубогъ и бол<ь>нъ. и старъ и гроубъ. ити и оуправити са можеть (Изб. 1076 г., л. 197 об.); Оунъ акы старъ будетъ (Лествица, л. 94). В этой функции значительно чаще других лексем встречается форма мнози, склонная к переходу в местоимение.
Родовая форма субстантивированных прилагательных и причастий определялась их семантикой: при обозначении лица они употреблялись чаще всего в форме мужского рода, а для выражения обезличенной предметности - в форме среднего рода: Веселие не вИчно и печальное конечно (Пословицы ХУП-ХУШ вв., № 444, л. 10 об.); И сбысть ся о насъ, языц-Ахь реченное (Сл. Илари-она, л. 280); Да в Волоской земли обилно и дешево все съестное (Хож. Аф. Ник., л. 386). В отличие от современного языка в древнерусских памятниках книжного стиля была возможна субстантивация в формах среднего рода множественного числа: новаа, в-Ътхат, внутренне, свттат, зълат, вел блага/я, посл-кднАМ, пьрво-родьнат - "плоды", поустошьная - "пустяки" и др.: Съмерть и гонение и напасть, и вьса видимат зълат пр-£дъ очима т1 да боу-доуть по вьса дьни и часы (Изб. 1076 г., л. 27); День ветхага пригаша и се быша вСА новат, видимат же и невидима!а (К. Тур., л. 56-57) [Глинкина 1994).
Обобщая, отметим, что абсолютно преобладающее число субстантивированных прилагательных и причастий в роли подлежащего обозначает действующее лицо по присущему ему признаку.
4.2.1.3. Числительное в функции подлежащего
Вне сочетания с существительным слова с абстрактным числовым значением в древнерусском языке очень редко выполняли синтаксическую функцию подлежащего: А Батыеве силе велице и тяжце, един бьяшеся с тысящей, а два со тмою (Пов. о раз. Ряз.,
с. 11); Единъ гонитъ сто, а два тму (Пословицы ХУП-ХУШ вв., № 814, л. 18); Где двое стоять тут третему д-6ла Н'бтъ (Пословицы ХУП-ХУШ вв., № 647, л. 14 об.).
Сказуемое при числительном оба лишь в ранних памятниках согласовано в дв. ч.: Оба въкоуп-б поклониста ст и тако пакы охописта си. и надълз-й плакаста спи... (Ж. Феод. Печ., л. 41в): Одинъ брать, одинъ св'/."г светлый - ты, Игорю! Оба есв-Ь Святъ-славлича! (Сл. о плк. Иг., с. 11),
Порядковые числительные по условиям субстантивного употребления примыкали к прилагательным: И правду сказали тре-тие: "То де озеро из старины Лещево да Головлево" (Повесть об Ерше, с. 584); А прочии вой деслтыи приде кождо въ свои (Лет. Новг. I, л. 264).
4.2.1.4. Местоимение в функции подлежащего
Семантико-грамматические свойства этого класса знаменательных слов (и прежде всего морфологические особенности) в старославянском, древнерусском, современном русском языках описаны достаточно подробно [Пешковский изд 1956; Шахматов, изд 1957; Вайан 1952; Майтинская 1969; Якобсон 1972; Исаченко 1975; Реформатский 1979; Зализняк 1986; Шведова, Белоусова, 1996]. Выделим особо обобщающее описание морфологии местоимений в "Древнерусской грамматике ХП-ХШ вв." (1995), выполненное Т.А. Сумниковой.
Заместительная функция местоимений-существительных с их оппозицией по одушевлённости/неодушевлённости, лицу/нелицу, (полу), определённости/неопределённости, их дейктическое употребление ставят местоимение в особое положение в тексте или речевой ситуации и определяют специфику МСВ этого типа.
Местоименная разновидность МСВ в роли подлежащего наиболее динамична в своей истории, что связано с разветвлённым спряжением при глагольном формообразовании у восточных славян, а затем - как следствие - с активной грамматическим варьированием - синонимией односоставных и двусоставных предложений [Борковский 1969, 1978].
В ДРЯ личные местоимения 1-2-го лица, будучи "избыточными", употреблялись чрезвычайно редко в сочетании с глаголами изъявительного, сослагательного и повелительного наклонений, так как в глагольных окончаниях уже содержалось указание на лицо: Вдаи ты мн£ свои челлдинъ, а ты своего скота ищи при видоцЬ (Рус. Пр. по Акад. сп., л. 50 об.); И рече кназь Псчсн^жьскии: "а ты кназь ли сси?" онъ же реч: "азъ еемь муха, его" (Лет. Лавр., л. 39, с. 65); Шна [они вдоем] же рекоста в-Ь два
в-кдаев'Ь како есть створенъ члвкъ (Лет. Ипат., л. 65 об.). Известно, что персонально-личностное начало в древнерусской письменности выражалось имплицитно или вообще не выражалось. Поэтому личные местоимения 1-2 лица встречались в диалогах, в клаузулах деловых документов [Шахматов, Борковский, Дерягин] и в случаях особого выделения коммуникантов.
Употребление личных местоимений 3 лица в позиции подлежащего в ранней русской письменности также очень ограничено [Басенко i960; Маловицкий 1963; Богатырёва 1968]. С разной степенью продуктивности значение 3-го лица могли передавать три указательных местоимения: онъ, тъ, сь.
В процессе исторического развития древнерусский закрепил значение 3-го лица лишь за формой онъ, тогда как старославянский, а позже и болгарский - за формами тъ и той [Вайан 1952].
Будучи указательным по происхождению, местоимение онъ прошло длительный путь развития, прежде чем стало личным местоимением 3-го лица. Оно повторило отчасти этапы становления в функции подлежащего личных местоимений 1-2-го лица. На ранней стадии указательное местоимение онъ совмещало атрибутивные и субстантивные функции. Показательны цифры: в Сказании о Борисе и Глебе и в Житии Феодосия Печерского (XII в.) местоимение онъ встретилось 51 раз, из них в роли определения с указательным значением - 3 употребления, в роли подлежащего: с указательным значением - не отмечено, с лично-указательным - 42 употребления, с личным - 6. Местоимение онъ выступало в роли подлежащего с лично-указательным значением при его логическом выделении в составе ограниченных синтаксических конструкций: в диалоге, сопоставительно-противительных предложениях, в сочетании с приложением.
Следующий этап - использование местоимения онъ в личном значении в соответствии с ранее названным отдалённым субъектом - подлежащим в пропозиции. Например, в Русской правде по списку Новгородской Кормчей 1282 г. последнее онъ соотнесено с кто в начале фразы: А оже кто възищеть коунъ на дроуз-fc а wirb са начнеть запирати. то шже на нь выведеть послуси. то ти поидоуть на ротоу а онъ ввзм-бть свок коуны (л. 6196-620).
Первые случаи личного употребления местоимения онъ встречаются в грамотах XIII в. [Борковский, 1968]. В XV-XVII вв. становится общепринятым его использование в личном значении в соотношении с подлежащим предшествующего предложения. О широком распространении в русской разговорной речи XVII в. личного местоимения онъ говорят записи Генриха Вильгельма
Лудольфа: Где онъ живет. На большой Нтш-Ь где онъ всегда жилъ (Лудольф, л. 48).
Так параллельно с распадом трёх степеней системы указательных местоимений шло формирование личного значения в местоимении онъ. В отличие от других указательных местоимений (съ, тъ), оно оказалось более узким по значению, менее абстрактным и обобщающим, поэтому первоначально было способно соотноситься лишь со словом-лицом, но не со словом-предметом, словосочетанием или предложением. Ограниченная релятивность проявилась и в отсутствии грамматикализации отдельных его форм. Одной из главных причин возникновения предложений с подлежащим онъ на месте неполных предложений без подлежащего 3-го лица, по-видимому, следует считать влияние основного структурного типа двусоставного предложения.
Итак, на протяжении всего древнерусского и старорусского периодов нарастающее параллельное употребление всех личных местоимений в роли подлежащего было продуктивным синтаксическим явлением в парадигматике подлежащего и. тем самым в эволюции МСВ этого типа.
Неличные местоимения всех семантических групп также могли выступать в роли подлежащего. Для именительного падежа от местоимений кто - что и производных некто, нечто, никто, ничто эта синтаксическая функция была единственной, ибо по своей природе они "идеальные существительные" [Пешковский изд. 1956].
Местоимение къто в древнейших памятниках по своему значению более общо и неопределённо, чем современное, так как в Х1-ХШ вв. ещё не сформировались как лексические единицы неопределённые местоимения кто-то, кто-либо, кто-нибудь\ <Т>ъгда наречеть са къто оубо истиньныи властелинъ. кгда самъ собою обладакть (Изб. 1076 г., л. 26 об., 9). Стереотипная сложная схема ... кто... тот (те) ещё не стала нормой даже в XV в.: Ино братья русьспи христиане, кто хочеть поити в Ынд-Айскую землю, и ты остави в"£ру свою на Руси (Хож. Аф. Ник., л. 374). Местоимение къто служило подлежащим и при составном именном сказуемом с действительным кратким причастием и отрицательной связкой н'Ьсть или не будеть: И н'кстъ къто ихъ прикмЛА (Изб. 1076 г., л. 8); Н-ксть къто воды носа (Ж. Феод. Печ., л. 426, 25); Аще ли не боудеть къто кго мьста (Рус. Пр. 1282 г., л. 615). Позже они были вытеснены синонимичными безличными структурами типа: некому + инфинитив.
Исконно атрибутивное значение местоимений-прилагательных отступало перед контекстуальным значением предметности в
широком смысле слова. Специфика разных семантических групп местоимений проявлялась при этом в отдельных грамматических ограничениях, колебаниях в согласовании, неодинаковой частоте употребления и разной стилистической окраске [Глинкина 1978]. Так, в старорусских памятниках при подлежащем в форме мн. числа среднего рода: сия было возможно нарушение грамматического согласования: Сия вся неудобно быша (Пов. о зачале М., л. 277 об.). Субстантивированные формы оказались релятивными: то, се уже в ранних памятниках могли выступать как соотносительное слово в главной части сложноподчинённых предложений, что способствовало его грамматикализации и в составе союза то есть [Глинкина 1970].
В древнерусских и даже старорусских текстах при подлежащем кождо было допустимо не только формально-грамматическое, но и смысловое согласование: Пов-&жь людем, дабы ся обратили кождо от злаго безакония и злобы и каялися (Лет. Пек. II, л. 219); И веселився довольна и поидуть к1иждо во свояси (Пут. Зосимы, л. 64).
Итак, при всей пестроте общей картины в субстантивном употреблении местоимений в функции подлежащего были выявлены некоторые тенденции в этой разновидности МСВ:
- В древнерусском субстантивировались преимущественно краткие формы: вьелкъ, инъ, овъ, онъ, самъ, сь, тъ; при употреблении полных форм местоимений в роли подлежащего более ощутимы были следы пропуска стержневого слова в атрибутивном словосочетании.
- В большинстве случаев неличные местоимения становились подлежащим при указании на лицо: онъ, самъ, наши, свои, инъ, вьелкъ, къждо. Из этого следовало преимущественное употребление в функции подлежащего обобщённых форм мужского рода. Формы среднего рода с релятивным значением указания на предмет были возможны от немногих местоимений: ед. ч. - то -тое, се - сее/сие, все, иное; мн. ч. - ест, сит. Из них предельно отвлечённой была форма то, которая грамматикализовалась при недостаточной конкретизации в тексте.
- Некоторая лексическая опустошённость местоимений была причиной их комбинации друг с другом для усиления значения ("двойное" подлежащее): онъ самъ, се все, ест сип, то все, онъ сии, инъ къто, единъ къждо (ср. более поздние опрощенные формы: кто-то, что-то, в укр. хтось, в диал. онось, авось).
Относительно истории местоимений в позиции подлежащего справедливы слова A.M. Пешковского: "Местоимения из-за своей отвлечённости везде являются "нарушителями порядка",
везде создают особые подрубрики, особые комбинации, особые случаи. И своеобразие этих случаев, как бы они ни были разнообразны, в конечном счёте сводится к своеобразию природы самих местоимений" [Русский синтаксис... Изд. 7, с. 73].
4.2.1.5. Инфинитив в функции подлежащего
В древнерусском, как и в старославянском, исключительно редки и не всегда бесспорны предложения с инфинитивом в роли подлежащего, так как могут рассматриваться либо как промежуточные между личными и безличными: И оттоле утвердися на-писан1е полагати умерьшимъ (Печ. патерик), либо как переходные от бессоюзных сложных предложений к простым с инфинитивом в позиции подлежащего: Велш то есть грЬхъ преступати заповИдь отца своего (Пов. врем. лет). Структурно близки к ним многочисленные предложения в Изборнике Святослава 1076 г.: начати кагати са въ члвц-Ь то есть. А еж<е> жити и оумр-Ьти въ боз"{; то есть (л. 196).
Отсутствие или по крайней мере незначительную продуктивность инфинитивного подлежащего в старославянском и древнерусском, по-видимому, можно объяснить тем, что в праславян-ском синтаксисе не существовало подобной модели: она нарушала традиционную оппозицию Ыим п - Ых<|овп, важную для синтак-семы подлежащего. При исконно номинативном строе древней славянской речи инфинитив не мог быть подлежащим: этимологически это дательный падеж отглагольного имени, к началу же письменности он представляет собою "род глагола в синтаксическом отношении и... как глагол, всегда относится к категории сказуемого в обширном смысле, то есть не может быть ни настоящим подлежащим, ни настоящим дополнением" [Потебня].
Бесспорные случаи употребления инфинитивного подлежащего единичны даже в старорусском: Вино пить гор'ко а и сЬд-Ьть ево не сла4ко (Пословицы ХУИ-ХУШ вв., № 423, л. 10); Молить са богу и хвалить его первое д-Ьло въ служба божеи (Лудольф, л. 69). Полагаем, что распространению предложений с инфинитивом-подлежащим способствовали два фактора:
1) относительная свобода в расположении подлежащего-сказуемого в предложениях тождества (а конструкции с инфинитивом в роли подлежащего и именным сказуемым близки к ним);
2) грамматическая аналогия: а) с исторически продуктивными в старорусском двусоставными предложениями с обратным порядком главных членов типа: Но обычай бяше новобрачнымъ ради омовения т'Ьла въ баня входити (Врем., л. ДДО); б) со сложными предложениями типа: Иже кагдти са въ члвц-Ь есть, и еже
оумр-Ьти и жити в боз'Ь есть (Изб. Св. 1076 г., л. 248 об.).
Инфинитивное подлежащее в литературном языке оставалось малопродуктивным до конца XVIII в. В XVIII и XIX вв. отмечен бурный рост книжных построений афористического типа с именным составным сказуемым и инфинитивом в роли подлежащего: Вздыхать, роптать есть страсть глупцов (Карамз., К бедн. поэту); Страдать есть смертного удел (Пушк., Восп. в Царек, селе) и др. Инфинитив в функции подлежащего не характерен и для синтаксиса русских народных говоров [Шапиро 1953, Собин-никова 1961].
Субстантивное употребление других частей речи в позиции подлежащего исключительно редко: Есть н-Ьта лучше а и н-Ьтъ естя не хуже (Пословицы XVII-XVIII вв., № 819, л. 18-19). Е.С. Истрина приводит повторяющийся небесспорный пример с наречием: И быс^заоутра (Лет. Новг. I, лл. 175, 5; 179, 20; 274, 17).
4.2.2. Лексически неодночленное подлежащее
Позиция предицируемого субъекта могла выражаться словосочетаниями разных моделей:
а) словосочетаниями со значением совместности, состоящими из им. п. существительного или местоимения + тв. п. существительного с предлогом с. Творительный совместности, следовавший непосредственно за именительным, составлял с ним единое синтаксическое целое, а всё словосочетание служило подлежащим, сказуемое согласовалось с ним обычно во множественном числе.
Этот способ выражения подлежащего сравнительно редко встречался в древнейших памятниках XI-XIII вв. и довольно широко представлен в памятниках XIV-XVII вв.: И англы съ женами раболепно служать въсРнию (К. Тур., л. 15); И сложишасл на Новъгородъ Андр-ки съ смолнаны и съ полоцаны (Лет. Новг. I, л. 68, 4). В поздних памятниках (XVI-XVII вв.) встретились любопытные случаи соединения именительного и творительного соци-ативного союзом и: И бишася мало, и поб-^же князь великии и с матерью во Тверь (Лет. Устюж., л. 238 об.); И л и с Агра<о,еною вашеми гсдрей своихъ светыми и праведнами молитвами... живы (Источники XVII-нач. XVIII в., № 16, л. 94).
б) Позицию подлежащего могли занимать синтаксически неделимые словосочетания разных моделей с общим количественным значением. В качестве стержневого слова в них выступали: числительные , изредка существительные с количественным значением в им. п. и довольно часто неопределённо-количественные наречия. Второй компонент в составе
подлежащего - родительный совокупности имени существительного в предложной или беспредложной форме: Оже бькта сд де-к жен-и то епскплА тлжа (Смол. гр. - Уст. гр. 1150 г., л. 3, с. 77); Се бо два сокола сл-£т£ста съ отня стола злата... (Сл. о плк. Иг., с. 19). Словосочетания с числительными или неопределённо-количественными словами могли быть главным членом в двусоставном или дополнением в односоставном безличном предложении. Принято разграничивать эти смежные структуры по форме числа сказуемого: в двусоставном предложении сказуемое согласовано с подлежащим во мн. ч., в односоставном безличном оно имеет форму ед. ч. [Истрина]. В живых народных говорах до сих пор очень значительны колебания в формах числа у сказуемого таких конструкций.
Для передачи приблизительного или распределительного количественного значения в субъекте действия в качестве подлежащего могло использоваться словосочетание, не содержащее именительного падежа: А около его висягь лампадъ с 300... (Пут. Гогары, л. 113); Бегут человек с пятьдесят (Аваакум, Житие, с. 70); И по два человека с-Адоша на верблюда (Пут. моек, купцов, л. 151); Да съ послы д£ посылаются по переводчику под-ьячихъ по е- человек, и болши (Котощ, л. 60об.); По многие дни пили и ели сот по пяти и болши '¿лвкъ (Грамотки, № 5, л. 5).
Подлежащее в ДРЯ могло быть выражено словосочетанием неопределённо-количественных слов много, мало, безчисленно, елико, неколико, ово или близких к ним адвербиализованных существительных множество, половина с существительным (местоимением, числительным) во множественном числе, родительном раздельном падеже с предлогом или без него: И собрашася мало людей (Пов. о раз. Ряз., с. 16); И елико ихъ сщение прим л и соуть. да приимуть м-Ьсто... (Лет. Ипат., л. 18 об.); И н-кколико мужей совокупившеся, гнашася въел^д ихъ... (Лет. Пек. II, л. 176); И безчислено православныхъ народа мечю предани быша... (Пам. Смут, вр., л. 228); Половина члеть юнашь их д-Ьлаху д-(;ло и половина часть уготована быс къ брани (Библ. Генн. 1499, СДР). Лексически близкие конструкции с существительным в вин. квантитативном типа: половину ихъ, по-видимому, уже безличны.
в) Местоименно-вы делительные словосочетания в позиции подлежащего представлены разными моделями в зависимости от формы подчинён-ного слова и отчасти от лексического значения стержневого местоимения. При местоимениях н'ккъто, никъто и "атрибутивном" къто в значении
"какой-нибудь", в отличие от современного русского литературного языка, в древнерусском конкретное существительное могло стоять в форме именительного падежа: Повода намъ, гако старьць н'ккто б'Ь б'Ьлоризьць (Син. пат., л. 47); А кто мои княжь Миха-илови Андреевича бояре поддуть на Уломьскую слободку... и язъ... гЬхъ людей своихъ вел'йлъ имати (2 жалов. грам. Белозер. кн. М. Андр. Кирилл, мон. 1460 г., Акты, собр. Акад. Н., № 65); ...Чю-жие люди никто ихъ [девушек] и они людей видей не могугь (Котош., л. 83); Кто виноватой солжет на боярина или на окол-ничего... (Суд. 1550 г., л. 1); А вели ветчину и сала в вес в цену оценит хто бы сторонней члквъ оценилъ (Источники ХУП-нача-ла XVIII в., № 73, л. 63, с. 113). Основная стилистическая сфера распространения таких конструкций - язык грамот. Этот тип осложненного подлежащего был, по-видимому, чертой разговорного синтаксиса.
г) Местоимение къто, собирательно выражавшее общее значение лица - субъекта действия, могло поясняться рядом существительных, связанных друг с другом разделительным и отношениями: Кто же дрьзнеть сътворити. (се) властелинъ. или кназь. или пискупъ или игоумьньА или инъ который любо члвкъ. а боуди емоу кллтва си (Надп. 1161 г., ДРС); А и/же преступить се Ю страны нашей ли кназь ли инъ кто. ли крщнъ или некрщенъ да не имуть помощи С5 Ба (Лавр, л., л. 13 об.); А кто русъкие люди, и иноземцы табакъ оучнуть держать, и за то гймъ людемъ чинить наказанье болшое беспощады подъ смертною казнью (Улож. 1649 г., гл. 29, ст.11, с. 191).
Объём номинации, заключённой в неопределённо-собирательном къто, находился в логических отношениях рода и вида с каждым из конкретизировавших его существительных. В деловой письменности преимущественно XV-XVII вв. нередки двусоставные предложения с начальным что + им. п. существительного + сказуемое с названной или опущенной связкой есть.
д) В позиции подлежащего отмечен ряд неличных местоимений: къто, всткъ, къждо, который, никъто, нкцыи, некоторый, овии в сочетании с беспредложным родительным совокупности от одушевлённых существительных. Подлежащее такой структуры, вероятно, не имело сначала жанровых или стилистических ограничений: А кто нас будеть живъ, а прибегнетъ к гоб'1;. а тогда с а затворим в город-!; с тобою (Лет. Лавр., л. 226, 313); Всакъ бо злыхъ злт{; да погыбиеть (Лет. Новг. I, л. 56); ср. дальше: Всакъ бо злыи зл-Ь да погыбнеть (Там же, л. 136). Синтаксически неделимые местоименные словосочетания могли включать в свой состав предлоги: отъ,
реже въ и изъ: Который от васъ хощеть послужите ему... (Ж. Алексея, л. 15 об.); ...Да аще кто Руси или С5 Грькъ створить криво... (Лет. Ипат., л. 19); И не смеяше бо к воде той от храбрых приитьти никто (Девг. д., с. 176).
Сложное подлежащее, включавшее родительный падеж с предлогом изъ, представлено на протяжении Х1У-ХУП вв. единичными случаями: А по живот-к кто из богаръ и слугъ иметь служить., нелюбья не держати (Моск. гр. 1350/1351 г., Дух. дог. гр. № 2, л. 12). Наблюдения позволяют сделать вывод о высокой продуктивности вплоть до XVIII в. двух вариантов структуры сложного местоименного подлежащего: с родительным без предлога или с предлогом отъ.
е)Лексикализованные номинативны е устойчивые сочетания в роли подлежащего, как и в другой синтаксической функции, были чётко соотнесены с одним или множеством лиц или предметов [Архангельский 1950; Селиванов 1950; О.В. Горшкова 1951; Костючук 1964; Ломов 1969 и др.]. По структуре они представляли собою сочетание существительного с ослабленным вещественным значением и согласованного с ним прилагательного. При опущении существительного прилагательное легко субстантивировалось. Составные наименования носили обычно терминологический характер и выражали главным образом правовые, социальные, административные, религиозные и другие понятия: люди добрый, правый, деловыи, д^кленые, торговые; книги разбойные, окладные, записные, писцовые, отказные, платежные, переписные и т.д.; изба губная, казачья, приказная, съезжая.
В качестве лексикализованных подлежащих могли выступать собственные имена (имена - отчества, прозвища), географические названия, названия церквей и т.д.: Великий Новгород (и даже господин Великий Новгород), Великие Луки, Б-йло озеро, Цесарь град, святый Георгий, Святая Софья и т.д.; наименования божеств и атрибутов церковного богослужения: господь бог, святая богородица, пречистат богородица; крестное целование, отец душевный и т.д.; вместо личного местоимения для выражения этикетной вежливости, почтительности к собеседнику или адресату и для выражения этикетного самоуничижения при образовании 1-го лица в диалоге могли использоваться номинативные сочетания типа: твоя(ваша) милость, твое здоровье, твогя честность; наша худость, цьсарьство наше (ваше, мое), царское величество: Твое здо-ровие знаегь когда ты вчерась домой при^халъ (Лудольф, л. 54); Писал к гсдрю Офанасю Юревичу либо бы ево гсдоя млеть взыскалась ко мн-£ (Грамотки, № 3, л. 2).
Среди лексикализованных сочетаний другой структуры отметим тавтологические сочетания друг друга, друг за друга, брат брата, брат брату, брат с братом; человек человека: Аже межи русиномь и латискимь (так в тексте) свлжеть дроугъ дроуга. без вины за то платити .г. серебра (Смол. гр. 1229 г.); ... А во всяком бы еси деле были в лихе и в добр-Ь везде заодин, а друг бы за друга не отрекся... (Дух. Ив. Грозн. 1572 г., Дух. и дог. гр., № 104, с. 432); Аще бы не было суда, то другъ друга пожерлъ бы (Пословицы XVII в., л. 323 об.). Это словосочетание в целом близко к местои-менно-количественному один другого, один на другого.
Элементы тавтологического фразеологизма с лексемой брат не теряют номинативного значения: они обозначают совместность действий двух лиц. Согласование здесь возможно во всех трёх числах.
Возможно, такая модель неодночленного подлежащего допускала более широкое лексическое наполнение. В Пословицах XVII-XVIII вв. встретился интересный случай смыслового согласования сказуемого с тавтологическим сочетанием сл'Ьпьць слепца: сл'йпьць слепца ведутся. а оба въ яму впаду'ся (л. 368).
В исключительно редких случаях подлежащее могло быть выражено целым предложением: Сам ли государь дозираегь или государыня или кому приказано (Домострой, с. 44); Приходиша татарове Ордынсие въ головах приходилъ Темешком зовутъ (Соф. вр., 11.241, ДРС). Сопоставление этих предикативных сочетаний в роли подлежащего с типичными конструктами современной разговорной речи позволяет видеть их истоки в глубокой древности [Глинкина 1990] и поставить проблему ретроспективного изучения коллоквиалистики [Земская 1988].
Итак, диахронический анализ МСВ в позиции подлежащего в истории русского языка приводит к выводу о значительной стабильности основных форм его выражения как главного члена предложения. МСВ этого типа относится к тем языковым явлениям, которые обеспечивают непрерывность, стабильность языка, будучи одной из реальных констант его исторического развития. И всё-таки, как показал наш анализ, эволюция имела место и в этом относительно спокойном и устойчивом звене МСВ в системе русского языка на почти тысячелетнем пути. Узуальная норма при формировании языковых стилей избирательно предпочитала или допускала отдельные морфосинтаксические варианты подлежащего.
4.3. Грамматическая соотнесённость подлежащего и сказуемого в типологии МСВ в ИРЯ
В основе наблюдений над динамикой взаимоотношений между содержательным, формально-грамматическим выражением подлежащего и предикативной частью предложения лежат принципы обязательности/необязательности, предсказуемости/непредсказуемости, степени полноты их грамматической референции.
В последние годы объективированную связь между подлежащим и сказуемым в научной и учебной литературе определяют как соподчинение или координацию [Овсянико-Куликовский 1913; Шведова 1969; 1971; АГ-80). Взаимозависимость предопределена синтаксическими позициями и грамматическими свойствами компо-нентов. Подлежащее, не касаясь модально-временной характеристики сказуемого, требует от него "уподобления" по категориям числа, рода, лица и о тчасти падежа (согласование). От сказуемого - личного глагола, независимого от формы и содержания в модально-временном плане, идёт требование и ко второму главному конструктивному компоненту - иметь форму имен, падежа (управление). Традиционно это взаимоотношение называют согласованием. Ис-торико-лингвистический материал позволяет выявить своеобразие и модели МСВ - координации подлежащего и сказуемого. Формальное уподобление подлежащего и сказуемого (там, где оно морфологически допустимо) - древнейшая синтаксическая норма структуры двусоставных предложений. Формы числа и рода обычно регулируются подлежащим, форма лица - подлежащим и сказуемым, форма именительного падежа подлежащего - характером сказуемого и типом предложения. Если подлежащее не способно предопределить число и род сказуемого, они ставятся в нейтральной форме ср. р. ед. ч.: А поставлено на томъ железе "букито есть бунтовщикъ... (Котош., л. 303).
Оступления от формально-грамматического согласования главных членов предложения проявляются в МСВ. Они отмечены в названных выше исследованиях Е.С. Истриной, Е.Ф. Карского, В.И. Борковского, Т.П. Ломтева, Я.А. Спринчака и специальных работах по этому вопросу [Собинникова 1953; Попова 1959; Ванеева 1965].
Абсолютное большинство названных выше МСВ в парадигматике подлежащего обнаруживает в древнерусском языке полную координацию по категориям рода, числа и лица. Колебания возникнут позже в связи с омонимией форм им. п. ед. ч. ж. р. и им. п. мн. ч. ср. р. (благая) и переосмыслением подобных форм как ж. р. ед. ч. (святая святых заключается...). Об этом говорит несогласование с ней сказуемого: А егда умре после ево вся ис-
тощилосъ (Аввакум, Житие, с. 60); И сиа вся наиде грех ради наших (Пов. о раз. Ряз., с. 33).
МСВ в координации проявлялась как отклонения от формально-грамматического уподобления в числе при так называемом смысловом согласовании. В древнерусском языке в большей степени, чем в современном, допускалось отражение в сказуемом реальной единичности или множественности действующих лиц, вопреки грамматической форме числа в подлежащем. Однако и в этом случае смысловое согласование было грамматически обусловлено, оно зависело от состава и семантико-грамматической природы подлежащего. Двоякое согласование (формально-грамматическое и смысловое) по числу допускали: 1) все типы лексически неодночленного подлежащего, в том числе однородные подлежащие (исключение составляли только именные лексикализованные словосочетания, в которых согласование определялось стержневым существительным и было грамматическим); 2) среди одночленных форм выражения подлежащего эту способность проявляли: а) собирательные и количественные существительные со значением лица; б) отдельные местоимения (къто, никъто, вьсгякъ, къждо); в) собирательные существительные. В последнем случае смысловое согласование соответствовало лексико-грамматической природе собирательных имён: в форме единственного числа они выражали "сплошное множество, понятое как единица или как множество" [Потебня]. Характер их согласования со сказуемым зависел: - от принадлежности к лек-сико-грамматическому классу лица или не-лица; - от способа выражения сказуемого; - от стадии развития собирательности как лексико-грамматической категории. По предметно-логическому содержанию собирательные имена могли обозначать: а) множество неодушевленных предметов; б) множество лиц; в) множество животных. Собирательность была оформлена грамматически: у существительных не было соотносительной формы множественного числа, и они имели суффиксы -а, \а., ^е, -ь (*-1).
Собирательные имена неличного значения, к которым примыкали и слова, обозначавшие множество животных, по наблюдениям многих лингвистов, последовательно согласовались со сказуемым только в единственном числе, т.е. формально-грамматически: Коли камение восплавлетъ по вод^ (Сл. Дан. Зат., с. 230); По горе той по всей ростетъ древЬе всякое (Хож. Дан., с. 23). Единственный случай употребления формы множественного числа в сказуемом при неличном собирательном существительном отмечен в Повести о Сухане: А не белое каменье на горах лелеются, белеются доспехи (л. 4).
Смысловое согласование подлежащего со сказуемым имело место лишь тогда, когда собирательные существительные обозначали совокупность лип.. Оно было унаследовано как древнейшая норма славянского синтаксиса и зафиксировано во всех древних славянских языках [Миклошич 1874; Вондрак 1900].
Глагольное сказуемое до XIV в. довольно регулярно принимало форму множественного числа при подлежащем - собирательном имени со значением совокупности лиц, объединённых в одно целое по какому-либо тематическому признаку: по семейным, административным и другим общественным отношениям (кнтзигя, рабит, деверипх, затиа, чадь, братиа, лавра и др.): И oTnhBine литоургию wâédaïua братшл на скоупь (Лет. Лавр., л. 61 об.); по этнической принадлежности (литва, корела, мурома, пе-чера, черемиса, югра, весь, водь, корсь, либь, прусь, русь и др.): Избиша корила городчанъ (Лет. Новг. I, л. 158); Начата латина насилие псковичемъ д^ити (Лет. Пек. И, л. 165); Идуть Русь на Црьградъ (Лет. Лавр., л. 10).
По грамматическим свойствам к собирательным существительным были близки некоторые имена, которые допускали обе формы числа и в переносном значении обретали собирательность - дружина.
Согласование во множественном числе отмечено при многочисленных контекстуально-собирательных именах: Новгородъ, гость, полот, лавра, градь, прокъ, останъкъ, избытъкъ, клиросъ, чинъ, на-родъ, в'Ьра, возрастъ, погоня, страна, чернь, челлдь и другие: Нападо-uia на них погоня немецкая множество (Лет. Пек. II, л. 174); Клиросъ весь съ людьми падоша нииъ (Лет. Новг. I, л. 17); И возсташа святительский мнишескш чинъ (Пов. Кат. - Рост., л. 3 об.); А воловины не ядять никакаа в'Ьра (Хож. Аф. Ник., л. 377 об.).
Нередко форму множественного числа глагольное сказуемое получало при подлежащем, обозначавшем войсковые соединения: рать, войско, сила, воинство, полк: Немецкая сила жгут посады (Лет. Пек. II, л. 205 об.); А в то время иная рать псковская ездиша в лодьях и в насадех за Норову (Лет. Пек. II, л. 183 об.). При собирательных именах и существительных с контекстуально собирательным значением сказуемое в форме множественного числа встречается вплоть до конца XVIII в. Однако начиная с XIV в. колебания в выборе числовой формы глагольного сказуемого как проявление МСВ становятся очень значительными.
Постепенное угасание к XVII в. смыслового согласования при собирательных именах было связано прежде всего с общей тенденцией к усилению формально-грамматического согласова-
ния за счёт смыслового. Разрушению старой нормы способствовала также её непоследовательность, проявлявшаяся: 1) в разных структурных и тематических группах собирательных существительных (со значением совокупности лиц или не-лиц; с исконно собирательным или контекстуально собирательным значением); 2) в неодинаковых формах их согласования со сказуемым, с одной стороны, и с определением - с другой; 3) в разных типах согласования в зависимости от способа выражения сказуемого (глагольное или составное именное).
Однако этот процесс шёл, по-видимому, неравномерно в литературном языке и говорах. В современных диалектах, как это отмечено во многих работах по истории языка и диалектологии, продолжает жить смысловое согласование сказуемого при собирательных существительных, причём не только со значением лица, но и не-лица. Это явление наблюдается как на территории современных южнорусских, так и северорусских говоров.
При однородных подлежащих сказуемое допускало оба варианта согласования: в препозиции оно согласовывалось преимущественно в единственном числе с ближайшим подлежащим, обозначавшим лицо: А далъ игуменъ. и радивонъ старечь. и вса брата, гаври <10> ли дьгаку на всемь на томъ. полпАТа сорока б-Ь'ки (Двин. гр. № 3, Шахм. Исслед.); А перед великим князем ходил окольничей Данило Романович да Ондрей Олександрович Квашнинъ (Разр. кн., л. 2 об.); Приела Ро-манъ и Констлнтинъ и Стефанъ слы къ Игорев". построите мира пьрваго (Лет. Ипат., л. 18).
Особенно последовательно согласование в единственном числе при однородных подлежащих, между которыми разделительные или противительные отношения: Аче боудетъ... любо ти-воунъ богарескъ. любо мечникъ, любо изгои, любо словенинъ. то ЧМЧ грвнъ положи™ за нь (Рус. Пр. по Акад. сп., л. 615, 20-25); А пришлет наместник или волостель или их тиуни список судной... ино послати на правду по дворского (Суд. 1550 г., л. 36).
В постпозиции согласование сказуемого в ед. ч. с одушевлёнными именами встречается очень редко: Ловецъ да че'нецъ, и по ночамъ мало спить (Пословицы XVII-XVIII вв., л. 354 об.); Глупъ да ленивъ олно дважды делает (Там же, л. 13).
При однородных подлежащих со значением неодушевлённости и в препозиции и в постпозиции преобладает форма ед. ч. в сказуемом: И въ томъ остров-k рожается мастика и вино доброе и овощъ всякии (Хож. Дан., с. 4); Азъ буки e<kdu страшит что меЛв-Ъди (Пословицы XVII в., л. 324 об.).
Согласование с ближайшим подлежащим в ед. ч. и в соот-
ветствующем роде наблюдалось и во фразеологнзированных предложениях, объединявшихся значением "угодья в лесах и лугах"': Куды соха и коса и топор ходилъ; куды топоръ, коса и соха ходила (Жал. гр. 1397 г., РИБ, т.Н, стб. 8-15).
При однородных подлежащих со значением лица, как и при подлежащем с творительным социативным, было возможно колебание в согласовании, если в предложении употреблялось несколько сказуемых. Первое сказуемое согласовалось с ближайшим подлежащим в ед. ч., а второе - со всей совокупностью действующих лиц во мн. ч. Впрочем, в этом случае допустимо толкование второго сказуемого как предикативного центра нового, неполного предложения: Пришолъ ...тотъ Самулка Василь-ееичь да сынъ его Ермолъ и служивую кабалу въ пяти рублехъ писати на себя велили (Новг. каб. кн. 103 г., № 1, л. 71). Ср. аналогичную картину при творительном социативном: Князь До-монтъ с мужи своими псковичи иде к Раковору и бишася с н-Ьмци и одол-кша (Лет. Пек. II, л. 169 об.) При двух однородных подлежащих до XIV в. довольно последовательно наблюдалось согласование в дв. ч., которое встречается и в более поздних памятниках: Стоша и Путлта перемета городъ (Лет. Ипат., л. 93 об.); Перв'Ьк иачлета кнажить в Киев-fc Дирдъ и Асколдъ одино кн/аже-нш (Там же, л. 2). Разрушение и замена его множественным соответствовали общей тенденции утраты дв. числа. Уже в летописях употребляются параллельно разные формы согласования при двух однородных подлежащих: Мужество и оумъ в н-Ьмь живл-ше. правда же истина с нимъ ходлста (Лет. Ипат., л. 206-206 об.). В старорусских памятниках синтаксической нормой оформления сказуемого при двух однородных подлежащих становится согласование во мн. ч.: И слышавъ, отец и мати его радости наполнитесь, и начата свадьбу готовить (Девг. д., с. 188); А Герасим и Родион добиша челом владык'Ь и Новугороду и постри-гошася (Лет. Устюж., л. 203 об.).
В постпозиции отмечено преимущественно согласование сказуемого во множественном числе как при однородных подлежащих, так и при сложном подлежащем с творительным социативным: Шубашь да паша много, зла ми учиниша... (Хож. Аф. Ник., л. 392); Ананья да Маланя Фома да кума и м'Ьста заняли (Пословицы XVII в., л. 324 об.); Пот да петухъ -Ьдчи поютъ и не 'Ьдчи поютъ (Пословицы XVII-XVIII вв., л. 363 об.).
В деловой письменности XV-XVI вв. (В Новгородских кабальных книгах, Духовных и договорных грамотах и т.д.) согласование во мн. ч. было своеобразным языковым трафаретом при подлежащем гязъ + с + тв. п.: Се язъ Иванъ Федоровъ сынъ
Верещагинъ съ своею женою з Домною з Захарьевой дочерью да съ своими детми... заняли есмя... (Новг. каб. кн. 103 г., л. 10 об.).
В целом же в древнерусской письменности не существовало строгих синтаксических норм согласования сказуемого в числе с однородными и сложными подлежащими и значительно более последовательно, чем сейчас, использовалось согласование с ближайшим подлежащим. Неустойчивость древней нормы, как и сам тип МСВ, были унаследованы и совремеЕШЫм русским языком в его литературной и диалектной форме. Ср. в говорах: Жил дед и баба; У печки стоит столп и диривянная задърга (Воронеж, обл.) Правило согласования в числе на семантической основе при однородных подлежащих имеет место и во всех современных славянских языках (7. СогЬеЦ 1983].
Согласование в числе при неодносложном подлежащем дифференцированно отражает наличие/отсутствие ГрВ:
а) словосочетания с приблизительным или распределительным количественным значением координированы со сказуемым обычно во мн. ч. поскольку субъект действия, не выраженный именительным падежом, представлен несколькими единицами с одинаковой характеристикой;
б) местоимённо-именные комплексы, с неопределённо-количественным и выделительным значением не подчинялись строгой норме грамматического согласования в числе;
в) устойчивые именные словосочетания для обозначения лица или предмета проявили устойчивую тенденцию к грамматическому согласованию в числе по форме главного именного компонента.
Согласование в лице было устойчивой грамматической нормой координации подлежащего и сказуемого. Нерегулярное и внесистемное ГрВ по лицу и числу имело место в период перестройки временной системы глагола в видовременную, когда в процессе утраты спряжения аориста и имперфекта, а также связки в сложных формах прошедшего времени и сослагательного наклонения расшатывалась, а затем "редуцировалась" корреляция подлежащего в лице при сказуемом в прошедшем времени [Иванов 1990).
Своеобразные случаи нарушения согласования в лице находим в памятниках народно-разговорного языка, где в заключительной формуле многих грамот глагол в 1-м лице ед. ч. связан с подлежащим - собственным именем (3 л). В этом, по-видимому, проявляется стремление точно отразить в документе реальное лицо: Федка Зыков челом бью (Грамотки, № 22, л. 23); писавыи
знаемыи тобою Васка Брехов много челом бью (Там же, № 17, л. 17 об. См. там же грамоты № 1, 3, 4, 5, 10, 11, 18, 19, 31); Митка лблочков премнога челом бью (Источники XVII-нач. XVII] в., № 1, 2, л. 1 об.); Братъ твои Петръ с Татьяною отдаю поклонъ... Петръ с Татьяною предпосылаю поклонъ (Там же, № 23, л. 26 об.); Сынишко твои "0>едотко Маславъ благословеня прошу и челомъ бьет (Там же, № 38, л. 151 об.).
Итак, МСВ в согласовании во всех рассмотренных случаях зависела и от местоположения главных членов, и от их коммуникативной нагрузки, и от значения подлежащего, выражающего лицо или нелицо. В конечном счёте, смысловое согласование предопределялось грамматическими особенностями подлежащего и было регулярным, хотя и явно уступало по степени распространения формально-грамматическому.
Отклонения от формально-грамматического согласования далеко не всегда были связаны с семантическим и структурным своеобразием подлежащего. Они могли носить характер ошибок, нарушений, вызванных грамматическими изменениями в подлежащем или сказуемом. A.A. Потебня писал: "Согласование на всех ступенях своего развития есть средство производить известные оттенки мысли. Его нарушение всегда образует новые грамматические категории" [Из записок..., т. I-II, с. 113].
Так, утрата родовых различий во множественном числе у слов, изменявшихся по родам, вызвала несогласование в числе при подлежащем - субстантивном местоимении или прилагательном в ср. р. мн. ч. типа: Сия же вся неугодно бысть жене (Пов. о зачале М., л. 131 об.), в другом списке: но сия вся неугодна быша жене его.
Несогласование при аористе и имперфекте в XV-XVII вв. связано с разрушением древнерусской системы форм прошедшего времени: Микулина жена Васильевича Марья Дмитриевна рано плака-ша у Москвы града на забралах (Сл. о Кулик, битве, с. 38); Князь Ингварь Ингоревич... жалостно возкричаша, яко труба (Пов. о раз. Ряз., с. 15); Ту бяше и азъ грешный Зосима (Пут. Зосимы, л. 64).
Употребление связки есть при подлежащем любого лица и числа отражает утрату спряжения этим глаголом: И во той rop-l; есть пещеры каменны (Пут. моек, купцов, л. 151).
Несогласование главных членов в роде или в роде и числе могло быть промежуточной стадией в развитии от двусоставных личных предложений к односоставным безличным. Как несогласованные двусоставные по происхождению предложения рассматриваются в специальной литературе некоторые структуры, развившие и оформившие позже "бессубъектиость", например:
а) предложения со сказуемым, выраженным страдательным причастием на -то, -но, реже - прилагательным или причастием на -л-в форме среднего рода: Всегда бъ BCAKie суды и вел кал порлднл вымыто и чисто бы было (Домострой, с. 36); Пьяный мужь дурно, а жена пьяна въ Mipy не пригоже (Там же, с. 32). Такие обороты широко распространены в старорусской и староукраинской письменности и встречаются в старобелорусских памятниках. Их сохраняют современные севернорусские и среднерусские говоры; б) аналогичны по истокам предложения со сказуемым надоб-к, надобно, надо, которые даже в поздних памятниках ещё сочетаются с именительным падежом существительного: А въ пиръ на дворе бр'/;жснъ же челов-Ькъ надобе (Домострой, с. 49); И та земля савершенна намъ надабно (Источники XVII-нач. XVIII в., № 30, л. 73 об., с. 98); в) по мнению многих исследователей, к двусоставным несогласованным предложениям восходит и диалектный оборот типа орда знати, в котором A.A. Потебня видел пропуск связки есть. Правда, в литературе высказаны и другие гипотезы, не связывающие оборот с двусоставным предложением [Филин 1972].
Во всех рассмотренных случаях через согласование-несогласование подлежащего и сказуемого проявляется динамическое взаимодействие СБ двусоставных и односоставных предложений, имевшее место на протяжении всей истории русского языка.
Своеобразное нарушение согласования можно видеть и в предложениях с так называемым именительным самостоятельным или изолированным, который А.М. Пешковский называл "предтечей подлежащего": Конь же его любиши и -¿здиши на немъ, от того ти оумр-бти (Лет. Лавр., л. 19). Эта структура также свойственна разговорной речи [Земская 1988].
Итак, можно определить ряд исторических тенденций в развитии МСВ в способах синтаксической связи между сказуемым и подлежащим:
1) сохранение в течение ряда веков формально-грамматического согласования как ведущего типа и предпочительного варианта синтаксической связи между главными членами предложения;
2) расширение сферы его функционирования за счёт сужения смыслового согласования в литературном языке;
3) устранение колебаний, а следовательно, утверждение более последовательного согласования в пределах одной синтаксической структуры;
4) сохранение двойного согласования (формально-грамматического и смыслового) сказуемого с неодночленным подлежащим, выраженным словосочетаниями или однородными членами.
Изменения в формах выражения подлежащего и в координации его со сказуемым влияли на историческое соотношение и СВ двусоставных и односоставных (безличных, определённо-личных), двусоставных полных и неполных предложений. Так специфика МСВ в одном звене структуры языка предопределяла эволюцию в других звеньях. Формально некоординированная связь подлежащего - инфинитива имплицитно уподобляется субстантивному типу подлежащего, и при нём возможна только универсально нейтральная форма глагольного сказуемого в ед. ч. и ср. роде.
Вариативная возможность несогласования в падеже между им. п. подлежащего и именной формой сказуемого - это нарастающее и продуктивное явление в русском историческом синтаксисе [Потебня 1888; Патокова 1919; Борковский 1978; Лопатина 1966; 1978].
Итак, совокупность всех МСВ подлежащего в структуре простого двусоставного предложения обеспечила синтаксическую вариантность в координации подлежащего и сказуемого. То и другое обнаружило в ИРЯ высокую устойчивость, статичность и историческую целостность, которая создаёт в языке стабильность при всех изменениях в морфологии составляющих предиката, который делает субъект жизненным, динамичным и независимым во времени и модальности.
5. Грамматическое варьирование на уровне сложного предложения
Проблема ГрВ бессоюзных и союзных предложений.
В течение ряда лет (уходя от проблемы и снова возвращаясь к ней) автор доклада занимался на историко-лингвистичес-ком материале проблемой бессоюзия [Глинкина 1961"; 19616, 1962% 1962е; 1963; 1965; 1966; 1968; 1971; 1972; 1990].
В современной лингвистике соотношение бессоюзных и союзных сложных предложений оценивается противоречиво и неоднозначно: от признания их полной идентичности при оценке равнозначности союзов в союзном и интонации в бессоюзном предложениях - до полного отрицания их параллелизма. В практике высшей школы и в методике научно-исследовательской работы нет согласованности в подходе к бессозному предложению ца протяжении всей второй половины XX века. В 50-60 годы было немало сделано в исследовании грамматической природы бессоюзного сложного предложения; изучалось участие различных грамматических и лексических средств в оформлении един-
ства его структуры в делом [Поспелов 1950, Василенко 1959; Иванчикова 1956; Троицкий 1957; Борковский 1957; Васильева 1955; Устинова 1968]. Структурно-семантический подход к бессоюзию был взят за основу классификации бессоюзных предложений в АГ-54 и одобрен В.В. Виноградовым [Введение к грам. 1954, с. 102-103; Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка)// Вопр. грамм, строя. М., 1955]. Однако позже [АГ-80; ЛЭС 1990; Соврем, русс. яз. под ред. В.А. Белошапковой 1997] утвердился негативный взгляд на бессоюзие как на "имплицитную" связь с нерегулярными морфолого-син-таксическими признаками, в основе которой лежит только интонация [Кручинина 1990]. Правда, в основе классификаций ССП и БСП здесь повторяется один и тот же по существу структурный принцип открытости/закрытости [Белошапкова 1997].
Решение проблемы ГрВ бессоюзных и союзных предложений, их синонимии и структурно-семантической соотносительности-несоотносительности производно от понимания природы бессоюзия. Вопрос механически снимался при их отождествлении, так как оба типа без доказательств считались идентичными. Не ставился он и при утверждении особой природы бессоюзной связи предложений, несоотносительной с сочинением и подчинением. Правда, существовала попытка установить синонимичность/ несинонимичность бессоюзных предложений на чисто интонационной основе, однако без научного эксперимента она оказалась малоосновательной, тем более что интересные данные экспериментального исследования интонации разных типов сложного предложения не подтвердили "компенсационный принцип" A.M. Пешковского (интонация = полная замена союза) [Николаева 1969].
На общую теорию бессоюзия в современной синтаксической литературе, несомненно, оказали влияние наблюдения над синтаксисом современной разговорной литературной речи, где бессоюзие как тип связи проявляется своеобразно [Шведова I960; Сиротинина 1974; Лаптева 1966; 1976; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981].
А между тем даже старорусский языковой материал XVI-XVII вв. показывает, насколько справедливо было позже забытое утверждение Ф.Е. Корша [Способы относит, подчинения. Глава из сравнит, синт. 1877, с. 14-16] об отличии древнейшего бессоюзия от более позднего, которое "неизбежно должно выработать для себя особую внешнюю форму". Процесс создания её протекал у бессозных сложных предложений параллельно с развитием равнозначного союзного сочинения и подчинения, подтверждая
гипотезу о генезисе бессоюзие —> сочинение —> подчинение [W. Won-dak 1908; Мейе 1914) и по другому варианту: бессоюзие —> подчинение [Карцевский 1961].
Опираясь на свои наблюдения над функционированием прежде всего бессоюзных предложений в широком круге памятников XVI-XVII вв., а также на известные работы по историческому синтаксису A.A. Потебни, Е.Ф. Карского, Б.В. Лаврова, В.И. Борковского, Э.И. Коротаевой, А.Н. Стеценко, А.И. Сумкиной, H.A. Широковой, В.Л. Георгиевой, З.Д. Поповой и др., нам удалось определить ограничения в одном из типов СВ и очертить границы структурно-семантической соотносительности/несоотносительности бессоюзных предложений со сложносочинёнными и сложноподчинёнными предложениями, а также с широко распространёнными в языке памятников XVI-XVII вв. промежуточными типами с местоименно-соотносительными словами или частицами и наречиями в роли связующих элементов. Их историческая роль особенно значительна для формирования причинно-следственных, целевых и пояснительно-уточняющих сложноподчинённых предложений. Анализ материала показывает, что:
^Соотносительных по структуре и семантике союзных, бессоюзных и промежуточных моделей сложного предложения было значительно больше, чем изолированных (см. табл.). Наиболее полными рядами вариантов представлены условно-следственное, временное и причинно-следственное значения [Глин-кина 1963].
2) Бессоюзные предложения, связанные с этим семантически многообразным кругом, при индикативной модальности в обеих частях чаще всего не имели специфически бессоюзной внутренней формы, сопоставимы с несколькими типами союзных предложений и диффузно совмещают в себе ряд значений, например: Нажилъ богатство забылъ и братство (Сим., 129). {Когда? потому что? если?) или: Играль в дуду не скачутъ рыдалъ в пиру не плачуть (Там же, 109) {Хотя? однако?).
3) При общей конструктивной аналогии с бессоюзными предложениями сложноподчинённые конструкции отличались большей свободой в местоположении частей и словопорядке.
4) Синонимичный (вариантный) синтаксический ряд чаще всего состоял из трёх элементов. Грамматическая активность бессоюзных структур, несмотря на их меньшую употребительность в языке памятников, очень велика.
ГрВ бессоюзных и союзных сложных предложений не было абсолютным
модели сложных предложении
Типовое промежуточная
синтаксическое значение бессоюзная с сочинительными союзами с местоим,-соотносит. словами со связующими частицами, наречиями с подчинительными союзами
Временные отношения:
а) одновременность + и. и (редко) - - егда. коли, когда
б) последовательность +■ ». а - тогда л/со, как. когда
в) временная обусловленность + и - тогда когда, как. коли, як о, егОа
г) временной предел и преждевременность дотамест. дотоле докамест. покамест, пока, доколе. доньдеже. донележе, лишь только
д) временная приуроченность неожиданного восприятия 4- uno, оно. аж, ажио
Сопоставительно- противительные отношения:
а) сопоставление и противопоставление + о. же. да но(редко) - ано. ино -
б) противительное ограничение + да - разве, только -
в) противительная уступка + а, оа ин. так. пусть, пускай, только. токмо хотя (редко)
г) предельное сопоставление ("полно"...) + - - - -
Разделительные отношения или. ли. либо. любо, то...то
Условно-следственные отношения + а. и. да то, им о. так. только, лише/ /лишь, ли аче, аще. оже/ ли. аже. ежели, коли, если, будет, буде, когди (бы), егда (бы), как '(бы)
Модели сложных предложений
Типовое промежуточная
синтаксическое значение бессоюзная с сочинительными союзами с местоим,-соотносит. словами со связующими частицами, наречиями с подчинительными союзами
Целевые отношения а на то, для того, того ради, сего ради Оа. бы некий, оть. amo оже. аже. яко чтобы, дабы, абы; для того, чтобы, иж бы
Причинно- следственные отношения:
а) причинность + и. а ■за то. потому. Оля того, ни то. того ради, за т"кмь гане. что. бо/ /ибо, потому, затем что. оттого что. понеже. занеже. того ради что. для того что. для того дабы
б)следствие + и того. тому, сего ради, того для. потому так яко. оже
в) обоснование сравнения + - - ■ -
г) обоснование предупреждения + цель + для того, потому
Пояснительно-уточнительные отношения + еще. тако, то, таков и др. сиречь. ранне, а именно, то есть, еже есть что. чтобы, яко. как
Атрибутивные отношения + и иже. къй, каковой, что. который, чии. кто, гд ХУЙЙ
Объектные отношения: + то сие, тако что. чтобы, дабы, еже. яко. кто. како. когда, куда. га4
а) объектно-побудительное значение + - - до. бы -
Модели сложных предложений
Типовое синтаксическое значение бессоюзная с сочинительными союзами промежуточная с подчинительными союзами
с место им.-соотносит, словами со связующими частицами, наречиями
б) объектно- результативное значение + а
Субъектные отношения + велено писано и что. что ¡бы)
Обозначение места действия там где. куда. иО-Ьке. откубу. по кам"йпи
Вторая часть -оценоч. предикат. + - - - -
Сравнительное значение + и. а е.чико-тако. подобно. како-тако. что. якоже. тако. яко. как
[Глинкина 1970]. Некоторые значения (разделительность, временной предел, преждевременность, место) не могли быть переданы бессоюзной структурой. И наоборот, отдельные разновидности бессоюзных сложных предложе-ний не имели союзных соответствий, хотя в отдельных случаях по своей синтаксической семантике они близки к союзным. Для древнерусской письменности XVII в. можно указать ряд таких несоотносительных бессозных моделей. Характерная для них устойчивая грамматическая структура в большинстве случаев создаётся соотношением ирреального наклонения в зависимой по смыслу части предложения с другими формами сказуемого:
1) в предложениях с объектно-побудительным значением (в 1-й, более свободной, части есть глаголы лексико-семанти-ческой группы просьбы: молю, милъся д*кю, припадаю к коленем, бью челом, благословляю и др., во 2-й, изъяснительно-побуди-тельной, части - повелительное наклонение): Молю вы азъ и кол^намъ вашимъ касаюся... поживите все право во отеческом предании (Авв. Чел., 800); Молю же васъ... и милъ ся д-feio и со слезами припадаю къ вашей святыни помогайте нам вашими святыми молитвами (Стоглав, 169);
2) в близких к предыдущей группе пояснительных предложениях, во 2-й части которых в форме прямой речи раскрывается содержание абстрактного по значению поясняемого слова, связанного с семантическим полем речи - мысли - волеизъявления: совет, наказ, воля, просьба и т.д.: Ныне же самодержче даю ти сов-Ьтъ да не печалися (Каз. лет., 378); Мачиха пасынку надвое
волю дала нагь ходи либо без рубашки (Сим., 187);
3) в бессоюзных предложениях с нерасчленённым значением обоснованного предупреждения и цели. Их главный строевой признак - форма повелительного наклонения с отрицанием от глагола несовершенного вида во второй части, имеющая обобщённо-личное значение: Моимъ да меня же даришь, насмЬхаяся! Да кнутомъ лукавова раба, не играй надъ господиномъ (Авв. Кн. толк., 490); А кого онъ убьетъ, и ему то убийство учинится от себя, не приезжай на чужой домъ насильствомъ (Улож., 95);
4) в предложениях со значением эмоциональной оценки во второй части: Крефть показалъ мн-fe сундукъ, которой и присланъ сынструментомъ изъ Англии: вещи изрядныя и дивныя (Письма и бум. П. I, I, 674). Наиболее полное развитие эта структура получила в языке Н.М. Карамзина.
Значительную группу составляют такие модели бессоюзных предложений, к которым потенциально возможны союзные параллели, но в языке письменности XVI-XVII вв. эта грамматическая потенция почти не реализуется. Таковы:
1) условно-следственные предложения с повелительным наклонением в 1-й части и настоящим (будущим) временем во 2-й части: Наказуй д1гти во юности покоить тя на старость твою (До-мостр. Конш., 13);
2) условно-следственные предложения с инфинитивом в обеих частях: По Налима по свидетеля послать, долго не дождать (Пов. о Ерше Е., 17); Ездить моремъ не брезговать горемъ (Сим., 160);
3) "субъектные" предложения с незамещённой в первой части синтаксичес-кой позицией подлежащего, если поясняемое страдательное причастие не относился, как в большинстве таких структур, к группе речи - мысли - чувства: А выр-Ьзано на той печати: орелъ двоеглавой, впереди царь на кон-Ь поб-Ьдилъ змия (Котош, 94); Всегда бессоюзны трафаретные для делового языка сложные предложения типа: "писано - велено": Писано в Астрахань к намъ холопЬмъ твоимъ: велено взятыхъ полонениковъ Шаховы области отдать купчшгЬ жъ (Ст. Разин, 53);
4) пояснительные предложения, в первой части которых поясняемое абстрактное существительное отглагольного происхождения: выговор, слух, приказ, наказ и т.д., а во 2-й части -инфинитивный оборот с собственной предикативностью: Марта в 9 день дана новоставленая память Василью Стефанову сыну Кор-пину: быть ему в пономарях в Николской слободы (Акты Уст., 1072);
5) преимущественно бессоюзную структуру имеют предло-
жения со значением обоснованного сравнения, широко распространённые в пословицах. В них препозитивная часть предложения утверждает или отрицает сопоставление какого-то предмета или лица с другим предметом или лицом, а вторая часть мотивирует сравнение, называя общий признак сравниваемых объектов. В первой части всегда выступает "метафорическое" именное сказуемое чаще с отрицанием: Умной что староста губной всякъ ево боится (Сим., 198); иванъ не болванъ не всякъ на немъ оправли-вай шапки (Сим., 110);
6) объектно-атрибутивные предложения, в первой части которых есть глагол лексико-семантического поля чувственного восприятия и прямое дополнение, выраженное местоимением, а во второй части - паратактическое предложение: В-Ьдаю азъ, что ты давно умеръ, преставился на онъ св-Ьть, а нын^ вижу тя опять ожилъ (Ж. Епиф., 244);
7) противительно-усилительные предложения с соотносящимися словами ни один - все-. Ни одинъ оть нихъ не возвратися вспять: вси вкуп-Ь мертвии лежаша (Пов. о разор. Ряз. Волоко-лам. сп. XVI в.);
8) при выражении одновременности, сопровождаемом параллелизмом построения и повторением одного и того же слова, употреблялась чаще всего бессоюзная многочленная структура: пьянство мастером ум отнимает... пьянство же от жен мужей отлучает, а жен от мужей, пьянство в бездонную б-кду человека вводит, пьянство зрение очей отнимает, пьянство к церкви бо-жии не пустит (Притча о хм., 448);
9) к группе преимущественно бессоюзных предложений примыкают своеобразные, по-видимому, живые разговорные конструкции со значением неожиданного результата восприятия, которое в предложении не выражено, но приурочено к определённому времени. В первой части таких предложений глаголы движения или конкретного действия: На утро пришли - опять столько же рыбы (Abb., Ж., В. 232); И -&дётъ м^сяц, и другой и третей, и на-Ьхалъ в чист-fe под-Ь шатеръ стоить (Ск. о Ер. Лаз., 327). Параллельно с бессоюзными употреблялись тождественные предложения со связующими частицами-союзами ажно, ано, ино, аж: На Кострому приб-Ьжалъ ано и тутъ протопопа жъ Даниила изгнали (Abb., Ж., 17). В современном русском языке к этой продуктивной разговорной структуре нет союзного соответствия, но они имеют место в украинском языке и белорусских говорах [Бу-лаховский 1951; Телентюк 1955].
Таким образом, наш материал убеждает в том, что среди многочисленных моделей бессоюзных сложных предложений в
языке старорусских памятников ХУ1-ХУП вв., наряду с преобладающими соотносительными союзными конструкциями - грамматическими вариантами, существовало немало несоотносительных, типично бессоюзных моделей, т.е. СВ было непоследовательным. Однако внутри синтаксических рядов происходили свои изменения, приведшие к несколько иному соотношению сравниваемых элементов в современном синтаксисе. На основе почти утраченных бессоюзных целевых конструкций с условным или повелительным наклонением во второй части развились путём введения универсального союза что сложноподчинённые предложения с союзами чтобы, дабы, кабы. В недрах бессоюзных предложений возникли и оформились новые союзы потому, а именно, если, будет, то есть, а значит, изменился и характер синтаксического ряда [Рогожникова 1952; Кузнецова 1986; Глин-кина 1963; 1972; 1978].
Соотношение отдельных синонимических вариативных рядов не оставалось неизменным, что связано с историей отдельных союзов. Анализ показывает, что систему бессоюзия нельзя изучать в отрыве от системы сложного предложения вообще, тем более в историческом плане, так как СВ союзных и бессоюзных конструкций - процесс непрерывный, и отдельные типы союзных предложений являются естественным продолжением и результатом развития соответствующих разновидностей бессоюзных предложений, например, с союзами а именно, то есть. В памятниках письменности XVI-XVII вв. широко представлен тот переходный от бессоюзного к союзному тип предложений, который характеризуется наличием "соотносительных" слов: по тому, того ради, за тем и т.д.
Наши наблюдения над функционированием бессоюзных сложных предложений в широком круге разнообразных текстов XVI-XVII вв. опровергают современный негативный взгляд на упорядоченность и структурность бессоюзия. За последние 2-3 столетия "отстоялись" многие стуктурные модели бессоюзия, зарегистрированные в старорусский период и передававшие значения одновременности, последовательности, сопоставления-противопоставления, условия, цели, причины и следствия; приобрели значительный вес и чёткое структурное оформление бессоюзные предложения, выражающие объектные, субъектные и пояснительные отношения. ГрВ не охватывала в полном объёме типологию союзных и бессоюзных конструкций, но их параллельное существование в качестве СВ даже 200-300 лет назад - вне сомнения, как и вне сомнения структурность и "грамматичность" бессоюзия, которая в основном совпадала с союзной.
Генетическое и функциональное соотношение тех и других как разновидность СВ было сложным, динамичным и противоречивым. Здесь, видимо, не было отношений конкуренции и нейтрализации, но шла дифференциация по типу жанрово-стилис-тического расслоения: бессоюзие обрело текстологический статус разговорности (а в отдельных случаях - штампов делового языка: память послана - велено или пословичных бинарных формул), а сложноподчинённые конструкции - преимущественно статус книжных и нейтральных структур.
Синтаксическое варьирование как тип ГрВ в силу сложного и синкретичного характера единиц этого уровня по существу растворяется в синтаксической синонимии. На этом уровне трудно назвать чёткие критерии инвариантности, абсолютной эквивалентности модели и синтаксических оппозиций, поэтому выделение СВ в типологии ГрВ нередко проблематично. Полагаем, что сегодня остаётся перспективной идея выделения лексико-семантичес-кой тождественности смысловых центров, "типовых значений" и вытекающей из этого взаимозаменяемости как признака синонимичности при сохранении "несущих" в синтаксических моделях.
6. Функционально значимая ГрВ как фактор текстообразования
Любая разновидность ГрВ изучалась нами как совокупность функциональных единиц системно-структурного плана, тождество и различия которых определялись в контексте [Глинкина 1974е; 1984; 1992 и др.]. Текстообразующая фукционально значимая вариантность (ФГрВ) квалифицируется как совокупность единиц стилистики и включает в свой состав все рассмотренные выше типы ГрВ системно-структурного плана. "Стилистика изучает язык по всему разрезу его структуры... но с особой точки зрения. Эта точка зрения и составляет для стилистики в чужом материале её собственный предмет" [Винокур, Избр., 1959, с. 221]. Историческая стилистика русского языка - наука будущего. Лишь в 90-е годы XX в. делаются первые шаги по определению границ её предмета [Тарланов 1990; Колесов 1990]. Пока он представляется весьма нечётко, т.к. главное содержание - "стиль как результат развития его системы на фоне нейтральной нормы" [Колесов 1990] - содержит расплывчатое понятие "нейтральной", "средней" нормы. И вместе с тем нельзя не согласиться, что главные направления исторической стилистики: 1) определить "типичность"-норму языкового развития при комплексном анализе относительно однородных текстов
а) церковпо-книжного,
б) делового,
в) "народного" стилей, которые и составляют "динамическую часть истории литературного языка";
2) зафиксировать индивидуально-авторские отклонения от средневекового стилистического трафарета (последнее особенно очевидно в эпистолярном идиостиле [Глинкина 1985; 1986; 1987; 1995; 1996; 1997J.
Именно здесь мы определяем место ФГрВ. Межуровневый характер варьирования объединяет разные языковые единицы в синонимические средства языка. Не касаясь подробно самостоятельной и сложной проблемы соотношения названных выше стилей (типов языка) в становлении литературных норм русского языка на разных этапах его истории, мы выбрали деловую письменность прошлого как цельный объект изучения текстообразующей функционально значимой вариантности. Именно её роль в формировании норм литературного языка является либо предметом острых споров, либо "фигурой умолчания". Деловая письменность в её истории достаточно тщательно исследована в исторической русистике, начиная с классических работ A.A. Шахматова, С.П. Обнорского, В.И. Борковского. Информативный лингвистический взрыв в этой области в 60-80-е годы создан учёными, работавшими в рамках лингвистич е с к о г о
источниковедения [С.И. Котков, В.В. Иванов, С.С. Волков, O.A. Князевская, В.Я. Дерягин, E.H. Полякова, Г.В. Судаков, E.H. Борисова, Л.Ю. Астахина, Н.И. Тарабасова, В.Г. Демьянов, А.Н. Качалкин, И.А. Малышева и др.). Накопленные тексты и наблюдения - серьёзная база для углубления проблем, связанных с деловой письменностью в её эволюции. Главные из новых задач можно определить так:
- жанровый состав и коммуникативное назначение текстов в разные периоды их жизни; набор ориентированных на коммуникацию средств текстообразования - ФГрВ в составе "речевых жанров". При этом ФГрВ предстаёт как межуровневый тип варьирования, структурно близкий к функционально-семантическому полю, где пересекаются друг с другом различные парадигмы и вариантные ряды;
- соотношение "нейтральных", народно-разговорных и книжно-славянских пластов в рамках каждого жанра делового письма. Но и в этом звене исследователь идёт почти вслепую, ориентируясь на традиционные ФГрВ и инновации;
- степень узуальной нормированное™ и вариативности каж-
дого языкового уровня и всех разновидностей ФГрВ деловой письменности. Однако выводы об общенародное™ норм не могут быть достоверными без сравнения наблюдений над языком столичных и провинциальных региональных канцелярий. Именно это и стало внутренним импульсом для развития исторического лингвокраеведения на Ю ж н о м Урале [Обзор см.: Глинкина 1992; 1995в; 1995г; 1996а; 19966]. Южноуральские скорописные документы относятся к XVIII в. [ГАЧО - Глинкина 1994]. Статус делового языка этого периода в системе формирующегося русского национального языка определялся прежде всего тем, что деловая письменность по своим общегосударственным масштабам, как и на предыдущих этапах письменной истории нашего языка, была поистине массовой: она создавалась тысячами должностных лиц разного ранга. На более раннем этапе (~ ХУ1-ХУП вв.) деловой язык стал основой общерусских грамматических норм литературного языка [С.М. Котков, В.В. Иванов, В.В. Колесов]. При этом в XVIII в. в нём отмечается ряд общенациональных тенденций: высокая степень морфонологического и морфологического варьирования, слабая дифференциация грамматических синонимов, невысокий процент конкурирующих вариантов старославянского и древнерусского происхождения, высокая устойчивость шаблонной рамки документа и клаузул -ФГрВ со своими константами и переменными (Челябинский городовой магистрат приказали...; четыре лошади рядом в корню опасны, нежели только одна пара в корне).
Локальные различия в ГрВ касаются не столько системно-структурной типологии вариантности, сколько её лексической и статистической представленности. Собственно морфологические диалектизмы очень редки и не снимают вывода о значительной однородности делового языка XVIII века на периферии и в центре и о его основополагающей роли в формировании грамматических норм национального литературного языка. Началось углубление стилистического расслоения текстов официального и неофициального характера. Но многие жанры делового письма XVIII в. парадоксально сочетали традиционные канцелярские формулы, отдалявшие деловой язык от языка литературы того времени, и элементы письменной фиксации разговорной речи (Пришёл Темешком зовут). Первые шаги в текстологическом анализе ФГрВ в южноуральских текстах показали:
- своеобразие вариантов основных клаузул (начальной, казусно-мотивировочной, констатирующей и конечной) в каждом типе делового акта: в рапорте, указе, сообщении, прошении и т.д.;
- специфический набор "речевых жанров" в частно-деловой переписке заводчиков Демидовых (Н.В. Викторова];
- имплицитность выражения лица автора через пассивные и безличные структуры [H.A. Новосёлова];
- функционально-стилистические предпочтения ряда устойчивых синтаксических формул [А.П. Чередниченко, JI.A. Конькова].
Поздняя локальная скорописная деловая письменность XVIII в. представлена десятками тысяч страниц не только в центральных, но и в провинциальных архивах страны. Для введения в научный оборот этого ценнейшего материала нужен серьёзный организационный уровень архивно-диалектологической практики студентов-филологов высшей школы, что уже второе десятилетие с успехом делается в Челябинском педуниверситете и ряде других вузов Уральского региона [Глинкина 1990].
7. Практическая значимость работы
1) Интегративная и неисчерпаемая тема языкового варьирования обусловила не только её теоретическое осмысление в указанных работах, но и пути практической реализаци и наблюдений в преподавании разных курсов историко-лингвистиче-ского цикла, в разработке ряда спецкурсов ("Становление языковых норм и варьирование в истории русского языка", "Исторический синтаксис русского языка", "Историческое словообразование"). Материалы по истории ГрВ являются основополагающим фактором в разработке курса исторического комментария фактов современного русского языка, в котором парадоксальные явления современной грамматики рассматриваются как некогда системные факты языка [Глинкина 1985; 1986; 1988].
2) Второе направление практического преломления идей по истории ГрВ связано с работой по историческому ли нгвокраеведению (см. публикации этого раздела в списке работ). Накопленный банк транслитерированных скорописных текстов XVIII в. из местного архива служит новым лингвистическим источником для изучения функционально значимого варьирования при текстологическом анализе. Написаны рекомендации для южноуральских школ по усилению регионального компонента в обучении; созданы программы для филологических факультетов по изучению лингвокраеведения (в соавторстве); а также программа но историческому лингвокраеведению [Глинкина 1990].
3) Проблемы вариантности языковых единиц в теоретическом и практическом планах стояли перец автором в процессе создания "Иллюстрированного словаря забытых и трудных слов из произведений русской литературы ХУ111-Х1Х в." [Глинкина 1998].
4) Понимание историко-лингвистического статуса ГрВ лежало и лежит в основе пропагандистской, культурно-просветительской работы, которую докладчик вёл в областной газете "Челябинский рабочий" в 1979-1991 г. (110 публикаций), а также в еженедельных беседах о русском языке по областному радио с 24/П 97 г. и в так называемой "радиослужбе языка"для южноу-ральцев.
Выводы по содержанию работы
1. Грамматическое варьирование - многомерное свойство эволюционирующей русской грамматической системы и вместе с тем это главный механизм всех системно-структурных изменений в истории грамматического строя русского языка.
2. Грамматические варианты возникают при нейтрализации теряющих актуальность грамматических оппозиций либо при рождении новой грамматической корреляции. В основе того и другого лежит изменение грамматической семантики единиц и несоответствие (неполное соответствие) грамматической формы. При этом диапазон варьирования регулируется системными ограничениями и проявляется как на уровне парадигматики, так и на уровне синтагматики.
3. Типология ГрВ определяется парадигматикой и синтагматикой морфологических и синтаксических единиц и структурируется как вариантность:
- морфологическая,
- морфосинтаксическая,
- лексико-синтаксическая,
- синтаксическая.
Грамматическое варьирование носит неоднородный характер в разных звеньях языковой системы: чем более высокое место в грамматической иерархии занимает тот или иной тип варианта, тем более абстрактный и множественный характер носит варьирование (от модификаций словоформ до модификаций сложного предложения и текстообразующих функционально значимых единиц языка и речи).
4. ГрВ выступает как системное явление, структура которого исторически изменчива: "набор" вариантов в каждый относи-
тельно большой период развития языка (одно-два столетия) оказывается различным в количественном и качественном отношении. При этом ГрВ всегда коммуникативно значима, т.к. ставит говорящего (пишущего) перед проблемой выбора им предпочтения варианта.
5. Грамматические варианты как проявление грамматической синонимии синхронно адекватны на уровне функционирования, однако в них всегда заложена скрытая изменчивость и потенциальная возможность для генетических изменений. Варьирование является не только следствием, но и причиной языковой динамики, т.к. их функциональная близость либо разрушается за счёт утраты одного из вариантов, либо вследствие дивергенции у вариантов появляется дополнительная дистрибуция.
6. "Исход" вариантности зависит от типа варьирующихся единиц: морфологическая вариантность является источником лек-сикализации, рождения новых номинаций и частичной грамматической омонимии; разрушение лексико-синтаксической вариантности заканчивается грамматикализацией и рождением служебных слов; морфосинтаксическая и синтаксическая вариантность, как правило, дольше сосуществуют в языке как парал-
дельные синонимические единицы сложного типа, которые по-разному соотносятся с языковыми стратами и литературной нормой. Медленные темпы развития СВ обеспечивают языку устойчивость и долговечность его основ.
7. ГрВ как составляющая текстообразующих функционально-стилистического текстологически значимого варьирования проявляется специфически в текстах разного коммуникативного назначения. В текстах деловой письменности XVIII в. она показательна в структуре всех клаузул.
Всё отмеченное позволяет считать ГрВ обязательным компонентом диахронической грамматики и теории эволюции.
Содержание диссертации отражено в следующих основных публикациях автора:
1960 1. К вопросу о бессоюзном сложном предложении в языке древнерусских памятников 16-17 вв.: (Бессоюзные предложения с пояснительной связью частей) /АН СССР //Исследования по лексикологии и грамматике русского языка. -М., 1960. -С. 230-261.
1961 2. О бессоюзных сложных предложениях в древнерусском языке 16-17 вв. //Вопросы истории и диалектологии русского языка/ Магнитогорск, гос. пед. ин-т. -Магнитогорск, 1961. -С. 13-34.
1962а 3. О пояснительной связи между сказуемыми в простом предложении //Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы в 1961-1962 учебном году/ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1962. -С. 8-11.
19626 4. К вопросу о бессоюзном сложном предложении в языке древнерусских памятников 16-17 вв.: Автореф. дис... канд. филол. наук. -М.: АН СССР, 1962. -19 с.
1963 5. Бессоюзные сложные предложения, выражающие причинно-следственные отношения в древнерусском языке 16-17 вв. //Известия АН СССР. -М., 1963. -Т. 22, вып. 5. -С. 403-414.
1965 6. О конструкциях, стоящих на грани между простым и сложным предложением: На материале древнерусских памятников 16-17 вв. //Вопросы истории и диалектологии русского языка/ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1965. -Вып.1. -С. 29-41.
1966 7. О пояснительных отношениях между сказуемыми в простом предложении //Вопросы морфологии, синтаксиса русского языка и методики его преподавания/ Пермск. гос. пед. инт. -Пермь, 1966. -С. 73-85.
1967 8. О вариантных основах существительных: По "Материалам для словаря древнерусского языка" И.И.Срезневского /"
/Вопросы истории и диалектологии русского языка / Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1967. -Вып. 2. -С. 58-74.
1968 9- Вторые косвенные падежи //Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения. -М., 1968. -С. 96-147.
1971 10. О структурно-семантической соотносительности/ несоотносительности бессоюзных и союзных предложений в языке древнерусских памятников письменности 16-17 вв. //Проблемы истории и диалектологии славянских языков: Сб. ст. к 70-летию чл.-кор. АН СССР В.Борковского. - М., 1971. -С. 94-105.
1972а 11. Место бессоюзных предложений цели в синонимическом синтаксическом ряду (по письменным памятникам 1617 вв.) //Вопросы истории и диалектологии русского языка/ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1972. -Вып. 4. -С. 14-26.
19726 12. Семантическое взаимодействие в кругу родовари-антных существительных в древнерусской письменности //Вопросы истории и диалектологии русского языка/ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1972. -Вып. 5. -С. 17-31.
1972в 13. К истории союза "то есть" в русском языке/ Проблемы русского языка и методики его преподавания в вузе и школе: Материалы XIV межвуз. конф. языковедов Поволжья, 2022 мая 1970 г. -Саратов, 1972. -С. 142-147.
1974а 14. О родовариантных формах существительных в древнерусском языке (по материалам И.И.Срезневского) //Вопросы словообразования и лек-сикологии древнерусского языка. -М.,
1974. -С. 196-225.
19746 15. Отражение родовой вариантности древнерусских существительных в их сочетаемости //Вопросы сочетаемости языковых единиц. -Саратов, 1974. -С. 62-69.
1975 16. О связи родовой вариантности и частичной омонимии древнерусских существительных //Вопросы истории и диалектологии русского языка/ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск,
1975. -Вып. 7. -С. 25-33.
1976а 17. О морфологической вариантности древнерусских существительных, связанной с категорией числа //Вопросы истории и диалектологии русского языка/ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1976. -Вып. 8. -С. 5-23.
19766 18. Практикум по историческому комментированию фактов современного русского языка //Вопросы истории и диалектологии русского языка/ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск,
1976. -Вып. 8. -С. 98-125.
1978а 19. Из истории существительных р1игаНа ишШт в русском языке //Вопросы исторической грамматики русского языка.
-Челябинск, 1978. -С. 60-72.
19786 20. Из истории пояснительных союзов в русском языке //Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка. -М., 1978. -С. 98-116.
1978в 21. Подлежащее //Историческая грамматика русского языка: Синтаксис. Простое предложение /Под ред. В.И.Борковского. -М., 1978. -С. 7-40.
1979а 22. К проблеме грамматической вариантности в истории русского языка //Вопросы истории и диалектологии русского языка / Челяб. гос. пед. ин-т. Вып. 9. -Челябинск, 1979. -С. 40-52.
19796 23. К проблеме классификации морфологических вариантов в древнерусском языке //Проблемы сибирской диалектологии/ КГПИ. - Красноярск, 1979. -С. 157-167.
1980 24. Программа диалектологической практики: (Для студентов ист.-пед. факультета)/Глинкина JI.A., Житникова В.Ф., Тимофеева В.П., Турбин Г.А., Шкатова J1.A.; Челяб. гос. пед. инг. -Челябинск, 1980. -С. 37.
1982 25. Культура речевого поведения как факультативный курс //Культура речи в различных сферах общения: Тез. XIX зонал. совещ. каф. рус. яз. вузов Урала, 5-7 мая 1982 года. -Челябинск, 1982. -С. 155-157. (в соавторстве с JI.A. Шкатовой).
1983 26. Лексикализация древнерусских морфологических вариантов существительных //Актуальные проблемы диалектологии и исторической лексикологии русского языка: Тез. докл. и сообщ.: (Вологда, 24-26 мая 1983 г.). -Вологда, 1983. -С. 146-147.
1984а 27. Грамматические нормы и варианты существительных в языке деловой письменности XVIII в. //Становление языковой нормы и живая речь/ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1984. -С. 180-206. Деп. в ИНИОН АН СССР 5.03.85, № 19814
19846 28. Индивидуальная семантика и грамматическое число (на материале древнерусских названий частей тела) //Актуальные проблемы современной и исторической лексикологии: Тез. докл. и сообщений XX зональной конф. каф. рус. яз. вузов Урала, 15-17 мая 1984 г. -Свердловск, 1984. -С. 15-16.
1984в 29. Морфологическая вариантность и смежные уровни языковой системы (на материале истории русского языка) // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка: (Лин-гвогеография на современном этапе и проблемы межуровневого взаимодействия в истории языка). -М., 1984. -Т. 2. -С. 213-214.
1984г 30. Речевой этикет: ты и вы //Русская речь. -1984. -№ 2. - С. 62-67.
1985а 31. "Весь ваш без церемоний...": Речевой этикет в
частных письмах XIX в. //Русская речь. -1985. -№ I. -С. 39-45.
19856 32. Практикум по историческому комментированию фактов современного русского языка/ Чедяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1985. -31 с. (в соавторстве с Чередниченко А.П.).
1985в 33. К проблеме грамматической нормы в деловой письменности XVIII века //Восточные славяне. Языки. История. Культура. -М., 1985. -С. 120-126.
1985г 34. Таблицы по историческому комментированию фактов современного русского языка/ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1985. -15 с. (в соавторстве с Чередниченко А.П.).
1986а 35. Формирование научных понятий в курсе исторической грамматики русского языка //Совершенствование процесса формирования научных понятий у учащихся школ и студентов педвузов: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. -Челябинск, 1986. -С. 19-21. (в соавторстве с Чередниченко А.П.).
19866 36. "Пишет домой война": О письмах военных лет/ Русская речь. -1986. -№ 3. -С. 9-14.
1986в 37. К проблеме соотношения замещённых и незамещённых синтаксических позиций в древнерусском синтаксисе // Проблема семантики предложения: выраженный и невыраженный смысл. -Красноярск, 1986. -С. 100-103.
1986г 38. IX Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Языкознание. -Киев: Наукова думка, 1986, с. 253-254.
1987 39. Из эпистолярного наследия революционеров-большевиков //Русская речь. -1987. -№ 4. -С. 11-15.
1988а 40. Грамматическая вариантность и грамматическая аналогия в истории русского именного склонения //Историческое развитие языков и методы его изучения: Тез. межвуз. конф. (Свердловск, 25-27 окт. 1988 г.): В 2 ч./ Свердл. гос. пед. ин-т. -Свердловск, 1988. -Ч, 2. -115 с.
19886 41. Историческое лингвокраеведение на филологическом факультете пединститута //Реализация школьной реформы в вузовском преподавании лингвистических дисциплин: Тез. докл. совещ.-семинара зонального объединения кафедр рус. яз. вузов Урала, 24-25 февр. 1988 г./ М-во просвещения РСФСР, Курган, гос. пед. ин-т. -Курган, 1988. -С. 70-71.
1988в 42. Программа сбора материала по региональной лингвистике: Метод. указания/Турбин Г.А., Житников В.Ф., Глинки-на JI.A.; Урал. гос. ун-т. -Свердловск, 1988. -С. 27.
1988г 43. К проблеме типологии омонимов в древнерусской лексической системе //Актуальные проблемы исторической лексикологии и лексикографии восточно-славянских языков: Тез. докл. Второй Всесоюз. конф., 1-14 окт. 1988 г., г.Днепропет-
ровск. -Днепропетровск, 1988.
1988д 44. Методические рекомендации по историческому комментированию на уроках русского языка (орфография)/ ИУУ. -Челябинск: ИУУ, 1988. -37 с.
1988е 45. Морфологические варианты и дублеты в южноуральской деловой письменности XVIII в. //Восьмые Бирюковские чтения: Тез. докл./ Челяб. гос. ун-т; Челяб. гос. ин-т культуры. -Челябинск, 1988. -С. 335-337.
1989 46. Профессиональная направленность курса исторической грамматики русского языка //Формирование профессиональной направленности у студентов в свете основных направлений перестройки высшего образования в стране: Тез. 6 межвуз. обл. науч.-практ. конф. -Челябинск, 1989. -С. 119-122.
1990а 47. Формирование понятия относительной хронологии в курсе исторической грамматики русского языка //Вопросы методологии и методики формирования научных понятий у учащихся школ и студентов вузов: Тез. докл. межвуз. науч.-практ. конф., 21-23 мая 1990 г./ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1990. -Ч. 1. -С. 77-78.
19906 48. Историческое лингвокраеведение в учебном процессе/ Урал. гос. ун-т. -Свердловск, 1990. -25 с.
1990в 49. Живая разговорная речь и исторический синтаксис (замещение синтаксических позиций) //Становление норм русского национального языка: Межвуз. сб. науч. тр./ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1990. -С. 3-18.
1990г 50. Языковые интересы челябинцев: (обзор писем в рубрику "Живое русское слово" областной газеты "Челябинский рабочий") //Языковой облик уральского города: Сб. науч. тр./ Урал. гос. ун-т. -Свердловск, 1990. -С. 145-156.
1990д 51. Статус грамматических вариантов и грамматических дублетов в истории русского языка //Всесоюзная конференция "Закономерности языковой эволюции": Тез. докл., Рига, апрель 1990/ Латв. ун-т. -Рига, 1990. -С. 52-54.
1991а 52. [Рецензия] //Рус. яз. в шк. - 1991. - № 2. - С. 109-113.
Рец. на кн.: Хрестоматия по истории русского языка: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. "Рус. яз. и лит."/ Авт.-сост.: Иванов В.В., Сумникова Т.А., Панкратова Н.П. -М.: Просвещение, 1990,
19916 53. Аз, буки, веди... Материалы и рекомендации к проведению праздника славянской писменности и культуры в школе/ Челяб. обл. слав, культ, центр. -Челябинск: Газета, 1991. -52 с.
1991в 54. К истокам синтаксиса русской разговорной речи
по данным письменности //Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции: Тез. докл. всесоюз. науч. конф., Ужгород, 23-25 окт. 1991 г. -Москва; Ужгород, 1991. - 210 с.
1992а 55. Секция русского языка //Информационно-методический пакет документов и материалов по организации и деятельности Челябинского научного общества учащихся (в помощь директорам и учителям школ, колледжей, гимназий, работникам внешкольных учреждений). -Челябинск, 1992. -С. 46-47.
19926 56. К проблеме становления порядка слов в деловой письменности 18 в. //Культура речи в разных сферах общения: Тез. докл. Всерос. конф., 15-17 сент. 1992 г./ Ин-т русского яз. РАН, Чсляб. гос. ун-т; Челяб. гос. пед. ин-т; Межвуз. каф. культуры речи при Челяб. обл. организации о-ва "Знание". -Челябинск, 1992. -С. 83-84.
1992в 57. Эволюция исторической лингвистики и формирование её понятий //Научные понятия в современном учебном процессе школы и вуза: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф., 18-20 мая 1992 г./ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1992. -Ч. 1. -С. 133-134.
1992г 58. Лингвокраеведение как учебный курс/ Глинкина Л.А., Турбин Г.А., Лабзина М.В. //Научные понятия в современном учебном процессе школы и вуза: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. 18-20 мая 1992 г./ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1992. -Ч. 1. -С. 132-133.
1992д 59. Грамматическое число в истории русских сома-тизмов //Становление грамматического и лексическо-фразеоло-гического строя русского языка: Межвуз. сб. науч. тр./ Магнитогорский гос. пед. ин-т. -Магнитогорск, 1992. -С. 3-21.
1992е 60. Прагматические аспекты культуры речи в местных условиях //Гуманизация высшего образования: Тез. зокал. конф. -Калининград, 1992. -С. 53-54.
1992ж61. Приобщение старшеклассников к научной работе: Из опыта работы кафедры русского языка Челяб. пединститута с учащимися колледжа "Наука" //Информационно-методический пакет документов и материалов по организации деятельности Челябинского НОУ: В помощь директорам школ, лицеев, гимназий/ Центр развития образования и Дворец творчества учащейся молодежи. -Челябинск, 1992. -С. 32-38.
1992з 62. Историческое лингвокраеведение в учебном процессе //Историзм в преподавании русского языка в школе на материале русского языка в педвузе: Тез. докл. участн. науч.-практ. конф. -М., 1992. -С. 7.
1992и 63. Глинкина Л.А. Эволюция грамматического варь-
ирования и дублетности как источник неморфологического словообразования //Исторические изменения в языковой системе как результат функционирования единиц языка: Тез. докл. межрегио-нал. науч. копф., 4-6 окт. 1992 г. -Калининград, 1992. -С. 20-22.
1993а 64. О христианской морали сквозь призму русской фразеологии //Диалектические процессы во фразеологии: Тез. докл. межвуз. науч. конф./ Челяб. гос. пед. ин-т, Курган, гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1993. -С. 76-78.
19936 65. Интеграция историко-^гнгвистических понятий в спецпрактикуме по историческому комментированию //Научные понятия в современном учебном процессе школы и вуза: Тез. докл. на 21 межвуз. науч. семинаре, 18-19 мая 1993 г./ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1993. -4. 2. -С. 70-71.
1993в 66. Морфологическая вариантность и неморфологическое словообразование в истории русского языка //Исследования по историческому словообразованию: Сб. науч. докл. -М., 1993. -С. 54-62.
1993г 67. Грамматическая норма и грамматическое варьирование в южноуральской деловой письменности 18 в. //Слово в системных отношениях на разных уровнях языка (функциональный аспект): Тез. докл. Всерос. науч. лингвист, конф., 22-25 февр. 1993 г. -Екатеринбург, 1993. -С. 36-37.
1994а 68. Исторические фонды Челябинского архива и проблемы уральского лингвокраеведения //Одинадцатые Бирюковс-кие чтения : Тез. докл./ Шадр. гос. пед. ин-т; Челяб. гос. ун-т. -Шадринск, 1994. -С. 167-168.
19946 69. Принцип историзма в школьном преподавании русского языка //Научные понятия в учебно-воспитательном процессе школы и вуза: Тез. докл. на II Всерос. науч.-практ. конф., 11-13 мая 1994 г. -Челябинск, 1994. -Т. 2. -С. 85-86.
1994в 70. Эволюция кратких и полных склоняемых форм и неморфологическое словообразование в истории русского языка/ Эволюция лексико-фразеологического и грамматического строя русского языка: Межвуз. сборник науч. работ/ Магнитогорск, гос. пед. ин-т. -Магнитогорск, 1994. -С. 3-11.
1994г 71. Вуз и инновационная школа: (Из опыта работы кафедры русского языка Челябинского пединститута) //Новые подходы к преподаванию гуманитарных дисциплин в средних общеобразовательных и специальных учебных заведениях: Тез. респ. науч. конф., 20-24 сент. 1994 г., г.Ачинск. -Ачинск, 1994. -С. 7-10.
1995а 72. Вариативность как научный объект в русском языкознании //Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы: Тез. межд. конф. -М., 1995. -Т. 1. -С. 126-128.
19956 73. Культурологический и этнолингвистический аспекты в вузовском преподавании истории русского языка филологам-русистам //Методология и методика формирования научных понятий у учащихся школ и студентов вузов: Тез. докл. межд. науч.-практ. конф./ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1995. -Ч. 2. -С. 80-81.
1995в 74. Лингвистическая олимпиада в структуре современного филологического образования //Научные понятия в учебно-воспитательном процессе: Тез. докл. XXV межвуз. науч.-практ. семинара/ Челяб. гос. пед. ин-т. -Челябинск, 1995. -Ч. 2. -С. 75-76.
1995г 75. Лингвистическое краеведение на Южном Урале // Лингвистическое краеведение на Южном Урале (К индивидуальному компоненту в преподавании русского языка в школе)/ Челяб. ин-т повышения квалификации и переподготовки работников образования. -Челябинск, 1995. -С. 32-39; 59-69; 70-78.
1995д 76. Лингвистическое краеведение на Южном Урале: итоги и перспективы //Вестник Челябинского педагогического института: Науч. журн. ЧГПИ: Сер. 3. Филология/ Челяб. гос. пед. ин-т; Чепасова А.М. (Гл.ред.). -Челябинск, 1995. -Вып. 1. -С. 6-13.
1995е 77. Конференция, посвященная 100-летию В.В.Виноградова //Вестник Челябинского педагогического института: Науч. журн.ЧГПИ: Сер. 3. Филология/ Челяб. гос. пед. ин-т; Чепасова
A.М. (Гл.ред.). -Челябинск, 1995. -Вып. 1. -С. 81-85.
1995ж78. Проблемы эпистолярного идиостиля в русистике /
/Семантика слова, образа, текста: Тез. межд. конф./ Мин-во образования РФ; Поморский межд. пед. ин-т; Северодвинск, гума-нит. ин-т. -Архангельск, 1995. -13 с.
1995з 79. Вариантное слово в списках древнерусского текста //Слово: Материалы межд. лингвист, науч. конф., 2-4 окт. 1995/ Гос.комитет РФ по высшему образованию. -Тамбов, 1995. -С. 114-115.
1995н 80. Грамматическое варьирование в аспекте парадигматики и синтагматики (на материале истории русского языка) //Грамматические категории и единицы: синтагматический аспект: Тез. межд. конф./ Владимирск. пед. ун-т. -Владимир, 1995. -С. 38-40.
1995к 81. Функционирование языковых единиц в эпистолярном жанре //Функционирование языковых единиц современного русского языка: Межвуз. сб. науч. трудов/ Магнитогорск, гос. пед. ин-т. -Магнитогорск, 1995. -С. 3-19.
1995л 82. О статусе деловой письменности 18 века в системе русского национального языка //Международная юбилейная сессия, посвящённая 100-летию со дня рождения академика
B.В.Виноградова: Тез. докл. РАН, МГУ. -М., 1995.
1996а 83. Языковая личность в зеркале частного письма // Язык, система, личность: Тез. докл. и сообщений межд. симпозиума Урал. гос. пед. ун-т; Отв. ред. Т.А.Гридина. -Екатеринбург, 1996. -С. 12-13.
19966 84. Историко-лингвистический комментарий: содержание и структура вузовской дисциплины //Актуальные проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы: Материалы всерос. науч.-метод, конф. -Воронеж, 1996. -Ч. 3. -С» 55-57.
1996в 85. Южноуральская деловая письменность 18 в. в аспекте исторической стилистики //Двенадцатые Бирюков.ские чтения: Тез. науч.-практич. конф./ Челяб. гос. пед. ин-т; Челяб. гос. ин-т искусства и культуры. -Челябинск, 1996. -С. 207-209.
1996г 86. Детские жемчужинки //Народное образование. -1996. -№ 6. -С. 47-49.
1996д 87. Деловая письменность в системе функциональных стилей национального языка 18 "века //Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики, 29 янв.-1 февр. 1996 г./ Челяб. гос. ун-т. -Челябинск, 1996.
1997а 88. О преподавании дисциплин историко-лингвисти-ческого цикла в условиях стандартизации высшего образования // Стандартизация образования в современной средней и высшей школе: Тез. докл. межд. науч.-практ. конф., 12-14 мая 1997 г./ Мин-во общего и професс. образования РФ, РАО, Челяб. гос. пед. ин-т; Отв. ред. А.В.Усова. -Челябинск, 1997. -Т. 2. -С. 51-52.
19976 89. Самостоятельная работа по истории русского языка (ИРЯ) в вузе: содержание, форма, контроль //Методика вузовского обучения: Сб. тезисов/ Челяб. гос. пед. ун-т. -Челябинск, 1997.
1997в 90. Формирование историко-лингвистической концепции у студентов-заочников филологического факультета //Концепция развития высшего педагогического образования без отрыва от производства в новых социально-экономических условиях: Всерос. науч.-практ. конф./ Магнитогорск, гос. пед. ин-т. -Магнитогорск, 1997.
1997г 91. О преподавании дисциплин историко-лингвисти-ческого цикла в условиях стандартизации высшего образования / /Стандартизация образования в современной средней и высшей школе: Тез. докл./ Челяб. гос. пед. ун-т. -Челябинск, 1997.
1997д 92. Эпистолярное наследие как часть национальной культуры России (лингвостилистический аспект) //Русский язык как государственный. Материалы международной конференции (Челябинск, 5-6 июня 1997). -Москва-Челябинск, 1997. -С. 121-124
1998а 93. Иллюстрированный словарь забытых и трудных слов из произведений русской литературы ХУШ-Х1Х веков -Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1998. -280 с.
19986 94. Архаизация элементов языка в диахронии и син-хронии//Русский язык в его функционировании. Тезисы докладов международной конференции. Третьи Шмелёвские чтения, 22-24 февраля 1998 г. -М.. Ин-т русского яз. им. В.В. Виноградова РАН, МГПУ, 1998. -С. 21-23.
1998в 95. Место и значение фольклора и фольклоризма в национальных культурах: история и современность. Тезисы докладов научной конференции посвящённой 70-летию доктора филологических наук, профессора А.И. Лазарева -Челябинск, 1998. -С. 176-178.
Оглавление
Введение
Общая характеристика работы.
Основная часть
1. Грамматическая вариантность как объект исторической русистики.
1.1. Вариантность и диахрония.
1.2. Вариантность и норма.
2. К проблеме типологии грамматической вариантности в истории русского языка.
2.1. ГрВ на уровне знаменательных слов.
2.2. ГрВ на уровне устойчивого сочетания.
2.3. Варьирование служебных слов.
2.4. Синтаксическое варьирование в простом предложении.
2.5. Синтаксическое варьирование в сложном предложении.
3. Морфологическая вариантность.
3.1. Морфологические варианты грамматического рода в древнерусском именном словоизменении.
3.1.1. Эволюция грамматического рода и морфологическая вариантность в субстантивной парадигме единственного числа.
3.1.2. Эволюция грамматического рода и варьирование в субстантивной парадигме множественного числа.
3.1.3. Морфологическая вариантность по грамматическому роду в несубстантивных именных частях речи.
3.2. Морфологическая вариантность в связи с эволюцией грамматической категории числа.
3.3. Морфологическая вариантность субстантивных падежных форм.
3.4. Лексикализация и грамматикализация словоформ как
исход разрушения морфологической вариантности.
4. Морфосннтаксичсская вариантность.
4.1. Морфосинтаксическое варьирование вторых косвенных падежей и творительного имени в позиции объектно-предикативной приглагольной синтаксемы в истории восточнославянских языков.
4.1.1. Конкуренция оборота со вторым винительным и его синтаксических вариантов.
4.1.2. Оборот со вторым дательным в ряду синтаксических синонимов.
4.2. Морфосинтаксическая вариантность в позиции подлежащего.
4.2.1. Подлежащее - словоформа знаменательной лексемы.
4.2.1.1. Существительное в функции подлежащего.
4.2.1.2. Субстантивированные части речи в роли подлежащего.
4.2.1.3. Числительное в функции подлежащего.
4.2.1.4. Местоимение в функции подлежащего.
4.2.1.5. Инфинитив в функции подлежащего.
4.2.2. Лексически неодночленное подлежащее.
4.3. Грамматическая соотнесённость подлежащего и сказуемого в типологии МСВ в ИРЯ.
§. Грамматическое варьирование па уровне сложного предложения. Проблема ГрВ бессоюзных и союзных предложений.
6. Функционально значимая ГрВ как фактор текстообразова-
пия.
7. Практическая значимость работы.
8. Выводы по содержанию работы.
Список основных публикаций.
Текст диссертации на тему "Грамматическая вариантность в истории русского языка"
Челябинский государственный педагогичеекиий университет
На правах рукописи
ГЛИНКИНА Лидия Андреевна
ГРАММАТИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Специальность 10.02.01 - русский язык
Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора филологических наук
ч
I
Официальные оппоненты:
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
9
99
доктор филологических наук, профессор К.И. Демидова
доктор филологических наук, профессор Р.П. Рогожникова
доктор филологических наук, профессор М.Э. Рут
Ведущая организация: Институт русского языка
им. В.В. Виноградова Российской Академии наук.
Защита диссертации состоится 3 июля 1998 г. в 11 часов на заседании диссертационного совета Д 113.42.02 при Уральском государственном педагогическом университете по адресу: 620219, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 26.
С диссертацией научно да можно ознако-
миться в библиотеке 1 го педагогичес-
кого университета.
Диссерт азослана 2 июня
1998 года.
Ученый секретарь
диссертационного совету
кандидат филологических н;>.. —
доцент ,, ^"^^Г^В.П.Хабиров
ВВЕДЕНИЕ Общая характеристика работы
В докладе представлены результаты многолетних исследований автора в области грамматической вариантности, выполненные на историко-лингвистическом материале. Настоящая работа посвящена теоретическому осмыслению варьирования как универсальной формы развития языка в любом из его звеньев. В ней подводятся итоги практической реализации отдельных положений применительно к современной речевой ситуации - в научной, научно-методической, педагогической и научно-просветительской работе автора.
Актуальность темы исследования мотивируется тем, что для исторической русистики теоретические проблемы грамматической вариантности по существу являются новыми и задачи их практического решения только определяются [Иванов ДГр 1995, с. 4].
А между тем к концу XX в. изменяемость различных объектов органического и неорганического мира, соотношение тождеств и различий обрели статус общенаучн ой проблемы. И понятие варьирования (вариантности, вариабельности, вариативности) стало значимым звеном в кругу общенаучных понятий: система-элемент-структура-вероятность-модель-инвариант-функция. Языковая и речевая вариативность с разных позиций оказались объектом и предметом научного анализа различных дисциплин: собственно языкознания, философии, логики, психолингвистики, психологии и др. [Глинкина 1979а].
Оценка ГрВ* как объекта русского и сторического языкознания определяется общенаучным, общеязыковым статусом варьирования языковых единиц.
В общем языкознании вариативность признаётся сегодня важнейшим многомерным свойством языковой системы, заслуживающим выделения в самостоятельный объект всестороннего изучения
* В докладе принят ряд сокращений: ИРЯ - история русского языка; ГрВ - грамматическая вариантность (варьирование); МВ - морфологическая вариантность; МСВ - морфосинтаксическая вариантность; Л.СВ - лексико-синтаксическая вариантность; СВ - синтаксическая вариантность; ФГрВ - функционально значимая грамматическая вариан-. тность; РРР - русская разговорная речь; АГ - академическая грамматика; ССП - сложносочинённое предложение; СПП - сложноподчинённое предложение; БСП - бессоюзное сложное предложение; ДГр - древнерусская грамматика ХИ-ХШ в.в.
с позиций внешней и внутренней лингвистики, синхронии и диахронии. Контуры общей теории вариантности как универсального свойства языковых систем наметились лишь в последней четверти века. Этому немало способствовали три общесоюзных тематических конференции: "Вариантность как свойство языковой системы" [Москва 1982], "Вариативность в германских языках" [Калинин 1989], "Явление вариативности в языке" [Кемерово 1994], а также ряд обобщающих публикаций по данной и смежным темам: сборник обзоров "Проблемы языковой вариантности" [ИНИОН 1990], монографии В.М. Солнцева [1971], К.С. Горбачевича [1971; 1974; 1978], Е.И. Шендельс [1964], A.A. Зализняка [1967; 1979], Л.К. Граудиной [1980] и ряд других публикаций по теме, с которых начиналось формирование нового направления в лингвистике, - Ф.П. Филина [1963], Р.П. Рогожниковой [1966; 1967], О.И. Блиновой [1968], В.П. Тимофеева [1971], К.И. Ходовой [1970; 1971; 1975] и др.
Краткий экскурс в историю становления вариативности в отечественном языкознании позволяет утверждать, что р у с и с тика исподволь была подготовлена всем ходом своего развития к научному "буму" вокруг этой проблемы в конце XX в. [1979а; 19796; 1995а]. Научное осмысление проблемы языкового варьирования происходило постепенно вместе с формированием и развитием классических традиций познания языка в системности и строгом единстве значения и формы, заложенных A.A. Потебнёй, Ф.Ф. Фортунатовым, A.A. Шахматовым, И.А. Бодуэ-ном де Куртенэ. Мы считаем, что особенно важную роль в создании концептуального фундамента теории вариантности сыграли следующие факторы:
- Углубление понятий грамматической категории (ГК), грамматического значения (ГЗ), грамматической формы (ГФ) и словоформы в известных трудах Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Н.Ю. Шведовой, М.В. Панова, В.М. Жирмунского, В.Н. Ярцевой, М.М. Гухман, Т.В. Булыгиной, A.B. Бондарко и др. учёных.
- Интенсивная разработка грамматической теории, стремление к непротиворечивым классификациям и единой системе лингвистических терминов при создании ряда коллективных многотомных академических трудов, академических грамматик русского языка (АГ-56, АГ-70, АГ-80), новых лингвистических энциклопедических и терминологических словарей, а также нового поколения учебников для вузов по современному языку [Н.Ю. Шведова 1995; В.А. Белошапкова 1997].
- Научная постановка проблемы тождества и различия языковых знаков в русском и зарубежном общем
языкознании, развивающая идеи Ф. де Соссюра [А.И. Смирниц-кий 1952; 1954; О.С. Ахманова 1957; К. Габка 1965; В. Скаличка
1965; А. Мартине 1965; В. Матезиус 1967; В. Бариет 1976; 1989 и др.].
- Утверждение в отечественных и зарубежных фонологических школах научных понятий фонемы, вариации, варианта, инварианта и обращение к изоморфизму в грамматике [Н.С. Трубецкой, P.O. Якобсон, Р.И. Аванесов, A.A. Реформатский, В.В. Иванов, В.К. Журавлёв и др.].
- Поиск объективных критериев различения словоформы, варианта и самостоятельной лексемы в теории^ и практике современной и исторической лексикографии и лингвогеографии при создании словарей разного типа и картографировании материалов в ДАРЯ и ОЛЯ [Проекты словарей древнерусского языка XI-XIV вв.; Словаря русского языка XVIII в.].
- Стремление описать в рамках современной теории обширный материал, накопленный в рамках лингвистической географии и лингвистического источниковедения.
- Первые опыты ленинградских учёных по лингвистической обработке многотысячного банка данных по именному склонению XI-XIV, XV-XVII вв. в славянских языках - с помощью современной техники [1974; 1977].
- Интеграция и дифференциация научного знания не только своей, но и других сопредельных наук, выделяющих вариативность как объект изучения: теории биологической мутации и коммуникации, формализации вариативных правил смешанных диаграмм волновых моделей и др. [Глинкина 1995а].
Изучение обширной литературы позволило нам определиться в формирующейся общей теории вариантности ("вариантологии" - В.М. Гак) и обозначить круг фундаментальных положений -"констант", а также заслуживающих внимания (доверия или проверки) теоретических допус ков в подходе к проблемам ГрВ на историко-лингвистичес-ком материале и сформулировать их так:
- Варьирование языковых единиц в устной и письменной речи - фундаментальное системное свойство любого живого развивающегося языка.
- Причиной ГрВ является действие непреложного закона асимметрического дуализма языкового знака, открытого С.О. Кар-цевским, В. Матезиусом и В. Скаличкой.
- Отношения вариативности возникают только среди сема нтически и функцинально однородных единиц языка, в чём и состоит их отличие от смежного и
менее строгого явления синонимии.
- Типология вариантов (речь о "внутренней" вариантности) должна иметь системно-структурную основу в поуровневом анализе парадигматики и синтагматики единиц языка.
- Гр.В - интегративный объект, который пересекается с теорией грамматических оппозиций и их нейтрализации.
- Узуальные и кодифицированные нормы на разных этапах развития языка интерпретируются как выбор вариантов гомогенного происхождения, с учётом межъязыкового гетерогенного варьирования, в частности старославянизмов и русизмов.
Объект нашего изучения допускает самое общее определение: ГрВ - как сосуществование, а при диахроническом подходе - и как последовательность (замена) семантически, формально и функционально адекватных элементов грамматики в аналогичных отношениях с другими элементами языковой системы.
Предмет исследования оказался многочастным в зависимости от эмического уровня единиц:
1) морфологическое варьирование (МБ) на уровне слова-лексемы как совокупности словоформ [Глин кип а, публикации 19671998 гг.];
2) морфосинтаксическое варьирование (МСВ) словоформы-син-таксемы в определённой позиции:
а) эволюция так называемых вторых падежей в истории трёх восточнославянских языков [Глинкина 1968];
б) МСВ в сфере подлежащего на материале истории русского языка (XI-XVII вв.) [Глинкина 1978];
3) синтаксическое варьирование (СВ) в сфере сложного предложения при сравнении бессоюзных и союзных предложений в ИРЯ Х1-ХУН вв. [Глинкина, публикации 1961-1990 гг.];
4) функционально значимое грамматическое варьирование в рамках текста как синтаксического целого (ФГрВ) [Глинкина, публикации 1984-1997].
Цели данного исследования определяются необходимостью:
- осмыслить историко-лингвистический эволюционный процесс в отдельных его звеньях в аспекте современной теории вариантности, рассматриваемой как методологический ключ к пониманию саморазвития языка;
- обобщить накопленные в исторической русистике знания по проблемам ГрВ избранных для анализа частных объектов ИРЯ;
- определить в современном объективном знании о ГрВ место
собственных многолетних наблюдений и обобщений по данной теме.
Общие задачи работы:
1. Выявить структурно-семантическое своеобразие 1'рВ как функционально взаимозаменяемых единиц в соответствии с их языковой природой.
2. Наметить основы типологии ГрВ как системного явления в развитии языка.
3. Определить специфику ГрВ в диахронии, учитывая "исход" варьирования в зависимости от его места в типологии ГрВ, отношение к процессам конвергенции/дивергенции, к узуальной или кодифицированной нормализации в данном звене языковой системы или жанрово-стилистической сферы.
В соответствии со спецификой разнотипного грамматического варьирования дифференцировались частные задачи изучения.
1) При анализе МБ самостоятельных слов-лексем в теоретическом плане задача состояла в выработке критериев тождества и различия слов при варьировании с учётом их семантики и функционирования. Это соответственно требовало практического отграничения МВ от смежных типов - морфо-нологического варьирования и от дублетности, а также определения сферы взаимодействия морфологического варьирования со словообразованием и формообразованием вследствие грамматической аналогии, лексикализации и грамматикализации.
2) При исследовании варьирующихся служебных с лов [объектом изучения были исторически новые пояснительные союзы - Глинкина 1972; 1978] следовало выявить контексты их употребления и найти языковые условия, в которых формировались на основе свободных номинаций (слов, словосочетаний) грамматически омонимичные им служебные средства синтаксической связи.
3) При изучении МСВ синтаксем было необходимо определить константные и переменные единицы синтаксической позиции [подлежащего - Глинкина 1978; первого (прямого/ косвенного объекта) и второго (предикативного) падежа - Глинкина 1968], а также установить влияние парадигматического ряда на возможность/невозможность МСВ.
4) При анализе СВ и семантико-структурных свойств бессоюзных и союзных сложных предложений в русском языке XVI-XVII вв. требовалось установить границы трансформации друг в друга сопоставляемых полипредикативных единиц.
5) Изучение функционально значимых вариантов, затронувшее три сферы их употребления: деловую
письменность XVIII в., эпистолярный стиль русских писателей XIX-XX вв. и историко-лингвистические тексты, близкие к живой разговорной речи, предполагало лингвотекстологический анализ, раскрывавший условия отбора определённых МВ, МСВ, СВ в дискурсе.
Гипотеза нашего исследования была предопределена сопоставлением неоднотипных фрагментов ГрВ в ИР Я. Её основу составляют два положения:
1)Типология ГрВ при синхронности его проявления неоднородна на каждом диахроническом срезе;
2) Она определяется внутренними закономерностями парадигматики и синтагматики каждого уровня.
Относительно материально-источниковедческой базы исторической лингвистики мы разделяем методологически важную позицию В. В. Иванова: "Не может быть сомнения в том, что только на основе глубокого познания языковой материи возможно создать ту или иную теорию языкового развития и что без опоры на факты языка любая теория оказывается построенной на песке и потому рассыпается при первом же столкновении с действительностью, т. е. с языковыми фактами" [Актуальные проблемы совр. лингвистики// Филолог, науки. 1978, № 5, с. 30].
Источники изучения ГрВ в содержательном, хронологическом и локальном планах были многообразными в зависимости от конкретного объекта и предмета анализа.
1) Основу анализа СВ и МСВ в позиции подлежащего составляют тексты древнерусского и старорусского периода. ^ Особенно тщательно изучены тексты старорусского языка XVI-XVII вв.
2) При описании МСВ была использована уникальная синтаксическая картотека сектора сравнительно-исторического изучения восточнославянских языков, которая составлялась в течение ряда лет целым коллективом под руководством В.И. Борковского.25
3) В отборе материала для осмысления МВ мы опирались на данные историко-лингвистических и диалектных словарей с последующей их коррекцией по материалам картотек "Словаря
1) Перечень изученных текстов см. в кн. Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. Под ред. В.И. Борковского. -М.: Наука, 1978; см. также Глинкина 1962, с. 296-302.
2) Список текстов, послуживших основой этой картотеки, см. в кн. Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Члены предложения. Под ред. В.И. Борковского. -М.: Наука. 1968, с. 291-296.
древнерусского языка XI-XIV" и "Словаря русского языка XI-XVII вв." (ИРЯ РАН).
4) Самым трудоёмким языковым источником оказались неопубликованные скорописные документы XVIII в., хранящиеся в Челябинском государственном архиве. Обзор этих текстов в аспекте лингвистического источниковедения дан С.Г. Шулежковой [1956], А.П. Чередниченко [1972], Л.А. Глинкиной [1996].
5) Для сопоставления наших наблюдений с тем, что описано в исторической русистике, привлекались материалы исследований по истории отдельных явлений. Среди них особое место занимают классические труды С.И. Соболевского, A.A. Шахматова, Е.С. Ис-триной, Е.Ф. Карского, С.II. Обнорского, Л.А. Булаховского, В.И. Борковского, Т.П. Ломтева, академические монографии под ред. Р.И. Аванесова, В.И. Борковского, С.И. Коткова, В.В. Иванова.
6) Спорадически по мере надобности и возможности мы обращались к данным русской диалектологии, лингвистического источниковедения с его локальной ориентацией, а также к наблюдениям над ГрВ в современной русской разговорной речи.
Широкий диапазон источников разной лингвистической информативности позволил документировать наши выводы по эволюции отдельных типов ГрВ в истории русского языка и высказать своё отношение к некоторым глобальным теоретическим вопросам развития и нормативности русского языка, а в ряде случаев снять искусственное противопоставление в анализе диахронии-синхронии.
Таким образом, в работе принято широкое понимание ИРЯ как постепенной "смены системных отношений в тот или иной период существования языка" в тех частных звеньях, где есть своего рода "критические точки" в его развитии [Иванов 1978, 34], что, впрочем, не мешает языку, изменяясь, оставаться самим собой.
В качестве основных методов исследования ГрВ были использованы структурно-системное описание, в одном из объектов МСВ - сравнительно-историческое сопоставление трёх восточнославянских языков в средневековый период их жизни (XV-XVII вв.).
С ними сочетались следующие методические приёмы научного анализа:
- соединение источниковедческого и лингвотекстологическо-го подхода к материалу;
- выделение особо значимых для стилистики жанра тексто-образующих элементов, в том числе в сфере ГрВ;
- сопоставление "разночтений" в передаче одних и тех же тематических блоков по