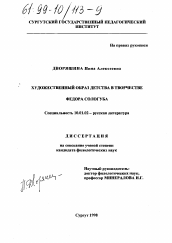автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Художественный образ детства в творчестве Федора Сологуба
Текст диссертации на тему "Художественный образ детства в творчестве Федора Сологуба"
сургутскии государственный педагогическии
институт
На правах рукописи
ДВОРЯШИНА Нина Алексеевна
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ
ФЕДОРА СОЛОГУБА
Специальность 10.01.02 — русская литература
ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Научный руководитель: . ^ доктор филологических наук,
' ( а 0(>Н профессор МИНЕРАЛОВА И.Г.
фг
Сургут 1998
Оглавление
Введение 3
Глава 1. Истоки и биографические предпосылки
темы детства в творчестве Ф.Сологуба 34
Глава 2. Категория детства в системе миропонимания
Ф.Сологуба 68
Глава 3. Ф.Сологуб в поисках смысла земного бытия детей (реальное и идеальное
в художественном образе детства) 122
Заключение 176
Список использованной литературы 183
Введение.
Современное отечественное самосознание характеризуется небывалым по интенсивности и глобальным по широте и объемности интересом к русской художественной культуре конца XIX - начала XX века. Можно сказать, что мы переживаем сегодня период, в определенном смысле, ренессансный, не столько с точки зрения творческой ориентации на идейно-эстетический уровень доставшегося нам наследства, сколько в плане рационального его постижения. В этом процессе осмысления «одной из самых утонченных эпох в истории русской культуры» (Н.А.Бердяев) (75, 164) еще совсем недавно приоритетное внимание уделялось мотивам социального и мировоззренческого противостояния, конфронтации. Нетрудно заметить, что интерес исследователей в наше время все более сосредоточивается на выявлении и изучении тех философских и эстетических идей, которые определили самобытность и неиссякаюшую доныне интегративнувд мощь художественной энергии русского «серебряного века».
Современные культурологи и литературоведы приходят к открытиям и выводам, которые, как оказывается, были определены или хотя бы намечены еще самими участниками и создателями шедевров того времени, так сказать, в эпицентре той эпохи. Показательно, что многие художники «серебряного века» в своих публицистических высказываниях, мемуарных записках и суждениях обобщающего свойства выделяли наряду с другими существенными чертами мирочувствования современников их убежденность в том, что рубеж столетий отмечен свойством глубочайшего обновления всех сторон жизни. По мнению А.Блока, это было время, когда «явно обновляются пути человечества; новый век, он действительно -новый век; человеческая душа, русская душа ломается; много старого
хламу навалено, многие молодые ростки придавлены...» (54, 354). Художнику вторил мыслитель: «Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии и обострения эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства заката и гибели с чувством восхода и с надеждой на преображение жизни» (75, 140).
Уже тогда было ясно многим, что в жизни не только страны, но и человечества заканчивался один исторический период, начинался другой, с которым связывались ожидания изменения мира, его очищения либо рождения нового. «...Тогда времена были в некоем смысле младенческие,»-с удивительной проницательностью заметил Б.К.Зайцев (60, т.2, 460). Не случайно поэтому столь характерным для русской литературы XX века стало обращение к истокам всего, и, в первую очередь, жизни человека -его рождению, миру детства, отрочества.
На первый взгляд, этот вспыхнувший интерес к проблеме «детскости» в онтологическом ее развороте не был для русской литературы каким-то совершенно неожиданным открытием. Ведь общеизвестно, что детство как важнейшая нравственно-философская тема постоянно волновало отечественных писателей. Если иметь в виду только наиболее значительные и широко известные художественные произведения, то нельзя не заметить, что к ней обращались непосредственно такие выдающиеся мастера, как С.Т.Аксаков, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов, Д.И.Мамин-Сибиряк, В.Г.Короленко и другие.
Что было самым существенным и важным в изображении ребенка в литературе прошлого столетия? Прежде всего, - абсолютное доверие к нему, к его уму, душе, чувствам. Маленький человек в произведениях
русских классиков - добр, естественен, справедлив, нередко он преподносит такие уроки нравственности, что взрослые испытывают муки совести, очищаясь под воздействием ясного детского взгляда. Детство -мир горний, небесный, мир высокий и возвышающий. Недаром Л.Н.Толстой в своей итоговой книге «Путь жизни» - произведении философско-религиозной и этической мысли, - обобщая духовный опыт людей разных эпох, с сочувствием использовал суждение швейцарского писателя и философа А.Ф.Амиеля о детстве: «Благословенное детство, которое среди жестокости земли дает хоть немного неба... Все добрые чувства, вызываемые около колыбели и детства, составляют одну из тайн великого провидения; уничтожьте вы эту освежающую росу, и вихрь эгоистических страстей, как огнем высушит человеческое общество... Благословенно детство за то благо, которое оно дает само, и за то добро, которое оно производит... Только благодаря ему мы видим на земле частичку рая...» (71, 104). Мысль эта показалась Л.Н.Толстому созвучной его собственному взгляду на детей и детство.
Известно, как восторгался Толстой талантливостью крестьянского ребенка, поражался «сознательной силе художника» (72, т. 15, 17) в полуграмотном крестьянском мальчике, радовался чувству «красоты, правды и меры в нем», с абсолютной уверенностью утверждая: «Во всех веках и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. Человек родится совершенным, -есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твердым и истинным. Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии правды, красоты, добра...» (72, т. 15, 31). Писатель сокрушался по поводу того, как мы «мало умеем понимать и ценить первобытную красоту ребенка» (72, т.15, 32), воспитывая его, поступаем, как «плохие ваятели», разрушая его природную гармонию, тем самым все дальше удаляясь от
первообраза. «Учить и воспитывать ребенка нельзя и бессмысленно, - писал Л.Н.Толстой в статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребята - по той простой причине, что ребенок стоит ближе меня, ближе каждого взрослого к тому идеалу гармонии, правды, красоты и добра, до которого я, в своей гордости, хочу возвести его...» (72, т,15, 32). В основе стремления заниматься воспитанием, считал мыслитель, лежит «зависть к чистоте ребенка» (72, т. 16, 35). Эти философско-педагогические рассуждения Л.Н.Толстого были подкреплены его писательским опытом, обаятельными образами детей «бедовых», «ловких», смышленых, справедливых и добрых во многих художественных произведениях.
Суждениям Л.Н.Толстого о детстве созвучны убеждения Ф.М.Достоевского, в творчестве которого эта тема заняла столь значительное место, как, пожалуй, ни у кого из художников слова XIX века. «...Мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже, - убежденно говорил Достоевский. - И если мы учим их чему-нибудь, чтоб сделать их лучшими, то и они нас учат многому и тоже делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. Они очеловечивают нашу душу одним только своим появлением между нами» (59, т.22,68-69).
Эти мысли из «Дневника писателя» получили свое развитие в художественных образах на страницах многих произведений великого писателя. Вспомним рассказ князя Мышкина из его швейцарской жизни -историю несчастной Мари. Поцелуй князя, его жалость и любовь к бедной девушке, на которую «все кругом смотрели... как на гадину» (59, т.8, 59), находят такой живой отклик в детской душе, что они, эти доверчивые «птички» («Я потому их птичками зову, - говорит князь, - что лучше птички ничего нет на свете») своим деятельным участием в судьбе затравленного существа останавливают зло, жестокость, несправедливость деревенских
жителей, пробуждают в их сердцах сочувствие и сострадание. Именно благодаря детям, их «деликатным и нежным... маленьким сердцам» (59, т.8, 62) происходит очищение и возрождение взрослых. «Через детей душа лечится», - говорит герой «Идиота». Эта мысль станет главной и в «Униженных и оскорбленных», и в «Сне смешного человека», и в «Мужике Марее».
Исследователи творчества великого художника издавна испытывали потребность в осмыслении его взглядов и представлений, связанных с темой детства. «В своем учении о детях («дети до семи лет - существа особого рода»), - замечает русский философ В.В.Зеньковский, -Достоевский возвышается до чисто евангельского любования красотой детской души. «Смеющийся и веселящийся ребенок, - читаем мы в одном месте в «Подростке», - это луч из рая, это откровение из будущего, когда человек станет так же чист и прост душой, как дитя» (191, 225). Достоевский был убежден в природной чистоте детской души, отвергая представления, в которых главный акцент делался на детской порочности (позднее такой взгляд был выражен в работах З.Фрейда). Русский писатель отстаивал свою точку зрения в многочисленных публицистических выступлениях и на страницах художественных произведений. Дитя, по мнению писателя, - «создание, имеющее ангельский лик, несравненно чистейшее и безгрешнейшее», (59, т.22, 67), чем взрослый человек. Если и допустимо, с точки зрения Достоевского, говорить о каких-то «пороках» детей (слово это применительно к детству писатель всегда брал в кавычки), то следует учитывать то обстоятельство, что дети даже и не осознают их, как таковые. Исходя из своих убеждений в высшем предназначении детства в судьбе человечества, Ф.М.Достоевский считал необходимым формировать в общественном сознании особое отношение к детям: «..Гмы их должны уважать и подходить к ним с уважением к их лику ангельскому
(хотя бы и имели их научить чему), к их невинности, даже и при порочной какой-нибудь в них привычке, к их безответственности и к трогательной их беззащитности» (59, т.22,69).
Еще один важный аспект в изображении детства в творчестве Ф.М.Достоевского, созвучный гуманистической озабоченности всей русской литературы - страстный протест против детских страданий, отказ миру в праве на существование, если в нем возможна та «слезинка одного только замученного ребенка», которая приводит героя Ф.М.Достоевского к бунту поистине космического масштаба. Но ведь это бунт прежде всего и самого художника, первоначально вылившийся гневным обличением виновников детских мучений в «Дневнике писателя». Его «фактики», «анекдотики», «картинки» о физическом истязании, нравственном оскорблении детей («По поводу дела Кронеберга», «Дело родителей Джунковских с родными детьми», «Именинник», «Среда» и т.д.) -свидетельства анормальности общественной и семейной жизни русского общества, «ленивого, неумелого и бессердечного отношения отцов к детям» (59, т.25, 183), отношения, лишенного любви - самого главного, что необходимо этим «крошечным созданиям божьим» (59, т.22, 62). «А знаете ли вы, что такое оскорбить ребенка? - с болью и мукой сердечной спрашивает Достоевский. - Видали ли вы или слыхали ли о мучимых маленьких детях, ну хоть о сиротах в иных чужих злых семьях? Видали ли вы, когда ребенок забьется в угол, чтоб его не видали, и плачет там, ломая ручки (да, ломая руки, я это сам видел) - и ударяя себя крошечным кулачонком в грудь, не зная сам, что он делает, не понимая хорошо ни вины своей, ни за что его мучают, но слишком чувствуя, что его не любят» (59, т.22, 69). Дети - страдальцы и жертвы несправедливости, «капризного эгоизма» взрослых, их «ленивых сердец» (59, т.25, 185), бесконечных злоупотреблений родителей своей властью, пренебрежения своим долгом.
Чистые и невинные, ангельски доверчивые, незащищенные «детки», «деточки», «крошки» уродуются взрослыми, развращаются ими, озлобляясь и ожесточаясь в своем отношении к миру. На совести больших, убежден был Достоевский, детские беды и муки.
Своеобразным манифестом всей русской литературы, а не только Ф.М.Достоевского, можно считать обращение автора «Дневника писателя»: «Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным правом над ними. Да и самая природа из всех обязанностей наших наиболее помогает нам в обязанностях перед детьми, сделав так, что детей нельзя не любить. Да и как не любить их? Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем полюбить и что станется тогда с нами самими? Вспомните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам «Сократить времена и сроки». Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в совершеннейшее...» (59, т.25,193).
И все же даже с учетом высших достижений русской классики XIX века всплеск интереса к теме детства в литературе начала нового столетия не может не поразить. К сожалению, истоки, глубинная сущность да и сам масштаб художественной философии детства, создававшейся коллективными усилиями русских мыслителей «серебряного века», до недавних пор не вызывали пристального внимания исследователей. Достаточно даже поверхностного взгляда на литературу того времени, чтобы отметить всю серьезность и принципиальность обращения к этой теме. Ребенок оказался в центре творческих исканий многих художников слова рубежа эпох. Мир детства привлек Ф.Сологуба и К.Бальмонта, Б.Зайцева и Л.Андреева, А.Белого и М.Цветаеву, И.Бунина и И.Шмелева, А.Куприна и М.Горького.
Одно из первых мест в этом ряду славных имен по праву должно быть отведено К.Бальмонту, «одному из самых своенравных поэтов» (А.Белый) «серебряного века», который в течение всей творческой жизни писал о детстве. Более определенно, чем другие современники, обозначил он ощущение непостижимой загадки, таящейся в состоянии детства. Она влекла его к себе, манила своей неразгаданностью, притягивала глубиной тайны, скрывающей в себе нечто безмерное и великое, в котором отражается «недавняя голубая Вечность» (44, 143). В романе автобиографического характера «Под новым серпом» Бальмонт стремится погрузиться в эту тайну и, если не приоткрыть ее, то хотя бы обозначить, представить во всей масштабности, указывая на изначальное, но забытое место дитя в мире - рядом с Богом. «Тайна детства, - по его словам, - и до сегодня не разгадана, и, вырастая, люди так же мало помнят свое детство, и всю его красочно-музыкальную содержательность, как, просыпаясь, мы помним лишь несколько мгновений наши сны, а потом сны тают, и в памяти нашей остается лишь воздушное ощущение, что мы были лицом к лицу с тайной, которая блеснула и ушла, - и наше желание догнать бодрствующим умом ускользающую тайну сновидения похоже на желание коснуться радуги... Обыкновенные взрослые люди, говоря слово ребенок, или слово - дети, произносят это слово тоном заурядного, мало что разумеющего, опекуна, или же влагают в него нарочитую нежность, овеянную снисходительностью и пренебрежением. Но Тот, Чье имя благословили нескончаемые миллионы, любил присутствие детей, как Он любил цветы и птиц, и, поставив ребенка посреди двенадцати Своих избранников, обнял его. Ибо Он лучше других знал, что детство есть сложная красивая тайна» (44, 143-144).
В рассказе «Солнечное Дитя» поэт вопрошал: «Для чего родится тот или иной ребенок, знаем ли мы? Мы ничего не знаем, мы можем только верить»
(42, 161). Это убеждение определяет общий пафос творчества Бальмонта в отношении к детству, который может быть обозначен словом «доверие». С неизменным постоянством он утверждал: необходимо верить ребенку и в ребенка, ибо в мировидении художника ребенок - «полубог» (42, 170), он «из... свиты Того, Кто... повелевает миром» (42, 161).
Близость к Богу, к «великим запредельным родникам, откуда в нашу жизнь беспрерывно вливается свет нездешний» (43, 131), делает само Дитя - «Божью Звезду» - в бальмонтовском восприятии - носителем исцеляющего света. Так, в рассказе «Дети» из сборника «Воздушный путь» (1923) маленькие «причудники» предотвращают ссору, разлад между родителями, заставляя всех забыть мелочные амбиции, состязание самолюбий, разрушают липкую паутину недоверия, охватившую присутствующих на празднике в честь Рождества Христова, изгоняют злые и черные мысли. «Если бывают в мире чудеса, - заключает Бальмонт, - в этот святочный вечер случилось по прихоти детей маленькое и даже большое чудо. И отец и мать были светлые и счастливые. И гости и гостьи были такие, что лица их нравились детям. А дети шумели, кричали и веселились, точно целый выводок перводетных птиц... И стало в комнате, точно в церкви» (42,166).
Сравнение, использованное Бальмонтом, не случайно, в переводе с греческого церковь означает буквально «божий дом» (202, 520). В пр�