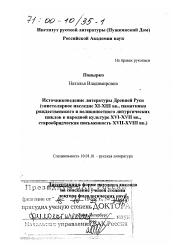автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Источниковедение литературы Древней Руси
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Понырко, Наталья Владимировна
С точки зрения принадлежности к литературе эпистолярные произведения всегда относят к пограничному жанру, ибо во все времена эпистолярный жанр стоял на рубеже между литературой и бытом. Во все времена существовала как сугубо частная переписка, так и переписка изнат-чально имевшая (или со временем приобретавшая) значение культурного факта для своей эпохи. Порой бывает затруднительно провести четкую грань между частным письмом и «литературным» посланием. Но древнерусская книжность дает для этого простой критерий: им является сам факт включения отдельного послания в книжную традицию. Если письмо, написанное в XI веке одним историческим лицом к другому, в XVI в. включалось в состав различных рукописных сборников, значит, оно не может рассматриваться как образец исключительно частной переписки. Что перед нами литературные памятники, тому свидетельство многовековая рукописная традиция, донесшая до наших дней эти произведения. Написанные в Х1-ХШ вв. послания сохранились в списках Х1У-ХУ1И вв., а это значит, что на протяжении столетий они осознавались как определенная культурно-историческая ценность и функционировали среди произведений книжности как «четьи» памятники. Наличие в рукописной традиции хотя бы одного списка с первооригинала того или иного послания выводит его за пределы частной переписки. Владимир Мономах писал письмо к своему двоюродному брату Олегу Святославичу в 1096 г., но до нас оно дошло в списке 1377 года, и уже одно это является свидетельством «литературного» значения его сочинения.
Рождается ли «литературность» эпистолярного памятника после его тиражирования, или, напротив, «литературность» обусловливает тиражирование, в любом случае такая «публикация» является верным знаком того, что настоящее послание вышло за пределы частной переписки.
Не менее важно также и то, что для историка литературы Древней Руси понятие литературного памятника имеет гораздо более широкое значение, чем для историка литературы нового времени. Общепризнанный на сегодняшний день постулат о «функциональном» характере древнерусской литературы, «деловом» назначении всех без исключения ее жанров1 неизбежно расширяет границы «литературного», поскольку включает в них, по существу, всю древнерусскую книжность, в той мере, в какой она отражает систему культурных ценностей своего времени. Он обоснован в трудах Д.С. Лихачева. См. его книги: Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. Изд. 3, доп. С. 55-79; Развитие русской литературы X-XVII вв. Л., 1973. С. 53-56, 131-139. Развитие функциональной теории применительно к различным жанрам древнерусской литературы представлено в сборниках трудов немецких исследователей, см. например; Veröffentlichung der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavsches Seminar) an der Freien Universität Berlin: Gattungs-probleme der älteren slavischen Literaturen (Berliner Fachtagung 1981). Berlin, 1984.
В Византии, ученицей которой сделалась, как известно, Русь во сех областях культуры, эпистолярный жанр развивался как один из видов «изящной словесности». С особым успехом культивировался там тип «дружеского» письма, наиболее «чистый» вид литературной эпистолярии2. На Руси Х1-ХШ вв., как можно убедиться по дошедшим до нас посланиям, «дружеское письмо» вовсе не получило распространения. Послание-оучение - вот основной тип письма, сохранившийся от древнейшего пе-иода русской истории. «Дружеское» послание с его четким набором жан-овых топосов, с обязательной заботой о «хорошем» стиле и «хорошем» оне, как свидетельство литературной рафинированности автора, как обра-ец упражнений в риторике появится на Руси позже, в ХУ-ХУ1 вв. и полу-ит особенно широкое распространение в XVII в.
Русские послания Х1-ХШ вв. - это не «кунстштюки» изящной сло-есности, а, в первую очередь, духовные вопросы и духовные ответы сво-го времени, запечатлевшие очень много конкретных реалий эпохи (лите-атурных, исторических, историко-культурных). Вот почему источнико-едческое их исследование требует быть особенно дробным и подробным.
За всяким письмом, кроме его автора, всегда стоит его адресат, частливый случай - когда от прошлого до наших дней сохранилось не тдельное письмо того или иного исторического лица, а целая переписка, огда можно прочесть ответ на письмо (как, например, переписка между арем Иваном Грозным и князем Андреем Курбским). Однако, это бывает едко. По большей части рукописная традиция донесла до нас послания без тветов. Но и сохранившееся без ответа письмо - всегда свидетельство о 'х: о том, кто писал, и о том, кому писали. Таково послание киевского итрополита XII в. Климента Смолятича смоленскому пресвитеру Фоме, ошедшее до нас в двух списках XVI в., оно ставит множество вопросов сточниковеду: начиная от необходимости восстановления последователь-ого текста послания (сохранившиеся списки восходят к протографу с пе-епутанными листами) и кончая возможными комментариями для характе-истики личностей пресвитера Фомы и толкователя послания Афанасия-ниха.
Послание пресвитеру Фоме — единственное дошедшее до нас сочи-ение митрополита Климента, при том, что из летописи известно, что он много писаниа, написав, предаде» (ПСРЛ. Т. IX. С. 307-308). Летописи охранили характеристику Климента Смолятича как книжника и философа, акого прежде не бывало в Русской Земле (ПСРЛ. Т. II. С. 29; Т. VII. С. 38; . IX. С. 172). Дошедшее до нас послание подтверждает неслучайность та-ой характеристики. Пресвитер Фома, как можно понять из контекста исьма, укорил Климента в том, что он тщеславится своей ученостью. В твет на это Клим обрушил на своего адресата целый поток аллегорических
Sykutris. Epistolographie // Real-Encyc!opädie der classischen Altertumswissenschaft, upplementband V. Stuttgart, 1931. S. 185-220. толкований текста Священного Писания, доказывая необходимость их постижения для духовного воспитания христианина. Письмо Климента - это настоящий трактат в защиту аллегорического способа понимания Священного Писания, из которого видно, что его автор прошел хорошую школу византийской образованности. Со времен возникновения в Византии на заре христианства Александрийской школы богословия христианская культура продолжала разрабатывать аллегорический метод понимания библейской священной истории, заключающийся в том, что совершающееся во времени событие понимается как иносказание о смысле, пребывающем вне времени. По посланию Климента Смолятича видно, что аллегорическим методом толкования библейских текстов он владел вполне.
Со времени выхода в свет книги Н.К. Никольского «О литературных трудах митрополита Климента Смолятича, писателя XII в.» (СПб., 1892) в орбиту литературных связей этого памятника были включены два произведения толковательной формы - Изборник XIII в. и «Словеса избранная, яже суть толковая», представляющие собой две различные компиляции, дававшие в форме вопросов и ответов толкование различных мест Священного Писания и церковной гимнографии. И в том, и в другом произведении присутствуют фрагменты, параллельные фрагментам из Послания Климента. Благодаря обнаружению этих фрагментов мы можем утверждать, что дошедший до нас текст Послания дефектен, что он претерпел «порчу». С помощью этих фрагментов мы можем восстановить текст Послания, в ряде мест неудобопонимаемый из-за того, что в дошедших списках оказались переставленными отдельные абзацы.
Н.К. Никольский, проделавший большую работу по сравнению всех трех памятников, считал, что общие места между ними объясняются тем, что «Словеса избранные» и Изборник XIII в. имели какой-то общий источник, а Послание Климента Смолятича использовало в качестве своего источника Изборник XIII в. или его первооригинал.
Мы доказываем, что отношения Послания Климента Смолятича и Изборника XIII в. были иными, ибо среди их параллельных фрагментов есть такие, которые указывают на необратимую текстовую зависимость Изборника XIII в. от Послания Климента. В первую очередь, таковым является отрывок о сыновьях библейского праотца Иуды Заре и Фаресе, который и в Послании, й в Изборнике следует за сюжетом о грехопадении Адама и Евы, и не только идентичен в целом, но и совершенно идентично начинается как в Послании, так и в Изборнике: «Что ми Зарою и Фаресом! Но нужюся й увЪдЪти прЪводнЪ. Еда тщеславие и той есть?!». В контексте Изборника XIII в. употребление на 175-м его листе в указанном отрывке первого лица звучит ничем не обоснованным диссонансом, поскольку в целом текст его построен в безличной вопросо-ответной форме: к безличным вопросам приводятся здесь безличные ответы и толкования («Что есть ключь, егоже да Господь Петру? Т<олк>. Учение евангельское» - л. 5. об; «В<опрос>. Кто обрЪза Исуса въ осмый день? От<вет>. Урия и Захария» - л. 35 об.; «Что ради камень наречеся Христосъ? Т<олк>. Понеже ис камене источи истекше воды напоиша жажющемъ еврЪомъ, тако и от Христа евангелье дано бы въ языкы, напои безвлажную языкомъ душю» - л. 133 и т. д.).
У Климента же Смолятича употребление первого лица естественно; все Послание Климента написано от первого, его собственного, лица.
Фраза «Еда тщеславие и той есть?!» говорит о продолжении какой-то полемики. В контексте Изборника она еще более непонятна, чем употребление первого лица: в предыдущем тексте нет ничего, к чему бы она могла по смыслу относиться; непосредственно предшествует ей в Изборнике безличный фрагмент о грехопадении Адама и Евы, где отсутствует индивидуальный голос от первого лица и какой-либо текст, продолжением которого могли быть слова «еда тщеславие и той есть?!».
Другое дело Послание Климента Смолятича, где тема тщеславия поднимается в первых же строках: пресвитер Фома обвинил митрополита Климента в славолюбии, и все Послание написано, можно сказать, ради того, чтобы опровергнуть это обвинение. Климент пишет в самом начале: «Речеши мнЪ: "Славишися!".Да аще гроб свой вижю по вся дни седмь краты, не вЪмь, откуду славити ми ся». И далее, начиная доказывать необходимость прообразовательного понимания священных текстов и приведя первый пример из книги Притч Соломоних, снова обращается с иронией и пафосом к Фоме: «Уже <ли> и Соломон, славы ища, тако пишет?!». В контексте Послания сюжет о Заре и Фаресе представляет собой очередной, после сюжета из Книги Бытия про грехопадение Адама и Евы, пример иносказательного толкования Священного Писания, приводимый Климентом в опровержение обвинения его в тщеславии. Здесь фраза «еда тщеславие и той есть?!» органично продолжает по смыслу предыдущий фрагмент текста, в котором уже говорилось о тщеславии («Аще ли почитаю Бытийскых книг. ни ли того почитати тщеславна ради!»), и потому здесь «и то», при приведении еще одного - «и этого» - примера, уместно и необходимо.
В Изборнике XIII в. еще два параллельных Посланию отрывка сохраняют речь от первого лица, и это также не вписывается в безличный вопросо-ответный его контекст: 1) «Что ми оною старицею, въврьгшею двЪ мЪдницы въ святилище? Нъ молюся, да тьмная ми душа будеть въдо-вица и въвьржеть двЪ мЪдници въ святилище: плоть - целомудриемь, душю же съмЪрениемь. 2) «Что мнЪ Пентефрием скопцьмь, иже купи Иосифа, аще скопьць сы, како имЪ жену, ни ли того ищю1 Т<олк>. Дневными имЪяше пекущюся и домовными, тЪмьже и тьщеты ради мужнЪ оному похотЪ» (Изборник XIII в., л. 160 об., 162).
Первоисточником фрагмента о Пентефрии-скопце, как и о Заре и Фаресе, являются 96, 97 и 98 толкования Феодорита Киррского на книгу Бытия. Но, разумеется, у Феодорита Киррского в этих местах отсутствуют полемические реплики от первого лица, принадлежащие1 Клименту Смоля-тичу. И поскольку в Изборнике XIII в. мы встречаем не только ту часть, которая по происхождению могла бы относиться к такому первоисточнику, но и прямую речь самого Климента, приходится признать, что составитель Изборника XIII в. не напрямую обратился к толкованиям Феодорита Кирр-ского, а заимствовал их из Послания Климента Смолятича.
В «Словесах избранных» параллельные с Посланием Климента Смолятича фрагменты текста идентичны текстам Изборника XIII в., но в «Словесах» количество восходящих к Посланию фрагментов заметно меньше, что говорит о самостоятельном обращении составителя «Словес» к Посланию, а не через посредство Изборника.
Зато и в «Словесах избранных», и в Изборнике XIII в. есть два общих для них места, которые отсутствуют в Послании Климента Смолятича, - это фрагменты из Книги толкований Никиты Ираклийского на 16 Слов Григория Богослова (о «преступлении Адамли и прелщении Еввы» и о жертвоприношениях Артемиде).
Таким образом становится ясно, что у Изборника XIII в. и «Словес избранных» имеются общие источники: Послание Климента Смолятича и Книга толкований Никиты Ираклийского на 16 Слов Григория Богослова.
И тогда мы обращаем внимание на то, что единственный из святых отцов, на кого ссылается прямо Климент Смолятич, объясняя пресвитеру Фоме, откуда он черпает «преводное» толкование Священного Писания, это Никита, епископ Ираклийский, писатель XI в.
Древнейший вид Книги толкований Никиты Ираклийского на 16 Слов Григория Богослова в славянской письменности существует в довольно своеобразном виде, - здесь Слова Григория Богослова принадлежат южнославянскому переводу, а толкования Никиты Ираклийского - русскому. (Более позднюю редакцию сборника 16 Слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского считают сербской по происхождению и составленной на основе предыдущей). У Кирилла Туровского, современника Климента, в Слове на Фомину неделю есть фрагмент текста, заимствованный из Толкования Никиты Ираклийского, - стало быть русский перевод существовал уже в XII в.
Первое, что следует сказать о Книге Никиты Ираклийского в cвяз^ с сочинением Климента Смолятича, это то, что вся она пронизана аллегорическим, «преводным» способом толкования Священного Писания.
Многие толкования Климента перекликаются с толкованиями Никиты Ираклийского: такие как Толкования о Лии и Рахили, о хромоте Иакова, о снедении жертвенного агнца, о человеке, попавшемся разбойникам и др. Ни одно из этих толкований текстуально не совпадает с толкованием Никиты Ираклийского, но в их основе лежит общий смысл. Толкование Климента Смолятича либо перепевают, либо развивают темы, поднятые Никитой Ираклийским. Тексты Никиты Ираклийского выглядят базой для толкования Климента; иногда только они объясняют нам не вполне ясные аллегории Климента. рогги*>су »
9 гос
Наконец, обнаруживается и одно прямое заимствование из Книги Никиты Ираклийского в Послании Климента Смолятича. В Послании Климента о грехопадении первых людей говорится текстуально иначе, чем у Никиты Ираклийского, но одна фраза Послания идентична тому, что говорит Никита: (Послание Климента: «Нъ, увы и моей немощи, моя бо прадЪ-дняя ми снеста ми бо и нага быста». Книга толкования Никиты Ираклийского: «Прелыценома же обЪма, рек Богословец,.и, печалуя, вЪща: увы оея нЪмощи. И свою творить прадЪдню, яко немощию от тою въ весь изыде мир»).
Еще один аргумент, который заставляет нас думать, что существовала связь сочинения Климента Смолятича с Книгой Никиты Ираклийского, это то, как выражена тема Григория Богослова в Послании Клима. В ассаже, посвященном Григорию Богослову, Послание Климента упомина-т Сборник 16 Слов Григория Богослова и говорит, что он был написан автором в «глубокой старости» - «На послЪдьнюю бо и глубокою старость написал есть 16 Словесъ, яже чюдна и хвалы достойна.».
В действительности Слова Григория Богослова были созданы в разное время его жизни; подборка же из 16 Слов и вовсе является делом посмертной традиции. Но у того, кто читал эту подборку с Толкованиями Никиты Ираклийского, как раз и могло сложиться мнение о том, что все 16 Слов Григория Богослова были написаны «в старости глубоце», ибо Никита Ираклийский очень усилил тему старости Григория в своих толкованиях, что обнаруживается целым рядом примеров.
Все новые аргументы ведут нас к тому, что Климент Смолятич был знаком с Книгой толкований Никиты Ираклийского.
Посмотрим с этой точки зрения на одну загадочную фразу из Послания. Климент, обращаясь к пресвитеру Фоме, пишет: «А речеши ми: "Философьею пишеши", а то велми криво пишеши, а да оставль аз почи-таемаа Писаниа, аз писах от Омира, и от Аристоля, и от Платона, иже во елиньскых нирЪх славнЪ бЪша (то есть - «и то весьма лживо пишешь, будто бы я, оставив почитаемые писания, писал из Гомера, из Аристотеля, из Платона, которые были славны в эллинских хитростях». - Н.П.). Аще и исах, но не к тебЪ, но ко князю, и к тому же не скоро». Комментируя эту фразу, Н.К. Никольский написал в свое время: «Трудно решить, как пользовался м. Климент творениями Гомера, Аристотеля и Платона.»; исходя из того, что извлечения из античных авторов в литературных памятниках, обращавшихся на Руси в древнейшую пору, были чрезвычайно скудны, он полагал, что едва ли Климент за эти скудные извлечения мог удостоиться такого укора.
А между тем, Книга толкований Никиты Ираклийского (до сего времени, к сожалению, не ставшая предметом специального изучения) просто переполнена ссылками на Гомера, Аристотеля и Платона (также как и Еврипида, Диогена, Демосфена): от описания дружбы между Орестом и Пиладом и оплакивания царицей Гекубой сына Гектора до комментирования отдельных художественных образов Григория Богослова их происхождением от литературных образов Гомера, Аристотеля и Платона.
Человек, располагавший такой базой знаний античных авторов, какая представлена в Книге толкований Никиты Ираклийского, и цитировавший эти толкования или, быть может, переводивший их на русский, действительно мог заслужить упрек в чрезмерном увлечении творениями эллинских мудрецов, уже за одно то, что с помощью тех, «иже во елиньскых нирЪх славнЪ бЪша», толковался такой почитаемый христианский учитель, как святой Григорий Богослов.
Что за «писание» направил Климент Смолятич князю пресвитера
Фомы?
A.B. Горский и К.И. Невоструев, описывая рукопись № 117 Синодального собрания, содержащую Книгу толкований Никиты Ираклийского, обратили внимание на фразу, вставленную в текст одного из толкований ко второму Слову на Пасху: в том месте, где Никита Ираклийский говорит о трехчастном составе души, вставлено восклицание: «Внимай, христолюбче княже\» Как нам удалось выяснить, эта фраза имеется и в других списках древнейшего перевода Книги толкований Никиты Ираклийского. А это значит, что она относится к архетипу древнейшего перевода. О том же, что в архетип перевода обращение ко христолюбцу-князю попало не случайно, а в связи с какими-то закономерностями, отражающими характер этого перевода или его назначение, об этом говорит наличие еще одного восклицательного обращения ко князю (его Горский и Невоструев не заметили), вставленного в еще одно толкование Никиты Ираклийского: там, где речь идет о девстве и безбрачии, вставлена фраза: «Страшна вещь, княжеЪ.
Значит, Книгу толкований Никиты Ираклийского писали для какого-то князя.
Имея в виду все сказанное, мы позволили себе высказать гипотезу: не было ли то «писание» Климента Смолятича, которое он направил ко князю пресвитера Фомы, приложением к переводу Книги толкований Никиты Ираклийского или, быть может, самой этой книгой?
Что князь, о котором идет речь, - это Ростислав Мстиславич Смоленский, брат покровителя Климента, великого князя киевского Изяслава Мстиславича, можно почти не сомневаться. Фома, как явствует из заглавия Послания, был пресвитером смоленским, а Клим называет этого князя, обращаясь к Фоме, «князем твоим». Этого князя Клим называет и своим «на-прЪсным» (т. е. присным, вечным) господином. А ведь Климент носил прозвище Смолятича. Так что естественно, что именно смоленского князя он, уже покинувший смоленские пределы ради киевского митрополичьего стола, называл своим присным господином. В годы пребывания Климента на митрополичьем престоле в Смоленске княжил Ростислав Мстиславич. Отношение этого князя к Клименту, поставленному в митрополиты киевские без благословения константинопольского патриарха, не всегда было одинаковым. Но, во всяком случае, известно, что в 1163 г., когда Ростислав
Мстиславич сам сделался великим князем киевским, он пожелал поставить смещенного к тому времени Климента вновь на митрополичий престол и даже посылал для этого послов в Константинополь. О киевском периоде жизни Ростислава Мстиславича летописи сообщают, что он в это время часто общался с чернецами Киево-Печерского монастыря, устраивал трапезы монахам и игумену Поликарпу. Христианское учение очень его волновало, он ревностно постился, был милостив; в последние годы жизни пришел к мысли, что «княжение и мир не может без греха быти» и выражал желание постричься в Киево-Печерском монастыре (ПСРЛ. Т. И. С. 95). Между прочим, Ростислав Мстиславич скончался (в 1168 г.) под Смоленском, в селе под названием Заруб (ПСРЛ. Там же). И это летописное свидетельство создает покуда неразрешенную источниковедческую загадку: какой из Зарубов имел в виду летописец, сообщивший, что князь Изяслав Мстиславич «вывел» Климента в митрополиты из Заруба («Постави Изя-славъ митрополитомъ Клима Смолятича, вывед изъ Заруба.» - ПСРЛ. Т. II. С. 29), - тот ли Заруб, о котором переписчик Ермолаевского списка (XVIII в.) Ипатьевской летописи приписал уточняющие слова «где теперь монастырь Терехтемерский» (ПСРЛ. Т. И. С. 29), то есть днепровский Заруб, или тот, что упомянут при описании кончины Ростислава Мстиславича, то есть, смоленский Заруб.
Летописец сказал о Ростиславе Мстиславиче, что когда он умирал и молился Христу и Богородице, слезы, как жемчуг, лежала на его щеках.
Построение своей аргументации мы начали с констатации того, что в основу Изборника XIII в. и «Словес избранных» положены два общих источника: Послание Климента Смолятича и Книга толкований Никиты Ираклийского. В свете того, что было показано, соседство этих двух памятников представляется закономерным. Очевидно, существовал такой сборник или архив, где Послание Климента и Книга толкований Никиты Ираклийского соседствовали как произведения, быть может, одного автора и переводчика, как писания, обращенные к одному адресату (смоленскому кругу книжников, приближенных ко князю), и этим сборником или архивом пользовались как составитель Изборника XIII в., так и составитель «Словес избранных».
Источниковедческий анализ позволил нам выделить гипотетические фрагменты Послания Климента Смолятича, утраченные сохранившимися списками, которые, как уже отмечалось, донесли до нас текст Послания в испорченном виде: многие абзацы в нем разорваны и отрывки их перепутаны местами, есть явные пропуски, бесспорно отсутствует заключительная часть. Изборник XIII в. и «Словеса избранные», пользовавшиеся, каждый самостоятельно, Посланием как источником, отразили, как мы предполагаем, дополнительные части своего источника, несохранившиеся в испорченных списках Послания. Таких «гипотетических» фрагментов, восстанавливаемых нами по Изборнику XIII в. и «Словесам избранным», насчитывается три.
Как известно из заглавия сохранившихся списков, Послание Климента Смолятича дошло до нас не в первоначальном виде, а с наслоением толкований некоего Афанасия-мниха, о котором нам ничего не известно, кроме того, что он поименован в заглавии. Автор словарной статьи, посвященной Клименту Смолятичу, подводя итог мнениям исследователей на этот счет, написал, что роль Афанасия-мниха в составлении известного нам текста Послания, остается неясной3. Тем не менее, текстологический и источниковедческий анализ позволил нам отделить напластования толкований Афанасия в тексте Послания; и что важно, такое разделение убедительно просматривается также и на «гипотетических» фрагментах.
В итоге отделения толкований Афанасия-мниха от исходного текста Климента Смолятича мы приходим к выводу, что время жизни Афанасия-мниха относится к XII или XIII вв. Это следует из того, что в Изборни: XIII в. и «Словеса избранные» отрывки из Послания Климента вошли уже с напластованиями Афанасия; значит он сделал свои добавления до составления этих памятников. Кроме того, в толковательной части Афанасия-мниха явным образом прослеживаются отголоски какой-то полемики с ересью, имевшей отношение к Богородице; и именно к эпохе Климента Смолятича (ко второй половине 60-х годов XII в.) относятся такие события в русской церкви, которые древнерусские авторы охарактеризовали как борьбу с ересью, - речь идет о низложении ростовского епископа Федора, Федорца, как презрительно именуют его составители летописных сводов (ПСРЛ. Т. I. С. 152; Т. II. С. 102; Т. VII. С. 85). Известно, что ересь Федорца обличал Кирилл Туровский (см. проложное житие Кирилла Туровского); в чем конкретно состояла ересь Федорца, ни летописи, ни житие Кирилла Туровского не сообщают, упоминая только об одном: что он «хулу измолви на святую Богородицю» (ПСРЛ. Т. II. С. 102).
Эти соображения заставляют нас придти к выводу о том, что Афанасий-мних был современником Климента Смолятича и протолковал Послание к пресвитеру Фоме в 60-70-е годы XII в., когда полемика с богородичной ересью могла быть актуальной, - то есть лет двадцать спустя после написания Послания. Был ли в это время жив Климент Смолятич? Последнее летописное упоминание о нем относится к 1163 г. (когда киевский князь Ростислав Смоленский сделал попытку вновь возвести его на митрополию).
Принадлежал ли Афанасий-мних к числу людей, входивших в окружение митрополита Климента, или это было далекое от митрополита лицо? Во всяком случае, можно без колебаний утверждать, что это был человек, разделявший его взгляды, раз находил нужным толковать и развивать их, причем по горячим следам.
См.: Словарь книжности и книжников Древней Руси. Вып. 1. (Х1-первая половина XIV вв.) Л., 1987. С. 227.
Говоря об окружении митрополита Климента, необходимо отметить большую вероятность связи его с другим иноком и книжником XII в., Кириллом Туровским. Допускать такую возможность позволяют следующие факты: и Климент, и Кирилл оба имели дело с Книгой толкований Никиты Ираклийского, являвшейся для их времени новопереведенным трудом; и Кирилл, и Климент (последний, возможно, только через своего толкователя Афанасия-мниха) имели отношение к ниспровержению богородичной ереси, возникшей в их время. Что оба знаменитых учителя были знакомы между собой и уж, по крайней мере, наслышаны друг о друге -это несомненно. Будучи современниками, два духовных иерарха, принадлежавшие к одной митрополии, не могли не знать друг о друге. Если даже Кирилл Туровский сделался епископом после смещения Климента с ми-рополичьего престола (год его епископской хиротонии нам неизвестен), все равно митрополит Климент не мог не знать о столпнике Кирилле, уже в иночестве сделавшемся знаменитым во всей туровской земле, тем более, что уже в столпниках Кирилл начал подвизаться на поприще писательского труда и проповедничества, о высоком, византийски ориентированном уровне которых так пекся митрополит Климент.
Нам ничего не известно о том, от кого получил творивший на самом высоком уровне византийских литературных канонов Кирилл Туровский свою литературную школу; как неизвестно и то, кто были те, хвалимые Климентом Смолятичем, ученые мужи, виртуозно владевшие приемами схедографии на греческом языке, которые приобщались к византийской литературной образованности под руководством митрополита Климента.
Так источниковедческое углубление только в один памятник древнерусского эпистолярного наследия поднимает, и отчасти проясняет, целую цепь проблем, связанных, как с историей текста этого памятника, так и с его эпохой, - литературным, культурным и историческим ее контекстами.
О том, что Кирилл Туровский писал послание к архимандриту Киево-Печерского монастыря Василию, преемнику игумена Поликарпа, у которого желал постричься во иночество «присный господин» Климента ^молятича князь Ростислав Мстиславич Смоленский, мы узнаем также только благодаря источниковедческому исследованию. Ибо единственный список, в котором сохранилось Послание Кирилла (ГИМ, Синодальное собр., № 935, XVI в.), никак не упоминает о его авторстве: «Послание нЪкоего старца к богоблаженному Василию архимандриту о скиме» - вот все, что значится в его заглавии. Что архимандрит Василий, названный в заглавии, это настоятель Киево-Печерского монастыря, преемник игумена Поликарпа, возведенный в архимандриты из мирских попов «со Щекави-цы» в 1182 г., это ясно. Но кто таков «старец», написавший Послание, об этом ничего не говорится.
В 1851 г. A.B. Горский высказал предположение, что Послание принадлежит Кириллу Туровскому4. Ученый обратил внимание на три места в Послании, имеющие параллели в сочинениях Кирилла Туровского. Но указав на параллельные места, A.B. Горский все же не придал абсолютного значения своей атрибуции; об этом можно судить по тому, что , когда в 1862 г. им, совместно с К.И. Невоструевым, была выпущена 3 часть 11-го отдела их знаменитого Описания Синодального собрания рукописей, куда вошло и описания сборника № 935, под статьей этого сборника «Послание некоего старца к богоблаженному Василию архимандриту о скиме» он не поместил никаких ссылок на свое предположение об авторстве Кирилла.
Правда, кое-кто из исследователей (Макарий (Булгаков), А. Грушевский, М.И. Сухомлинов), после выхода в свет статьи 1851 года, стали причислять Послание к сочинениям Кирилла Туровского. Но в советск медиевистике Послание к архимандриту Василию было как бы окончательно отторгнуто от Кирилла Туровского работой И.П. Еремина. И.П. Еремин отмел самую возможность обращений Кирилла Туровского к архимандриту Василию, так как считал за бесспорное, что к 1182 г., году, в который Василий со Щекавицы сделался киево-печерским архимандритом, Кирилла уже не было в живых, поскольку по летописным известиям туровскую кафедру в это время уже занимал епископ Лаврентий5.
Но на Руси освобождение епископских кафедр происходило вовсе не исключительно со смертью владыки. Известен ряд летописных известий и о добровольном, "и о принудительном покидании владычных престолов их обладателями (ПСРЛ. Т. III. С. 6, 214; Т. IV. С. 3; Т. VII. С. 119 и др.). Тот факт, что в 1182 г. епископскую кафедру в Турове занимал Лаврентий, вовсе не означает с непреложностью, что его предшественника в этом году не было в живых. А раз так, значит, заведомой невозможности предполагать, что Кирилл Туровский мог писать Послание киево-печерскому архимандриту Василию, нет.
Совпадения, выявленные A.B. Горским, требуют объяснения, тем более, что, как нам удалось обнаружить, в Послании имеется гораздо больше мест, параллельных фрагментам из разных (что особенно важно)
Горский А.А> Послание к Василию, архимандриту Печерскому XII столетия// Творения св. отцев в русском переводе. M., 1851. Т. 18. Прибавления. Ч. 10. Ç. 347-357.
5 Еремин И.П. Литературное наследия Кирилла Туровского Н ТО ДЛ. М.-Л., 1955. Т. U.C. 344345. Твердое мнение И.П. Еремина о том, что датой смерти Кирилла ТурЬвского следует считать время до 1182 г. повлияло на всех современных авторов, писавших о Кирилле. Т.А. Алексеева, исследователь языка Кирилла, прямо пишет в своих статьях, что туровский епископ умер «не позднее 1182 г.». В В. Колесов, в исследовательских работах не касавшийся этой темы, при публикации отрывков из сочинений Кирилла Туровского в ПЛДР в комментариях дает дату конца жизни писателя - 1182 г. И автор статьи о Кирилле в «Словаре книжников и книжности Древней Руси» О.В. Творогов, начиная статью также пишет: «ум. до 1182 г.», хотя внутри статьи все же замечает о дате 1182 г. - « к этому времени К. либо оставил епископский стол, либо уже умер». произведений Кирилла Туровского, чем на то обратил внимание A.B. Горский.
Автор послания отвечает на некую неизвестную нам «грамоту» архимандрита Василия, где тот просил у него (это ясно по контексту) совета о схиме, которую хотел принять. В ответ на это тот, кто пишет Послание, напоминает Василию евангельскую притчу о благоразумном человеке, воздвигшем на камени свой дом, и дает ряд наставлений, как следует соблюдать монашеский обет. В заключение наставлений следуют смиренные слова о том, что Василий волен избрать то, что ему «будет лутче», и предложение «раздрать» и повергнуть наземь это Послание.
Сразу же обращает на себя внимание приточный метод аргументации, избранный автором Послания. Все развитие его мысли происходит путем аллегорического толкования приточного образа («. .азъ же не о собЪ скажю ти о святЪй скимЪ, но от святых книг. притчю извЪщю оного че-ловЪка, о создавшем на камени храм свой и создавшем на камени свою хлевину»).
Приточный метод аргументации - это излюбленный прием Кирилла Туровского, он пользовался им при создании притчи о слепце и хромце, притчи о беспечном царе. Это первое сходство, общего порядка, но касающееся самих авторских принципов.
Основной образ, пронизывающий все Послание к архимандриту Василию, - это образ созидания душевного храма. Понятие о человеческой душе, как о храме Божием, органично для христианства; оно имеет своим истоком слова апостола Павла: «Не весте ли, яко церкви Божия есте вы и Дух Божий живет в вас» (I Кор. 3, 16). Для автора Послания схимник - это человек, созидающий в себе духовную храмину.
В разных сочинениях Кирилла Туровского (Притче о беспечном царе, Сказании о черноризческом чине, Слове на собор св. отцов 318-и, Каноне покаянном) присутствует та же самая мысль, и в довольно близком словесном выражении. В Послании и сочинениях Кирилла Туровского совпадают и метафорические атрибуты образа храма: основание храма символизирует веру Божию; стена, ограждающая храм, - страх Божий; а жена, введенная во храм, - смертную память. Общей и для Послания, и для сочинений Кирилла Туровского является метафора: слово как кирпич, полагаемый на созидание стен душевного храма (притча о слепце и хромце, Слово на Фомину неделю).
Обращает на себя внимание и совпадение так называемой «самоуничижительной» позиции автора Послания и Кирилла Туровского.
Умаление себя перед миром и перед другими людьми - одна из основ христианского мироощущения. В области литературы это привело к созданию этикетных авторских «самоуничижительных» формул, о существовании которых всем хорошо известно со времен выхода в свет книги Д.С. Лихачева «Поэтика древнерусской литературы».
Но при всей этикетности, все таки, во-первых, разные писатели с разной интенсивностью выказывают свою авторскую смиренность: у одних она ограничивается одной обязательной формулой, у других - пронизывает все сочинение от начала до конца. Во-вторых, сами формулы бывают разными. Ермолай-Еразм, например, часто по отношению к себе употреблял эпитет «прегрешный». У Епифания Премудрого, кажется, излюбленными были речи о своем «недостоинстве»; у Пахомия Серба - о «грубости». Иные авторы любили называть себя «невежами» и «поселянами», иные любили повторять, что они «не во Афинах родились, не у мудрых философов учились».
У автора Послания и Кирилла Туровского удивительно совпадают самые формы выражения авторского смирения. Первая формула - это указание на грешные слова-кирпичики, которые не составляются у автора в стройную стену речи, потому что не соединяются «влагой» Святого Духа. Другая формула - это признание в том, что все, что автор говорит, он говорит не от собственного «умышления», а от «святых книг». Третья - упоминание о своем «неразумии», «безумии», «мутном уме». Четвертая - отказ называться учителем: «несмь бо учитель».
По осмыслении указанных параллелей, а также еще целого ряда совпадений, мы пришли к выводу, что автором Послания к архимандриту Василию был не кто иной, как Кирилл Туровский. А это значит, что в 1182 г., определенно, невозможно, еще несколько лет спустя Кирилл все еще здравствовал (архимандрит Василий настоятельствовал в Киево-Печерском монастыре по крайней мере до 1197 г.).
Но в 1182 г., когда попа Василия со Щековицы поставили в игумены Киево-Печерского монастыря, туровским епископом был уже Лаврентий. Следовательно, какие-то обстоятельства или собственная воля заставили Кирилла оставить епископскую кафедру.
Как выясняется, у Кирилла Туровского есть один литературный цикл, - молитвы на всю седмицу, покаянный канон и исповедание, - из содержания которого явствует, что он создавался после оставления епископства, «в годину старости». Так что Послание архимандриту Василию в этом смысле не является чем то исключительным.
Итак, после 1182 г., в старости, оставив епископство, в схиме (потому что, у кого же можно просить совета о схиме, как не у схимника), и, во всяком случае, в ореоле большого духовного авторитета, Кирилл Туровский написал Послание о схиме киево-печерскому архимандриту Василию, прямому преемнику игумена Поликарпа, бывшего собеседником князя Ростислава Мстиславича Смоленского.
Собранные вкупе эпистолярные памятники древнейшего периода русской литературы позволяют увидеть прошлое через прямую речь живших тогда авторов посланий. Сопоставление речей дает возможность почувствовать историю, как связь людей. Феодосий Печерский обращался с посланиями к великому князю киевскому Изяславу Ярославичу, внуку крестителя Руси князя Владимира. Владимир Мономах был племянником Изя-слава Ярославича, правнуком святого Владимира; от него дошло письмо к его двоюродному брату, князю Олегу Святословичу. Митрополит Климент Смолятич, автор дошедшего до нас Послания к смоленскому пресвитеру Фоме, называл своим «присным господином» внука Владимира Мономаха - князя Ростислава Мстиславича Смоленского и обращался к нему с «писаниями». Князь Ростислав Мстиславич состоял в близких отношениях с игуменом Киево-Печерского монастыря Поликарпом, преемником которого на игуменстве был Василий, адресат сохранившегося до наших дней Послания Кирилла Туровского, и т. д. Так обрывочные материалы составляются в связь времен. Работа источниковеда восстанавливает звенья, связующей времена цепи.
Источниковедческий анализ литературных памятников рождественского и великопостного циклов в их сопоставлении с обрядностью народной культуры позволил нам по-новому осознать смысл древнерусских празднеств карнавального типа и усмотреть в них глубокий христианский подтекст и связь с церковной культурой своего времени.
Мы обратили внимание на то, что карнавальная основа древнерусских святок и масленичных игрищ вполне отчетливо выражена во всех доступных упоминаниях этого культурного феномена. Здесь отмечены и буйные игры, и ряженые, и маскирование, и кощунственный смех. Причем в обрядности этих празднеств постоянно присутствует тема огня и воды. Огонь и вода обрамляли святочное двенадцатидневье, открывавшееся потешным огнем бегавших по улицам ряженых и заканчивавшееся в день богоявления купанием этих ряженых в крещенской воде. Как пролог Великого поста выглядят масленичные костры, палимые всюду в последний день масленой недели, как его эпилог - пасхальные обливания.
Святочные игрища были переполнены возжжениями огней. По свидетельству Адама Олеария, побывавшего в России в 30-е годы XVII в., все восемь дней до Рождества Христова, и еще восемь дней - от Рождества до Богоявления - по улицам русских городов бегали ряженые, т. н. «халдеи», с потешным огнем в руках, с помощью которого они поджигали встречные возы сена и бороды прохожих6.
6 Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906. С. 301.
Казалось бы, основа этих огненных игрищ должна по определению быть сугубо языческой и не иметь ничего общего с церковной культурой. Но как оказывается при пристальном изучении источников, народная обрядность этих игрищ была продолжением церковной обрядности или ее травестией.
Бегавшие по улицампотешным огнем «халдейцы» - это участники церковного чина пещного действа, известного на Руси по крайней мереначала XVI в. (так датируется наиболее древняя рукопись, егодержащая). Косвенныеидетельства оществовании у нас обряда пещного действа уже в XIV в. находятся в Хождении Игнатия Смольнянина (13891405 гг.). Чин этотвершался примерно за неделю до праздника Рождества Христова, либо в неделюятых праотец, если Рождество приходилось на понедельник или вторник, либо в неделюятых отец, если Рождество попадало на другие пять дней. Он был частьюужбы утрени. В день действа при пении канона утренидьмая и восьмая песни канонапровождались действиями, иставлявшими пещное действо. Посреди храма устанавливалась пещь. «Отроки» и «халдеи» в особых нарядах входили в церковь вместепатриархом или архиереем. Затем «отроки» вводились в алтарь, а перед началом пения их выводил оттуда наставникязанными длинным полотенцем за шеи и вручал «халдеям», а те вводили «отроков» в пещь. В то время, как «отроки» распевали в печи канон, «халдеи» разгуливаливокруг печи особого рода «халдейскимиечами», пальмами и трубками, наполненными горючею травою, и разжигали огонь. Когда во время пения протодиакон возглашал: «Ангелиде», - из под куполабора в печьускалось изображение ангела. «Халдеи», увидев ангела, падали ниц, поклонялись «отрокам» и выводили их из пещи. «Отроки», выйдя из печи, говорили многолетие архиерею и царскому роду. Затем в пещи читалось Евангелие, перед этим в нее вновь входили «отроки», провожаемые «халдеями», иними протодиакон и протопоп, читавший Евангелие7.
Действо имело непосредственное отношение к Рождеству, так как символизировало его. Библейское чудо о трех отроках, Анании, Азарии и Мисаиле, ввергнутых в горящую пещь нечестивым царем Навуходоносором, но не сожженных огнем, прообразовало чудесное рождение Исуса Христа, когда божественный огонь, вселившийся в деву Марию, не опалил ее естества. В ирмосе рождественского канона пелось: «Чуда преестествен-наго росодательная пещь изобрази образ: не бо яже прият не опали юныя, якоже и огнь божества Девы, в тоже вниде утробу» (см.: Минея служебная, декабрь).
Что пещное действо открывало собой рождественский цикл и было больше, чем только памятью трех отроков, говорит его совершение не в день 17 декабря (память трех отроков, когда поется служба им), а отдельно,
1 См.: Никольский К. О службах русской церкви, бывших в прежних печатных богослужебных книгах. СПб., 1885. С. 170-172. в воскресенье святых отец или праотец. Когда патриарх приходил звать царя к пещному действу, он обращал внимание на его символический смысл, относящийся к Рождеству, говоря: «Празднуем преобразование бывшея пещи халдейския».
Пещное действо имело прямое отношение к церковному празднованию Рождества. И одновременно это было зрелище, шагнувшее в уличное народное празднество. Связь осуществлялась благодаря «халдеям», принадлежащим на протяжении всего святочного периода одновременно и храму, и улице. «Халдеи» вместе с «отроками», помимо исполнения самого действа, участвовали с причтом во всех богослужениях дня, в который совершалось действо, а также в богослужениях дня Рождества. В чине, относящемся к началу XVI в., читаем: «А на праздник Рождества Христова провожают митрополита по тому ж .чину отроцы и халдеи и подьяки к вечерни и от вечерни, к заутрени и от заутрени и действуют вся, опричь пещного действа». И наряду с этим «халдеи» бегали по улицам (причем с разрешения патриарха, как отмечает Олеарий) в своем шутовском наряде, с потешным огнем в руках. Это были святочные ряженые, но и одежда и потешный огонь этих ряженых являлись атрибутами церковного действа.
Символический смысл святочного «халдейского» огня амбивалентно двузначен. С одной стороны, огонь всегда был символом ада, - «геенны огненной». Халдейская пещь - это также адская пещь: разжигающие ее нечестивый царь Навуходоносор и его помощники «халдеи» творят сатанинское дело, казнят праведников. Их огонь - это орудие дьявола, убивающий огонь. Но одновременно он был и божественным огнем. Если обратиться к «изнаночной» стороне этого образа, то окажется, что халдейский огонь, прообразуя Рождество, символизирует Божество, вселившееся в человеческую плоть Богородицы, но не опалившее ее.
Указанная символика не пряталась где-то в тайниках богословия. Это была живая образность, вновь и вновь осмысляемая в произведениях литургической гимнографии, в проповеднической литературе авторитетных авторов прошлого, в памятниках современной письменности.
Вавилонская пещь отроки не опали, ниже Божества огонь Деву растли», - пелось за Богослужением (см.: Минея служебная, декабрь). А при дворе, в миру, произносились декламации виршеписца Луки Голосова, написанные 1682 г.:
Чюда. преестественнаго росодательна пещь изобрази обрядом удивительну вещь:
Не бо якоже прият палит юныя
Три бо отрока в пещи суть благочинныя,
Якоже огнь Божества - Девы, в нюже винде, из утробы рождшия преславно изыде8.
Цит. по: Шляпкин И.А. Царевна Наталья Алексеевна и театр ее времени // ПДП, вып. СХХУШ. СПб., 1898. С. 65.
Очищающий характер воплощения выражался с помощью образа огня. В Слове Григория Богослова на Рождество Христово о воплощении Христа было сказано так: «Аки светило вожже свою плоть, греховную утварь очищая» (ВМЧ, декабрь, дни 25-31. М., 1912. Стб. 2275). А в диалогах того же Луки Голосова тема божественного огня воплощения, уничтожающего все греховное и обновляющего человека, выражалась следующим образом: «Иисус Христос, Бог наш, святым своим вочеловечением на небеса преславно вознесе нас.врага нашего диавола.огнем праведнаго своего гнева сожже и вся его гнусная умышления попали и испепели»9.
Для греховного, ветхого человека огонь будет убивающим, адским; для духовного, нового - очищающим и возрождающим. Такое амбивалентное осознание символики огня наглядно представлено в сочинении Симеона Полоцкого «Стихи краесогласныя на Рождество Христово». Здесь за виршами: «Отроки во святой вере воспитаны, / От мучителя в огнь выеч-ный посланы, / Яко идолу поклона не даху, / Но Сыном Божиим орошены Бяху» - следуют строки: «Мы же, грешны сущи, / како приближимся / Ко сему огневи, / да не опалимся» (См. рук.: РНБ, F. XVII.83, л. 79-79об.).
Огонь, о котором здесь идет речь, это сразу и адский огонь и божественный. Он божественный, потому что не опалил отроков, но он же может оказаться адским - для тех, кто «грешны сущи». В чине пещного действа огонь, разожженный «халдеями», оказывался убийственным для них самих: после появления ангела уже не «халдеи» разжигали огонь, - говорящие трубки переходили в руки дьякона, принимавшегося «палить» «халдеев». «Мы чаяли вас сожгли, а мы сами сгорели», - говорил один из «халдеев» выходящим из пещи отрокам.
Потешный огонь, с которым бегали по улицам «халдеи», был одновременно и убивающим и возрождающим. Не случайно указано на то, что, забавляясь, «халдеи» поджигали возы сена. В средневековой символике сено, солома являются образом греховного, ветхого, земного. В песнопениях предпразднества Крещения Иоанн Предотеча, обращаясь ко Христу, называет его огнем, а себя сеном: «огнь сый, Владыко, да не опалиши меня, сено суща» (см.: Минея служебная, январь), тем самым говоря о своей греховной, земной сущности.
В народных обычаях, зафиксированных этнографами и фольклористами, был распространен обряд воззжения соломы, устойчиво приуроченный ко времени святок. Сожжение соломы символизирует преодоление ветхого мира и вместе с ним преодоление смерти. То, что обряд повторялся, как свидетельствует Стоглав, в великий четверг на страстной седмице, в канун праздника Воскресения, доминирующей темой которого является преодоление смерти, подтверждает связь огня и воззжения соломы с мыслью о преодолении ветхого человека.
Шляпкин И.А. Царевна Наталья Алексеевна. .С. 43-44.
Преодоление смерти было одной из ведущих тем Рождества. Воплощение Христа толковалось как преодоление ветхого, смертного Адама. «Благоволил еси.родитися нас ради, да преждепадшаго спасеши праотца нашего.и, расторгнув смертныя узы, совозставиши вся, яже от века су-щыя в мертвых», - звучало в неделю святых праотец (см. Минея служебная, декабрь). «Преста тобою, Дево, смерть, жизнь бо, Христа, родила еси, да-рующаго чести верующим во нь безсмертно и божествено радование» -пелось в Богородичном тропаре. А в Беседе Василия Кесарийского на Рождество Христово читалось: «Сице насиловающия человеческому естеству смерть пришествием Божества без вести бысть» (ВМЧ, декабрь, дни 25-31. М., 1912, стб. 2292).
Тема преодоленной через Рождество смерти звучала не только в литургических гимнах и сочинениях отцов церкви. Она проходила через творчество каждого нового поколения писателей, например, Симеона Полоцкого. «Земного рода днесь обновление Бог совершает через воплощение / В ветхом Адаме древле вси умрохом, / днесь жизнь нову в Христе обрето-хом». (РНБ. Б.XVII.83, л. 77-77об.).
Мы убедились в том, что огонь символизировал Божество. Но и вода также символизировала Христа. «Яко туча, яко великий дождь во утробу твою Владыка сниде» - пели за службой, обращаясь к Богородице (Минея служебная, декабрь). О Богородице же провозглашалось: «Се грядет. дождь носящи, собезначального отцу и духови присно Христа». (Там же). «Яко бо честная роса, низшед, Господь рождыиую спасет неопальну». (Там же). При этом огонь и вода являлись как бы знаками единой сущности. В отношении к плоти - это огонь, в отношении к душе - роса, дождь, вода. Греховное опаляется, праведное орошается, как в чуде с тремя отроками, «на росу огнь преложившими», сделавшими огнь «тучеросным».
Оксюморонный образ - огонь, изливающий воду, был доминирующей темой богослужения рождественского цикла. Одна половина этого образа-символа, огненная, была обращена к плотскому, человеческому, ветхому и со всем этим к Рождеству; вторая, водная, - к духовному, божескому и вместе с этим ко Крещению. Символ Крещения - вода, символ Рождества - огонь, соединенные вместе, они - символ явления Бога на земле.
Неслучайно и в церковной, и в народной обрядности дня Богоявления огонь и вода соединяются. Во время крещенского водосвятия в воду погружаются горящие свечи. В конце XVII в. этот обряд отметил наблюдавший богоявленское освящение воды в Москве И.Г. Корб10.
Адам Олеарий Писал: «Халдеи во время своего бегания считались язычниками и нечистыми. Поэтому в день св. Крещения, во время великого всеобщего освящения, их вновь крестили, чтобы смыть с них эту безбожную нечистоту и вновь соединить их с церковью. По принятии креще
Корб И.Г. Дневник поездки В Московское государство Игнатия Христофоровйча Гвариента. М., 1867. С. 128. ния они вновь делались столь же чистыми и святыми, как и все остальные. Такие люди иногда оказывались крещенными раз десять и более»11. Ни о каком повторении таинства крещения здесь не может быть и речи. Лютеранин Адам Олеарий явно преувеличивал обрядовое своеобразие русского христианства. Он принял за крещение омовение в богоявленской воде. Но нам в его свидетельстве важно указание на то, что такое омовение превратилось в своего рода обряд. О купании в проруби в день Богоявления, обязательном для святочных ряженых, известно по этнографическим материалам XIX в.12.
Красные с ног до головы «халдеи», «огненники», были как бы персонифицированным выражением огня во все время святок. Омовение их в крещенской воде в день Богоявления составляло обязательное условие их рождественской игры. Одновременно это и был финальный жест святочного маскарада: вода гасила огонь. Все святки ряженые изображали ветхого человека, в день же Богоявления смывали грехи и возрождались, и возвра--щались к новой жизни.
Шутейное обливание водой, «вметание» в воду было также частью народной обрядности Пасхальной недели. Исповедный русский устав по этому случаю припас даже специальный вопрос: «Не обливался ли водою в Великий четверток или на Святой неделе не куповал ли кого?»13. В Гус-тынской летописи об играх в день Пасхи говорилось: « В день пресветлого Воскресения Христова, собравшеся юнии и играюще, вметают человека в воду. По иных же странах не вкидают в воду, но токмо водою обливают» (ПСРЛ. Т. И. С. 257). Обычай обливаться на Пасху сохранялся вплоть до XVIII в.; он зафиксирован запретительным указом Синода 1721 г.: «В Российском государстве, как в городах, так в весях происходит от невежд некоторое непотребство. А именно: во всю светлую седмицу Пасхи, кто не бывает на утрени, того, якобы штрафуя, обливают водою и в реках, и в прудах купают» (ПСЗ. Т. VI. 1720-1722 гг. СПб., 1830. С. 377).
Прологом к пасхальным купаниям в воде были масленичные огни, палимые повсюду в канун Великого поста.
Снова перед нами соединение воды и огня в народной обрядности. И снова литургические источники позволяют нам понять эту закономерность.
Надо увидеть Великий пост как путь от Адама ко Христу, чтобы понять закономерность связи масленичных огней с пасхальными обливаниями. Две недели обрамляют Великий пост: сырная (масленая) и пасхальная. Тема сырной недели, последней из приуготовительных к Великому посту, - грехопадение Адама и Евы. Литургические песнопения этой недели пронизаны мотивом грехопадения Адама, объясняющим необходимость
11 Адам Олеарий. Описание. С. 302-303.
12 Максимов C.B. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. С. 327. Алмазов А. Тайная исповедь. T. III. Одесса, 1894. С. 288-289. поста: «Горько объем первозданный в рай доевле снедь безсловесно, - от-вержеся и осужден» (см. Триодь постная). Тема пасхальной недели - восстание Христа, через смерть которого «Адам паки вниде в рай». Можно метафорически сказать, что при входе в Великий пост стоит Адам, при выходе из него - Христос; Воскресение - это соединение Адама со Христом, как это и передается на иконах, изображающих сошествие во ад и называющихся «Воскресение».
Литургическим выражением Великого поста являются песнопения Постной триоди; вдумываясь в эти песнопения, мы убеждаемся в том, что в литургике Воскресение всегда мыслилось как соединение Христа и Адама. При этом распятие Христово представляется как грехопадение «наизнанку». «Солнце лучи съкры, луна со звездами в кровь преложися, горы ужа-сошася, холми встрепеташа», - это описание не распятия, а момента грехопадения, «егда рай заключися» (см.: Триодь постная). Но та же картина рисуется и в момент распятия: «Тебе якоже виде плотию висима на древе, свет в тму прелагаше солнце, и земля подвижеся, и камения распадошася». (Там же).
Совпадали не только картины состояния вселенной в момент распятия и грехопадения, но совпадали и самые эти моменты, ибо они представлялись как события, случившиеся в один и тот же час суток. Так излагается эта мысль с точки зрения «от Адама» (Синаксарь сырной недели): «И яко в шестой час руце простер и плода коснуся, яви и новый Адам, Христос, - в шестой час и день длани простер на кресте, оного исцеляя пагубу». А так с точки зрения «от Христа» (Синаксарь страстной седмицы): «В шестый день седмицы, яве в пяток, распятся Господь, занеже и в шес-тый день изначала создатися человеку. Но и в шестый час дне на кресте повешен бысть, зане в той час, якоже глаголют, и Адам на отреченное древо руце простер, коснуся и умре. Подобаше в оньже час сокрушену, в той паки возсоздатися».
Метафора: Великий пост - путь от Адама ко Христу постоянно живет в литургических текстах. В сырную неделю, в преддверии поста звучало: «Преплывше поста великую пучину, в тридневное воскресение достигнем Господа и Спаса нашего Исуса Христа» (см. Триодь постная). А в четвертую неделю пелось: «Приидите, любовно с Христом идем к божественной страсти, да сраспеншися ему, общницы будем того воскресению». (Там же). Причем этот путь мыслился не только как исторический путь через века от праотца Адама к Сыну Божию Христу, но и как внутренний путь всякого смертного от ветхого человека к новому.
Всякий человек - новый Адам. Падая, он повторяет путь, пройденный Адамом, восставая - приобщается Христу. В разные дни сырной седмицы пелось: «Богородительнице Дево, . мене, изгнанного от Едема, ныне воззови»; «Змий льстивый некогда, чести моей позавидев, нашепта лес-тию Евве в уши, от неяже аз прелстився, изгнан был, увы мне, от лика жизни»; «Не к тому вижю тебе, ни наслаждаюся пресладкия твоея и божественныя светлости, всечестный раю, наг бо повергохся в землю, прогневая создавшаго» (см. Триодь постная). Ни один из приведенных текстов не есть прямая речь, вложенная в уста ветхозаветного Адама. Все это - покаянные слова героя литургической поэзии, который есть всякое смертное «я» перед лицом Бога.
Грехопадение Адама и Евы трактуется в драме Великого поста не только как событие истории, но и как состояние человеческой души: «Гряди, душе моя страстная, плачи твоя деяния днесь, поминающи первое обнажение в Едеме, имже изгнана еси от сладости и непрестанный радости»; «Первозданного Адама преступлению поревновех . увы мне, окаянная душе, что уподобилася еси первой Евве» (см. Триодь постная).
Последний день сырной седмицы - воскресенье - посвящался теме изгнания Адама из рая. «Седе Адам тогда, плакася прямо сладости рая, руками бия лице и глаголаше: "Милостиве помилуй мя, падшаго"» (см. Триодь постная). Но это было и отлучение от рая вместе с Адамом всякого че--ловека, вступающего в Великий пост.
Обратимся к обряду сжигания масленицы, как его увидел в конце XIX в. C.B. Максимов: в четверг, на масляной неделе парни и девушки делали из соломы чучело, обрядив его в женское платье. До пятницы Сударыню-масленицу хранили где-нибудь в сарае, а в пятницу начиналось шествие. Во главе процессии двигалась Масленица, а рядом с ней самая нарядная и красивая девушка. Сани с Масленицей влекли три парня, а за этими санями тянулась целая вереница запряженных парнями саней, переполненных нарядными девушками. Масленичный поезд доезжал до катальной горы, где Сударыня-масленица и открывала катание. В субботу катания повторялись, только теперь в санях сидели попарно девушки с парнями. В воскресенье вечером Масленица сжигалась на огромном костре из соломы и старой рухляди, приготовленной загодя14.
Бросается в глаза, что масленичный обряд приурочен к избранным дням христианской седмицы: пятнице и воскресенью. Бросается также в глаза роль брачных пар в обряде.
Не травестия ли истории грехопадения перед нами? Чучело символизирует собой образ греховного, ветхого. В этом убеждает то, что чучело подлежит сожжению и что главный его атрибут - солома. Если вспомнить, что грехопадение мыслилось в «изнаночном» параллелизме к распятию, то становится понятно, почему игрища с «сударыней-масленицей» начинаются в пятницу и почему в воскресенье чучело сжигается. И представляется закономерностью последовательное появление на театре народного обряда сначала женщины, а потом мужчины (в первый день с Масленицей катается только девушка, во второй - девушка и парень), когда мы свяжем обряд с темой прикосновения к запретному плоду.
14 Максимов C.B. Нечистая, неведомая и крестнаяла 368-370.
Самое катание с горы представляется символическим жестом. Не есть ли это образ падения - сверху вниз? Предположить это позволяет тот факт, что катание производилось вместе с чучелом масленицы. Изображение какого-либо греха как скатывания с горы известно из искусства древнерусской книжной миниатюры. Так, например, в различных лицевых сборниках миниатюра «наказание грешников» представляет собой изображение горки, по которой сверху вниз бесы влекут телегу с грешниками; у подножия горки изображалась геенна огненная (ср. рук. ИРЛИ, Древлехранилище, Северо-Двинское собр., № 152 и др.).
Что масленичное действо тесно связано с тематикой Великого поста подтверждается материалом западноевропейской культуры. Средневековый западноевропейский карнавал, приходившийся, как и масленица, на канун Великого поста, завершался, как и масленица, сожжением или погребением соломенного чучела. При этом, в некоторых странах, как и на Руси, чучело, прежде чем быть сожженным, скатывалось с горы15.
Изучение масленичной русской и карнавальной европейской обрядности позволяет видеть в карнавальном масленичном чучеле один из видов «смерти», «ветхого мира», а в образе сжигания чучела выражение мысли о преодолении смерти, преодолении ветхого человека.
Мы уже знаем, что солома в христианской, символике - это знак греховного, ветхого, земного. Все бренное поедается огнем, «яко трава». В живописи Иеронима Босха, этого, по определению искусствоведов, хранителя христианской ортодоксальности, творчество которого не может быть понято без знания символического языка средневековья, среди множества используемых символов находится и сено. Его триптих, носящий название «Воз сена» (оригинал находится в Мадриде (Прадо), воспроизведение см. в альбоме: Иероним Босх. М., 1974, табл. 12-14), представляет земную жизнь людей в образе огромного воза сена, с взгромоздившимися на него бесчисленными грешниками (убийцами, ворами, прелюбодеями и т. д.). В левой части триптиха изображен рай в момент грехопадения Адама и Евы, в правой - объятый пламенем ад. Воз движется от рая к аду. Символический тзык художника вполне ясен: грехопадение первых людей - причина грешности потомков Адама и Евы, образ греховности - сено, и ему надлежит быть испепеленным огнем Божьего суда.
Когда надо было сказать на языке символов, что нечто - греховно, бренно, то для выражения этого всегда прибегали к одному символу - соломе. В некоторых местностях России в последний день масленицы, в самый канун поста, когда полностью устранялось из употребления в пищу все скоромное, было принято выносить на улицу крынку с молоком и зажигать около нее пучок соломы16. Похожим образов выражалось и отношение
15 Фрезер Д. Золотая ветвь. Вып. 111. Умирающие и воскресающие боги растительности. М. 1928. С. 18-20.
16 Румянцев Н. Масленица // Атеист, 1930, № 49. С. 84. ' к масленичным горам: когда подходила к концу масленичная неделя, на ледяные горы наваливали груды соломы и поджигали их.
Итак, масленичный огонь - это символ преодоления ветхого мира, греховного Адама, вступающего в Великий пост для того, чтобы прийти в конце его ко Христу.
Символом же искупления греха является вода. В популярном на Руси апокрифическом Слове о происхождении древа креста благоразумного разбойника рассказывалось, что когда Лот, согрешив, пришел к Аврааму на покаяние, тот приказал ему принести три горящие головни из того неугасимого до века огня, который возжег Сиф в память отца своего Адама. Лот принес три головни из адамова костра, и Авраам заповедал ему посадить их «на горнем месте и поливать водою», и сказал: «Егда прорастут главни, тогда еси прощен от греха». - «И вода бяше далече, трижды на день принести. И тако на день поливаше главни. И тогда возрасте древо пречуд-но и крясно зело»17. На этом древе был распят благочестивый разбойник.
В другом Слове, приписываемом Севериану Гевальскому, кающийся грешник назван не Лотом, а просто «неким мужем»; но он также приходит к Аврааму и приносит ему три горящие головни, о которых Авраам говорит ему: «До 40 дней напоай на кийждо день по 40 мер кийждо от главней; да аще в 40 дний оживятся и вкоренятся главни, ведомо буди, яко умилил ти ся Бог на тя». По прошествии сорока дней головни процвели. На древе, выросшем из них, был распят Исус Христос18.
Итак, мы видим, что искупление греха мыслилось в образной системе как угашение огня.
Образ угашенного огня, как символ спасения, проходит через всю литургическую гимнографию в теме трех отроков вавилонских; кроме этого он постоянно возникает в песнопениях Великопостного цикла: «Древом крестным пламень греха увядил еси, Христе», - пелось в крестопоклонную неделю (см. Триодь постная) и т. д.
В среду крестопоклонной недели, когда, как говорили в народе «ломается» пост, на Руси было принято ходить по домам и поздравлять с этим событием. Обычно поздравляли дети. Их принимали радушно и при этом обливали водой19. Эти обливания были предвестниками пасхального обливания. На крестопоклонной неделе за службой мощно начинает звучать тема спасения через крест, с этого момента все более и более усиливаясь до самого дня Воскресения. Потому эта неделя и чествовалась как праздник, потому и происходило обливание детей водой, - как обетование спасения, как предвестник будущего обливания всех.
В популярных в древнерусской рукописной традиции апокрифических статьях «От коликих частей создан бысть Адам» и «Слове об Адаме и
17 Порфирьев И.Я Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. СПб., 1877. С. 96-97.
18 Там же. С. 101. Максимов C.B. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 382.
Еве» покаяние прародителей изображалось как погружение в воду: «Ева рече: "Господи, покаемся, яко да свободит нас Господь от дьявола". Егда покаяся в Тигре реце Евва, а Адам прииде на Иердань, каяся, и погрузися на Иердане реце»20; «Адам погрузися весь в Ердани и пребысть 40 дней»21.
Когда сорокадневный Великий пост, время покаяния и путь к спасению, завершался шуточными пасхальными обливаниями, этим как бы иллюстрировались легенды о крестном древе, где горящие головни были угашены на сороковой день, или предание об Адаме и Еве, где покаянное погружение в реку также длилось 40 дней. Этот жест пасхального праздника выражал языком смеховой народной культуры серьезнейшую мысль о победе над грехом.
Целая серия наших изысканий посвящена памятникам старообрядческой письменности, как ранней, аввакумовского периода, так и более поздней, связанной с деятельностью выговской литературной школы XVIII века.
Источниковедческий анализ позволил нам доказать, что автором Жития боярыни Морозовой является ее родной брат Федор Соковнин.
Что автором Жития Морозовой был тот, кто именуется в нем «большим братом», ясно всякому, прочитавшему Житие. На протяжении большей части Жития его автор избегал повествования от первого лица, но это прорвалось при описании последнего тайного свидания его с воровскими узницами. Описывая, как почувствовавшая приближение последней расправы боярыня написала из тюрьмы к своей духовной наставнице инокине Мелании: «Умилосердися, посети в остатошное», он добавляет: «Молит же взяти ей с собой и большого брата. И поспеши Бог; и яхомся пути, понеже слышахом, яко в тех днях мысль бе у царя, еже, послав, допросите их накрепко и аще не покорятся, указ чинити. Но обаче нас сохранил Бог. В день недельный в 3-й час нощи приидохом в темницу.». «Большой брат», вместе со старицей Меланией и другими близкими людьми, пришел в тюрьму, где томились сестры Федосья Морозова и Евдокия Урусова, ночью 11-го января 1675 г. («В день недельный в 3-й час нощи приидохом в темницу»). На рассвете он, вместе с племянником мужа третьей боровской узницы, Марии Даниловой, ушел из тюремной камеры («И отидохом с Родионом на разсвете»), а мать Мелания со старицей Еленой «дерзнуша и день той пребыти у них». На следующую ночь мужчины снова пришли («и приидохом паки в темницу в полунощное время»). Описывая события этой ночи в темнице, автор Жития опять сказал о себе в первом лице: рассказав о том, как поучала в эту ночь инокиня Мелания узниц, он добавил: «Аз же,
211 Тихонравов Н С. Памятники отреченной русской литературы. Т. II. М., 1863. С. 450.
21 Там же. Т. I. СПб., 1863. С. 4. видев сие и слышах, преизлиха пребых удивляяся разуму и терпению и любви блаженныя Феодоры.»
Что «большой брат» является автором Жития, было ясно всем авторам, кто (начиная с И.Е. Забелина и кончая А.И. Мазуниным) касался этого произведения. Но кого следует подразумевать под «большим братом», относительно этого вопроса не возникало ясности. Основной, и даже единственный, аргумент против того, что «большой брат», навестивший в боровской темнице сестер Федосью Морозову и Евдокию Урусову и написавший их Житие, - это их родной старший брат, сводился к тому, что Федор Соковнин, старший брат сестер, с конца 1672 года по 1675 г. находился на воеводстве в Чугуеве22 (что засвидетельствовано Житием и документальными материалами) и потому не мог в январе 1675 г. оказаться в Боровске23.
Но этот аргумент спорен. В том, что в январе 1675 г. Федор Соковнин оставался чугуевским воеводой, нельзя быть стопроцентно уверенным. Об окончании его воеводской службы в 1675 г. известно из Дворцовой разрядной книги, где среди записей, относящихся к маю 7183 г., читается: «Того ж году приехал из Чугуева со службы великого государя думной дворянин Федор Прокопьевич Соковнин». Из этой записи, поскольку она сделана в мае, следует только то, что возвращение Федора Соковнина в Москву состоялось не позже мая 1675 г., но когда именно - судить трудно. 7183-й год от сотворения мира, если переводить на летоисчисление от Рождества Христова, начинался 1 сентября 1674 г., а кончался 31 августа 1675 г.; так что нам в точности не известно, когда Федор Соковнин покинул Чу-гуев.
Но даже если Федор Соковнин до самого мая 1675 г. оставался в Чугуеве, разве оттуда он не мог отправиться в Боровск? Как из Чугуева, так и из Москвы, находись он зимой 1675 г. уже там, ему следовало пуститься в такое путешествие тайно.
Коль скоро аргумент о чугуевском воеводстве вовсе не бесспорен, следует присмотреться еще раз к выражению «большой брат» в Житии. Боярыня, видя приближение конца, просит инокиню Меланию посетить ее «в остатошное» и «молит взяти ей с собою и большего брата». Контекст этой фразы таков, что нет препятствий воспринимать употребленное здесь слово «брат» в его основном значении - родной брат, брат по плоти, тем более, что до этого в Житии уже говорилось об обоих братьях боярыни, и при этом именно о старшем - как об очень близком ей человеке. Сохранился документ, благодаря которому нам делается известно, что в устах Федо-сьи Прокопьевны Морозовой слова «большой» и «меньшой» при обозначении кровного братского родства были обиходными: в одном из писем про
22 Братья Соковнины после ареста их сестер были сосланы из Москвы на воеводскую службу в Острогожск (Алексей) и Чугуев (Федор).
23 См. Повесть о боярыне Морозовой / Подгот. текста и исслед. А.И. Мазунина. Л., 1979. С. 72. топопу Аввакуму в Пустозерск она написала отбя и отоей младшейстры Евдокии: «Свету душе моей батюшку Аввакуму Петровичу - многогрешнаястра твоя большая и меньшая и дети наши просим . твоего благословения» (Барсков Я.Л. Памятники, 35). Боярыня называлабя «большойстрой», аою родную младшуюстру «меньшой», значит иоегоаршего брата она могла называть «большим».
Он был тем братом, о котором царю было известно, что он знает все о своей сестре: царь допытывался у Федора Соковнина после ареста его сестер о местопребывании их наставницы Мелании и по этому поводу сказал ему: «Ты вся тайны сестры своея свеси» (см. Житие). Значит, старший брат был очень близким боярыне человеком. Царь находил возможным распрашивать о старице Мелании именно Федора Соковнина, - и именно старица Мелания привела к боярыне в Боровск «большого брата».
Что Федор Соковнин был единомышленникомоихстер и тайнымарообрядцем, ясно из того письма протопопа Аввакума к Федосье Прокопьевне (еще в бытность ее на воле), в котором он изылки просил Федора похлопотать (надо полагать перед царем) об улучшении егодержания какыльного: «. да помоли братаоего и нашего друга, чтоб пожаловал о кормовой тое грамоте, пожаловал потружался .» (Барсков Я.Л. Памятники, 35). Братья Соковнины в то время имели возможность похлопотать перед царем, ведь оба они исполнялиужбуольников при царском дворе, а Федор еще был и дворецким царицы Марии Ильиничны Милославской.
А.И. Мазунин обратил внимание на то, что тому, кто писал Житие, хорошо было известно многое из происходившего у царя «на верху» во время заговора против сестер и их ареста (вплоть до того, как прибежал в Грановитую палату, не докончив допроса, чудовский архимандрит Иоаким, будущий патриарх, «и пошепта во ухо» царю донос, что неповиновение выказывает не только смелая Федосья, но и тихая Евдокия (см. Житие). Стольничья служба братьев Соковниных при дворе может объяснить тут многое. Если князь Петр Урусов присутствовал в этот момент в Грановитой палате и вынужден был выслушать, как царь сказал про его жену наушничавшему Иоакиму: «Возьми и тую» (князь «оскорбися, а помощи делу не возможе»), то, возможно, присутствовали там и братья Соковнины. Но даже если в тот момент их там и не было, то Петр Урусов (так сочувственно описанный в Житии) должен был рассказать обо всем виденном и слышанном прежде всего братьям Соковниным.
И та особенность повествования Жития, в которой проявляется очень хорошее знание топографии покоев в доме боярыни Морозовой, также в первую очередь указывает на брата, не могшего не знать досконально устройства дома своей любимой сестры.
Итак, для предположения об авторстве Федора Соковнина есть много оснований.
К сказанному добавляется еще одно соображение. Когда мы читаем в Житии: «Царю же по взятии Феодорине во многи дни седящу с боляры своими и мыслящу, что бы ей сотворити за мужественное ея обличение. Феодора же, брата ея, призвав пред ся, велми истязоваше его о многих вещах, вопрошая его: "Повеждь ми - где Мелания? Ты вся тайны сестры сво-ея свеси", и велми на Феодора належаше гневом», - то «литературный слух» подсказывает нам, что так писать должен был сам Федор. А когда в другом месте Жития про ссылку братьев Соковниных на воеводство читаем: «. но и двою брату ею, Феодора и Алексея, оваго на Чугуев, оваго на Рыбное, яко бы на воеводство, паче же в заточение, поотсла. Федор бо на власти своей толико обогатися, яко и своих рублей тысячю прожил», -«литературный слух» говорит нам: это писал Федор и никто другой, ибо кто, кроме него самого, мог так досадовать на то, что пришлось поистратиться, и так некстати высказаться об этом посреди описания трагических событий.
Братья Соковнины сохраняли верность своим замученным сестрам до конца своих дней. Уже после 1683 г. они положили в Боровске надгробную плиту на месте их погребения. Для этого требовалось немалое мужество и любовь, ибо 80-е и 90-е годы XVII в. были временем продолжавшегося и разгоравшегося гонения на старообрядцев.
В 1697 г. Алексея Соковнина казнили за участие в стрелецком заговоре. В том же году умер и старший брат Федор Соковнин, отправленный в ссылку за младшего брата.
А ведь до 1697 г. оба они продолжали нести службу при дворе, как несли ее при жизни Федосьи и Евдокии. Но, значит, оставались при этом тайными старообрядцами и не могли простить потомству царя, замучившего их сестер, не могли простить сына царя Алексея и Натальи Нарышкиной, - ведь именно с отказа поехать на свадьбу царя Алексея с юной Натальей Нарышкиной началось открытое стояние боярыни Морозовой за старую веру.
Источниковедческий анализ еще одного памятника раннего старообрядчества, так называемой Пятой челобитной протопопа Аввакума царю Алексею Михайловичу, позволил нам установить, что у этого, столь яркого и знаменательного для истории литературы XVII в. памятника, есть еще один автор - соузник протопопа Аввакума и собрат по убеждениям дьякон Феодор.
Идея равенства людей, крайне непримиримое и дерзкое отношение к царю, выраженные в Пятой челобитной, не раз привлекались для характеристики взглядов Аввакума. Однако, как выясняется, Пятая челобитная может служить в равной мере и для характеристики взглядов и стиля дьякона Феодора, ибо значительная часть текста этой челобитной принадлежит не Аввакуму, а Федору.
В известном послании дьякона Федора семейству Аввакума от 1 сентября 1669 г. из Пустозерска, есть следующие строки: «И отец Аввакум посылает царю послание с сотником старым. Сотник емлет у него. Чаю и аз пошлю. А список к вам послан с Поликарпом вашим. До показанных откровений отцу о царе и о себе - мое о Христе счинение. А те тайны Христовы сам писал отец до конца и посем уже что отродится от рога того зла-го».
То, что дьякон имел здесь в виду посылку именно Пятой челобитной, не вызывало сомнения ни у издателя послания Феодора, ни у издателей челобитной Аввакума. Нас в этом убеждает и указание на сотника (есть списки, где Пятая челобитная озаглавлена: «Сицево послание писано к царю от протопопа Аввакума с сотником 178 года ис пустозерския темни-ы»), и упоминание «откровений» Аввакуму о царе и о себе (в Пятой челобитной описаны аввакумовы видения: о врачевании им язв на теле царя, о «распространении» тела его, вместившего в себя «небо и землю и всю тверь», о явлении Аввакуму Христа и Богородицы в темнице на Угреше).
Публикуя текст послания дьякона Федора, Я.Л. Барсков так разделил фразу, что не знал, к чему отнести слова «мое о Христе счинение», и задавался даже вопросом, не имеет ли здесь дьякон в виду «Послание ко всем православным о Антихристе»24. В дальнейших работах эта фраза больше не подвергалась толкованию и пересмотру.
Между тем существует только один правильный путь ее прочтения, выраженный с помощью предложенной нами пунктуации. Федор говорит, что до описания того, что открылось Аввакуму «о царе и о себе» челобитная представляет собой его, Федорово, сочинение, а «откровения», или, как он в другой раз их называет, «тайны Христовы», писал сам Аввакум.
Обратившись к тексту Пятой челобитной, мы видим, что он и стилистически, и по содержанию распадается на две разнородные части. Первая часть представляет собой страстное обличение царя. Именно здесь сказано знаменитое: «Господин убо есть над всеми царь, раб же со всеми есть ожий»; здесь ответственность за расправу над старообрядцами перекла-ывается с духовных властей на царя; здесь царь укоряется за то, что не дал узникам «праведного суда» с их противниками. Заканчивается эта часть тирадой по поводу царева повеления не погребать пустозерских узников в случае их смерти по христианскому обряду. Последняя фраза этой части вполне могла бы быть заключительной: «Аще же не обратитеся, то все погибнете вечно, а не временно».
Обращает на себя внимание то, что в этой части челобитной автор выступает от лица всех пустозерских сидельцев, текст выглядит как скры
24 Фраза Феодора передана Я.Л. Барековым с помощью следующей пунктуации: «А список к вам послан с Поликарпом вашим, до показанных откровений отцу о царе и о себе, мое о Христе счинение, а те тайны Христовы сам писал отец до конца, и посем уже что отродится от рогатогозлаго» (Барсков Я.Л. Памятники. С. 68). тый диалог между царем и всеми пустозерскими узниками: «Воистину царь государь, глаголем ти: смело дерзаете»; «.мы страждем и умираем, и крови своя промываем»; «Аще правдою спросиши, и мы скажем ти о том»; «Здесь ты нам праведного суда со отступниками не дал» и т. д.
Язык первой части вполне книжный, без характерной для Аввакума фразеологии, просторечных оборотов, нет и следов Аввакумова «вяканья».
Другие черты отличают вторую часть челобитной. Начинается она, как и было сказано, с «откровеной» Аввакуму о царе и себе: видения о врачевании протопопом язв на теле царя. И сразу же читатель окунается в знакомый мир Аввакумовой фразеологии: «Прости, Михайлович, свет, либо по том умру, да же бы тебе ведомо было, да никак не лгу, ниже притворяяся говорю: в темнице мне, яко во гробу сидящу, что надобна! Разве смерть! Ей тако». Такой стиль сохраняется на всем протяжении второй части челобитной.
--В отличие от первой части Аввакум здесь обращается к царю только от своего собственного имени; он как бы находится наедине с царем, и диалог их - интимный диалог: «Царь государь Алексей Михайлович, любим бо еси мне, исповемся тебе всем сердцем моим и повем ти вся чюдеса Господня». Нет и следа того всеобщего пустозерского представительства узников, которое имело место в первой части. Речь идет конкретно об Аввакуме и ни о ком больше, о его личных отношениях с царем: «Якоже присылал ко мне Юрья Лутохина, и рекл он Юрье усты твоими мне на Угреше: разсудит-де, протопоп, меня с тобою праведный судия Христос. И я на том же положил: буди тако по воле твоей. Коли тебе, государь, тако годе, ино и мне тако любо: ты царствуй многа лета, и я мучуся многа лета».
Отношения с царем при этом выражены здесь в иной тональности, нежели в первой части. Уверения Аввакума в любви его к Алексею Михайловичу противоречат духу первой части, где о царе говорится только резко и обличительно.
Зато позиция первой части вполне соответствует абсолютно непримиримому отношению диакона Феодора к царю, о чем мы знаем из того же письма его к семье Аввакума: только дьякон Феодор решался в это время назвать царя «рогом Антихристовым»; из этого письма Феодора также видно, что он меньше всего надеялся на милость царя и способность его право рассудить пустозерцев, что и выражено в первой части челобитной.
И стиль, и авторская позиция обеих частей Пятой челобитной разнятся между собой. Сам по себе этот факт ничего бы не значил, - так как возможен сознательный перебив стилистических приемов и сопоставление разных позиций у одного автора, - если бы не существовало сообщения дьякона Феодора о его участии в написании челобитной. Стилистическая и «идеологическая» граница при этом проходят именно там, где указал Феодор. Это обстоятельство заставляет смотреть на различие характеров двух частей как на подтверждение принадлежности этого сочинения перу двух авторов.
Принцип совместной работы был принят среди пустозерских узников. Незадолго до Пятой челобитной, а, быть может, одновременно с ней, были написаны два произведения дьякона Феодора: «Ответ Иоанну» и «Книга - Ответ православных». «Ответ Иоанну» примечателен тем, что подписан был и протопопом Аввакумом: «Сие протопоп Аввакум чел и сие разумел истинно». О «Книге - Ответ православных» известно, что она была составлена по поручению всей «горькой братии» и от общего их имени рассылалась «за руками» Аввакума, Лазаря, Феодора и Епифания. Об этом произведении протопоп Аввакум писал в своем Житии: «Еще же от меня и от братьи дьяконово снискание послано в Москву, правоверным гостинца -книга "Ответ православных" и обличения на отступническую блудню». И.М. Кудрявцев отмечал значительное количество использования и цитирования одних и тех же текстов в «Ответе» и в сочинениях Аввакума и считал несомненным участие Аввакума в составлении «Книги - Ответ православных»25. Все это еще раз подтверждает мнение о том, что сотрудничество авторов было среди пустозерских писателей распространенным приемом и ставит Пятую челобитную в ряд коллективных сочинений.
Надо ли говорить, что сочинение дьякона Феодора, будучи включенным в произведение, под которым подписался протопоп Аввакум, может служить в известной степени и для характеристики взглядов самого Аввакума. Раз протопоп пускал в мир Челобитную от своего имени, значит он разделял все выраженные в ней мысли.
Наша атрибуция, однако, позволяет по-новому взглянуть на роль другого старообрядческого писателя пустозерского круга. Прекрасная в своей дерзости фраза: «Господин есть над всеми царь, раб же со всеми есть Божий» - принадлежит дьякону Феодору; и если ею иллюстрировали взгляды протопопа Аввакума то, тем паче следует ее иметь в виду при характеристике взглядов самого дьякона Феодора.
Таким образом мы расширяем рамки творчества дьякона Феодора I включаем в него вошедшую в Пятую челобитную филиппику, обращенную к царю, которую по выразительности и силе публицистического вдохновения следует расценивать как одно из лучших сочинений дьякона.
Анализ целого ряда древнерусских духовных завещаний позволил нам взглянуть на Житие протопопа Аввакума как на произведение, в основе генезиса которого лежит жанр духовного завещания. Об этом говорит и наличие в Житии вступительного исповедания веры, обязательного для духовных завещаний, и роль духовного отца Епифания в «понуждении» и «благословении» на писание, что также характерно для завещаний.
25 Кудрявцев И.М. Сборник XVII в. с подписями протопопа Аввакума и других пустозерских узников // Записки отдела рукописей. 1972. Вып. 33. С. 173.
Духовные завещания благодаря своим исходным исповедальным принципам таят в себе возможности автобиографического жанра. В зависимости от индивидуальных особенностей авторов эти возможности раскрывались с большей или меньшей полнотой.
На примере ряда текстов можно видеть, как духовные завещания подготавливали рождение нового жанра литературы - жанра автобиографического повествования.
В 1669 г. в предчувствии близкой смерти, перед лицом духовного отца старца Епифания, Аввакум начал писать свое духовное завещание. Но смерть тогда не пришла к нему. Не умер он и в апреле 1670 г., когда смертных казней особенно опасались в связи с появлением в Пустозерске стрелецкого полуголовы Елагина, приехавшего сюда после свежих смертных казней на Мезени. «Казнь» 1670 г. в Пустозерске оказалась не смертной. Предстояло еще жить целых 12 лет до огненного сруба 1682 года. Но свое
-Житие Аввакум закончил казнью 1670 г. И потом, когда в 1672-1675 гг. он не раз переписывал его своею рукою, он уже не продолжал его хронологически. Зато в начатом писании все заслонило разросшееся автобиографическое повествование, ориентированное на житийный подтекст. Родился особый, неповторимый памятник русской литературы, творческая история которого после 1669-1670 гг. отодвинула на задний план его происхождение из духовного завещания.
Говоря о Житии протопопа Аввакума, мы часто уподобляли его исповеди26. Оказывается, такое уподобление имеет не только метафорический, но и реальный смысл.
Кроме названных памятников ранней старообрядческой литературы нам довелось ввести в научный оборот такие произведения как Хождение старца Леонтия (Иоанна Лукьянова), показав на конкретном сопоставительном анализе теснейшую связь писательских приемов Леонтия с той школой, которую представлял Аввакум (многое здесь диктовалось не только сходством литературных принципов, но и сходством стиля как поведения).
Обнаруженные в фондах РГАДА новые материалы о сыновьях протопопа Аввакума позволили пролить свет на ту роль, которую играли письма протопопа Аввакума в московских «бунташных» событиях 1682 г. и увязать эту роль с причиной его казни.
Целый ряд наших статей посвящен становлению выговской литературной школы первой половины XVIII в., старообрядческой литературной школы, ориентировавшейся в своих эстетических принципах как бы на весь срез семивековой литературной культуры Древней Руси.
16 См. Робинсон А.Н. Исповедь-проповедь (о художественности «Жития» Аввакума) // Историко-филологические исследования / Сборник статей к 75-летию акад. Н.И. Конрада. М., 1967. С. 358-370.