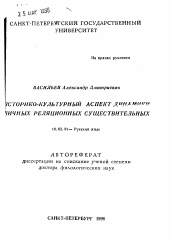автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.01
диссертация на тему: Историко-культурный аспект динамики личных реляционных существительных
Полный текст автореферата диссертации по теме "Историко-культурный аспект динамики личных реляционных существительных"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
На нравах рукописи
ВАСИЛЬЕВ Александр Дмитриевич
1С ТОРИКО-КУЛЬ ТУРНЫЙ АСПЕКТ Д ЧНА МИ "И 1ИЧНЫХ РЕЛЯЦИОННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
10. 02. 01— Русский язык
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1996
Работа выполнена в Красноярском государственном педагогическом университете.
Официальные оппоненты: доктор филологических наук,
профессор К.П.Смолина; доктор филологических наук, профессор В.Ю.Франчук; доктор филологических наук, профессор О.А.Черепанова
Ведущее научное учреждение - Институт русского языка
Российской Академии наук.
Защита состоится _1996 года
в__часов на заседании диссертационного совета
Д.063.5?.13 по защите диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук в Санкт-Петербургском университете по адресу: 199164, Санкт-Петербург, Университетская наб., д.И, филологический факультет СПбГУ.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. Д.М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета.
Автореферат разослан иса^ч^}_1996 года.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат филологических наук,
доцент С.А.Аверин
2кзамика слога ькракается в его сгмантдагескчх и еталистяпеских юикзх, в слсяяэ Егаимосвягангых я 5закмно обусловленных р^алк-1зх исзкэтагжшх потенциг:, Они обнаруживается б фактах п<?реос-гения слова и иемененкя частотности его употребления, рзгпрост-"гзлхся в соответствии с потрейностдми этнссоциума и гктагяо зтзующяс в перс-кецеккях элементов л-Э!'к:ико-с?»га!ггичесотй систем, этсм происходит допоагаитегькак дйффзрешвшккя картины мира в ке, ууалшзк'ся от первоначального синкретигма и голучасдем но-■ средства воздействия па кыел: и поступки его коситзлей, влияя ! самим яа формирование (и трансформации) зтноссциояулътурних и стереотипов.
Аксиайогкческае координаты общественного й индивидуального соэ-г.гл, эткослецг.фжа :.с:ровсзэренкя и мировосприятия всчксдтятся в ела, йгшазиеся еурзу-евиякв срхетипических' концептов, по пастся-д-ре-мя включительно спредад&тйях поведение представителей этпо-Справданко понлмалжз концепта и как ссновополеггтз^ей идеи» и г. слова, претвсря.-сдего эзу ндеэ з действительность, .причем "г.?ду «цепто:.:-идеей и концептом-словом постоянно щ»вксэдгт>'слг?к9 к-умо£*йствка: поиск здпззшям и нгыксг« некоего баланса, есккяго и:с-о полного и точного соответствия кмеди и слова - потек, ста?у-перс>'?:-'?:\«и в общественно-полкигеесгсо"! "когдажческой тз®-! народа, - - но и стгмулнруггций эти перевели '-герез изкепехк* взгдп-оз лосигэдсй язг.чса. ' Так-гм образом з дине ас® ¿ексдаа проявляются гстгугаккв в епп'сгс? соСсгдс-нво /заг»вс7;г-к-скяз и тех нагмззг.'.гго кстрат-глггп-сти'геск'ло Фактору (впрочем, зачастую Еяедрягпзтеся б ознанле посредством речевол деятельности - татае с помогаю яэкка).
Если главной оппозицией прзелавянпаэй стлътуш выступает 'свсй"/"не свой" (в иных 7рактог:сач - "свои"-"чуг.;!с"),
з ее кздоеш« слово;,; - *буоЗь 'сбой', то яачонсмеркнй интерес ад&ы-затот семантические очертания обхшез "своего" в его г.лрйахькых воплощениях на протяжения длительного пнсьмешюго периода летерл;: РУССКОГО языка: как Н0КИЙ ИНДИЕЭДУУМ СТСЯОВИТСЯ "СЕСКМ" для того клк иного сообщества; чем определяется переход от "чулзгх" ''оронч?" (при этом соответствугадае номинзц'.ш лица меяво рассматривать г качестве маркеров, слу.тацих для пдент;;*ккац;'п1 я егкойдентк^икаляя именуемого, вступата;эго/ин1ил«фуемого в кагг/я-.теоо общность). 3 этом сшсле представляется веська информативной дкнажка лтакнх реляционных существительных симметричного (сторонник к др.) и кее:гл-метричного (учитель - учевкк и др.) типов.
Безусловно точное вычленение сем, особенно - прктапггелъпо
даски--; периодам «торта ша, КЕЗЭТСИ ДОВСКЬЕО прсдлемапж^ йааьшзсхдо случазь; псзтоту особую значимость приобретает а:.: кзатехетов, содерлздх рассматриваема лексе,у,ы. Хронологически I аедойательнвЕ дегакстрэдпя бытования; слова в различных его сеиа: ко-стилисткческхх ьпостаскх является плодотворным приел
позео.'£Яюец2.1 достаточно наглядно наблюдать динаулагу слова. Вач симптомов и атрибутом его семантической стабильности выступает гулярность сочетаний со сдоваз!, коннотации которых поддается к лификации; иарувеная же этой регулярности обычно свидетельству«: динамических сдвигах семантики.
Отечественная донсикогргфиа располагает цлролкм диапазоном завершенных, а токае продолжающихся издании, в своей совокупно охватывасцих многовековую истории русской лексики.С учетсы то что богатые материалы словарных картотек кэ могут бить включен:.; состаз соответствующих словарей во всем объемг, необходимо щиш. кать для исследовании и те их данные, которые остаются за рам"., публикаций. Валкость ш максимального использования оэ'ьясняе также тем, '¡то цели и задачи исторической лексикологии смлгеттс: переплетается с целями и задачами истерической стилистики. Опера розможно более репрезентативный цитатный материал способствует < пустимо исчерйкващ^й подробности показа коннотаций., определяв:, лишь б обсеку ль турном контексте и активно участвую'дих в судьбе сз га.
Считаем использование, широкого круга лексикографических истс никоз эффективным способом одновременно реконструкции и де.монстр цик динамики слова. Естественно, что е зависимости от точки зрен исследователя воаможии различные интерпретации содержания слов", (его словник, дефиниций, системы помет, ' подбора иллюстраций т.д.). Однако в целях соблюдения научной объективности нсобходи постоянно учитывать, что лингвистический словарь является не толь документом, но и продуктом эпохи его соядааия, поэтому следует пр икмать со внимание реалии времени и обстоятельства составления ел* варл. Это позволяет лучае видеть экспликации идеологических мод> лей. актуальные дли периода подготовки и оформления лексикограф чеамго предприятия.
Основываясь на имеющихся словарных дефинициях и предвзрительт наблюдениях,' выделяем лексико-семантические группы (парадигм;^ подразделяемые, в сбоя очередь, на подгруппы: 1.а) 'член какой-лпе сасности*; б) 'активный помощник'; в) 'покровительотвуклщй коку-л; Сс чрп совершении предосудительных поступков'-, 2.а) 'учитель'-, с
ученик'.
Многие из входящих з них слов можно считать принадлежащими к иуметричпому реляционному типу (сторонник., торарищ, компаньон, со-аткик и т.п.), другие более тяготеют к несимметричному реляционно-у типу (учитель, воспитатель, прозелит, ученик и т.п.). Включение екоторых из анализируемых слов в сформулированные рубрики несколь-:о конвенционально и диктуется стремлением к посильной упорядочение™ изложения: известно, что парадигматические отношения в лекси-:е характеризуются не только многоступенчатостью, но и неоднолиней-гостью,' вытекающими из самой сущности слова; тек более это справедливо применительно к динамике на длительном временном отрезке.
В силу избранной методики анализируются преимущественно те сло-з-., которые представляют интерес для показа их динамики и документированы большинством источников. Очерчены судьбы 89 личных реляционных существительных, а также 210 однокоренных и 35 семантически подобных км слов и устойчивых сочетаний.
ЦЕЛЬ настоящей работы - реконструкция, демонстрация и анализ динамики ряда существительных русского языка, обозначающих участников межличностных отношений, в историко-культурном аспекте, что может способствовать лучшему пониманию некоторых зтносоциокультурннх норм и стереотипов.
Для достижения этой цели решаются конкретные ЗАДАЧИ: 1) установление начальных пределов и дальнейших изменений семантического поля каждого анализкрус-мого слова; 2) определение (с допустимо возможной степенью точности), момента изменений в значении того или иного слова; 3) обнаружение наиболее вероятных лингвистических и культурологических причин семантических трансформаций; 4) оценка роли коннотации в процессах переосмысления слов, их терминологизз-13;и или детерминологизации.
Наиболее целесообразными методами оказываются. сравнительно-исторический, описательный, сопоставительный, а также контекстный анализ; учитывается многообразные парадигматичесете, синтагматические, деривационные связи лексем.
ИСТСГ^КИКЛЬЯ исследования служат толкотне словари русского языка ХУШ-ХХ вв., этимологические я_/сторкчос1таз словари русского языка, • а также картотеки игдгтепя'мкх сегодня лингвистическая с"ояарей раз-13к жанров ; соотвлтсткукзлй цитатной мжгериая яредаягагяея в тексте рзгюти мгггсхиагы'о полно.
Шй'ЭКА Р.'ЛОТТ!: тгр?-не я практике исторической яеискиоикичгя р.тч'.'-'гчгие гуторя всецело сосредоточено на судьбах груш» л'аче-'У. ре-
ляционных существительных русского литературного языка' как воплощо нии многовековой динамики этносоцкокультурных норм. Обширный фаети ческкй материал позволяет хронологически последовательно реконстру кровать их эволюции, определяемые потребностями социума.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ проходила в форме докладов и сообщений по том диссертации на научных конференциях: Москва (1932), Ленинград Санкт-Петербург (1989, 1991, 1992, 1994), Вологда (1988), Риг (1990), Смоленск (1990), Ужгород (1991), Томск (1994), Новосибирс (1995), Красноярск (1988-1995). В течение ряда лет автор читаем спецкурс по русской исторической лексикологии в Красноярском государственном педагогическом университете и Красноярском государственном университете.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 'диссертации состоит в возможности использования ее материалов и выводов в дальнейших исследованиях г;с исторической лексикологии русского языка, в преподавании курсы современного русского язнка (лексикология), истории русского литературного языка, стилистики; в подготовке спецкурсов и спецсеминаров, в лексикографической работе.
СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, двух глав я заключения. Общий объем диссертации - 549 с. маиинониси, список лексикографических источников включает 4;Ч названия, библиография -385 названий.
.' СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ВВЕДЕНИЕ включает разделы: 3. История лексики в культурологическом аспекте. '¿. Проблемы семантизации слова (научная и общокуль-туркая значимость словарей; возможности лексикографического («ппа-ния; соотношение слова и контекста; объективность лексикографа). 3. Русская историческая лексикография (исторические словари русского языка; стилистическая характеристика слова в историческом словаре). 4. Русская историческая лексикология (цели дисцичлипн и специфика их достижения; возможности и пути воссоздания эволюции слова; тсл-дество -и динамика слова в истории языка; синхрония и диахрония, статика и динамита; коннотация-и внутренняя форма слова). 5. Лексика межличностных отношений в историческом освещении (слово и концепт; отражение в лексике социальной сущности человека; личные ре-ляциончые существительные).. 6. Цели, задачи, методы, источники исследования.
Основное содержание работы входит в соотал двух глав. Раздел;;,
- ? -
[освященные динамике отдельных слов (а также родственных или семан-'ически подобных; устойчивых сочетаний с описываемыми словами), ¡р&дстазлены в ферме очерков, сходных с лексикографическими описа-!иями (словарными статьями): соответствующий иллюстративно-цитатный •ятериая, документирующий особенности употребления слоз, подан со всей допустимой полнотой и сопровождается необходимой информацией собственно историко-культурного характера.
В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ рассматриваются три группы слов, объединенных следующими наиболее общими значениями: 'член какой-либо общности'; 'активный помощник'; 'тот, кто позволяет кому-либо совершать предосудительный поступок'.
1) Группа 'член какой-либо общности': сторонник, союзник, приверженец, за&линщкк, думец, единомышленник, единомысленник, соумышленник, общник, сообщник, участник, соучастник, причастник, сопричастник, согласник, сподвижник, соратник, поборник, споборник, клеврет, соклеврет, товарищ, сотоварищ, коллега, компаньон, партизан, партнер, сателлит, сектатор, сектант, фанатик.
Слово сторонник (стороник) в значении, близком (или тождественном) современному, было известно еще. в древнерусскую эпоху, однако широкое его использование, по-видимому, затруднялось гораздо более устойчивыми позициями значения 'паломник'. Лишь относительно поздно, с активизацией слова сторона - "партия, группа людей,объединенных общими взглядами и интересами', слово сторонник прочно входит в круг общеупотребительной лексики, причем, будучи лишенным каких-либо эмоционально-оценочных оттенков, становится, как свидетельствуют современные словари синонимов, доминантой соответствующего ряда. "Жизнеспособным" оказалось и слово приверженец, характеризующее лицо по высокой степени преданности, основывающейся, впрочем, далеко не всегда на каких-то рациональных началах. Уже к началу XIX в. устаревают и дума - 'группа единомышленников', и устойчивое сочетание быть в думе - 'состоять в заговоре': к этому времени и слово думец рассматривалось лексикографами как архаичное. Оно не указывало непосредственно на совместность.намерений и поступков, • семантика его была расплывчата. В отличие от него, такими качествами обладало слово единомышленник, как бы добравшее в себя - за счет более широ-• кого значения - близкое ему единомысленник, в чем немалую роль сыграло и сходство обоих в ионнотативном отношении. Вероятно, довольно поздно возникшее (во всяком случае, весьма малоупотребительное "в древне- и старорусский периоды) слово соумышленник по-прежнему сохраняет способность выражать отрицательную оценку обозначаемого км
- а -
.
лица.
Интересно отметить, что слова участник и соучастник впервые фиксируются лишь в текстах соответственно второй половины КУП века и первой четверти XVIII века. Гораздо более'распространенным было известное еще по многим ранним памятникам слово причастник - 'участник', в XVI-ХУЛ вв. использовавшееся и за пределами собственно религиозных произведений (но и тогда - в стилистически высоких контекстах), а в ХУШ в. проникшее и в деловую письменность. Однако его церковнославянский генезис и привычная сфера бытования, отмеченные и лексикографией того времени, а также активное употребление религиозно-терминологического причастник - 'тот, кто принимает причастие' - не позволили слову войти в общенародную лексику позднего периода. Эти же причины способствовали его архаизации, что отразилось и на судьбе слова сопричастник.
Слово согласник, которое приобрело в религиозно-политической полемике XVI-ХУП вв. отрицательно-оценочную коннотацию, закрепившуюся позже при обозначении лица, принадлежащего к секте, противостоящей официальной церкБИ, с утратой этим названием актуальности ушло в пассивный словарный запас и в значении 'единомышленник'. Слово сподвижник сохранило свою первоначальную способность выражать весьма позитивную эмоциональную оценку. Наличие экспрессии позволило прочно укорениться в языке и слову соратник, которое уже примерно к сер. Х1Хв. утратило з своем значении указание на поддержку именно в военных действиях, однако по-прежнему обладает высокой стилистической принадлежностью и положительной коннотацией (так же, как и слово сподвижник).
Судьба слова товарищ - яркий пример воздействия экстралингвистических факторов на эволюцию словарного состава; динамика слова клеврет свидетельствует о сложности и многообразии причин, лежащих в основе формирования экспрессивно-оценочных свойств лексики.
История рассматоиваемых слов, иногда многовековая, иногда (по известным источникам) относительно непродолжительная, иллюстрирует длительные поиски наилучшего именования. В ряде случаев конкуренция удалось выиграть тем словам, которые смогли полнее других 'выразить понятия участия, общности, единства. "Запас прочности", в свою очередь, оказался меньшим у слов, ье отвечавших этому критерию. Не случайно слово сторонник, как бы всплывшее из глубин безвестности (или, точнее» может быть, "расконсервированное", вызванное из^ениз-симися общественными отношениями активному употреблении), и окапаюсь - ка сегодняшний день - в доминирующем положении: именно огга
наиболее явно и наглядно, в с— первых, объединяет называемых по достаточно простому признаку - по принадлежности к некоей, одной из тдокденых лопкпий (сторон), не требуя ни логической, ни мистической ее аргументации и отражая простейшую поляризацию в отношении да/нет, за/против и т.п.; во-вторых, оно универсально в силу своей оценочной и стилевой нейтральности, а потому может применяться весьма широко; е-третьих, очень удачно вписывается в качестве компонента противопоставления (сторонник/противник; ср. свой/чужой : 'находящийся на своей стороне'/ 'находящийся на чужой, т.е. протизт ной, противостоящей стороне'). Уже издавна сблютземые в высеей степени положительной коннотацией слова сподвижник (первоначально -'совместно с кем-либо творящий подвиг духовный') и соратник (на раннем этапе - 'вместе с кем-либо совершающий подвиг воинский') взанмоуподобляли референты на основе идеи совместного преодоления врага (в разных его образах) в трудной и упорной, требующей максимального напряжения всех сил борьбе, принимающей в зависимости от обстоятельств разные конкретные формы, но всегда героической, служащей торжеству традиционных отечественных идеалов. С этой точки зрения слово приверженец как обозначение лица, не вполне или даже совсем не осознающего причины своих симпатий к кому- или чему-либо, не оказалось равноценным: внутренняя форма его манифестирует скорее неосмысленный и мгновенный порыв, нежели постоянную или долговременную и обдуманную склонность. С другой стороны, и излишний рационализм личности в предпочтении ею какой-либо позиции оказывается ке вполне безвредным для социума (по крайней мере, в его глазах): свидетельством служит динамика слова думец, вряд ли случайно часто соседствовавшего в одних и тех же контекстах со словом единомыслен-нкк, и динамика последнего (как и елиномыиленник); вероятно, здесь же следует искать истоки современной коннотации слова соумышленник. Так и сохранившийся в течение долгого времени синкретизм слова общ-ник сделал з конце концов затруднительным его использование, поскольку самого представления об общности с кем-либо стало недостаточно для оставления статуса личности в ее отнесениях с другими. Поэтому семантически более четко очерченное сообщник приобрело сохраняющуюся и поныне актуальность.
Относительно позднее вхождение в русскую лексику ряда занметго-р£-:'ий, семантически тюдобких некоторым искошад слогам рассг'лтрев-ной группы, объясняется, верочтно, тем, что а меняеткся ссциаль-го-полстичееккх и культурных условиях (большей, по сравнения? с кр«-днду:,!.'.г/и эг'яа'.'н, степенью открытости общества для кноасаякх вляя-
кий к его секуляризацией) язык получил и использовал новые еозмол. ности для называния привычных явлений, расцвечивал именование ком-нотацией (фанатик), обогащая терминологию (партизан), доггалкктелын градуируя признаки именуемого лица (коллега, компаньон, партнер). г некоторых случаях эти потенции - в разных сочетаниях и соотношениях - реализовались в пределах динамики одного слова, и при анализе четкое разграничение их затруднительно (сателлит, сектант и др.).
Смалывавшаяся на протяжении веков группа существительных со значением 'член какой-либо обе,ности' является сегодня довольно многочисленной, охватывающей разнообразие межличностных связей и вкоо-чающей в себя соответствующие номинации лица. Эти слова дь'ют носителям языка возможность рассматривать и оценивать членов социума, .исходя из определенных морально-этических установок, прич'-м диапазон выбора именования в кладем отдельном случае широк и позволяет выразить отношение говорящего не только (а иногда и не столько) к какой-то личности, . но, что взаимообусловлишо. к исповедуемой ей системе нравственных, политических и иных ценностей.
2) Группа 'активный помощник': сотрудник, сосдужебник. соелтаи-вец, содействоватьль, содействитель, содействуйте, седельник, пособник, пособщик, помощник, помогатель, геддатонь, поспешай*, приспешник, подручник, подручный, спомошник, споспе'пник, коллаборационист.
Слова пособник и пособник довольно долго были, по существу, дублерами. По источникам Х1-ХУи вв. нельзя судить определенно с том, что первое из них и.спользов"|лп<~ь преимущественно для поло.?.и -тельной или нейтральной оценки лица, а второе - для нейтральной или отрицательной. Однако в какой-то момент - это происходит уже в XIX в., - слово пособник, совпадая ь значении со оловом пособцик, ьнрн-лает негативную оценку, но при этом оно уже рассматривается как архаизм. Незавершенность этого слияния, чабля;даемач еш,е в г:.!;.Даля, как и колебания в оценке (пособник - 'помощник, ко при зтом н>-только в хорошем деле'; пособщж - 'помощник', но "Солее в дурном") , приводит в конечном счете к некоторой противоречивости а толковании сохраняющегося в активном употреблении слова. Ср. в БАС1 пособник - 'помощник*как устпр. и прояюрнч., но при этом 'иомодокк в дурном' - не маркировано; а в МЛСг показана, в сущности, незавершенность этого процесса, так как употребление пометь! неодобр, тт.! кросонпк - ' помощник ооычно в дурном' а ином случч- вряд ли И'.-сохо-еимо. Определенную роль сыграло, видимо, и использсвачке уооАмк в ко,, x .-рминологил и пол.
Слово сотрудник, служившее для называния помощника пре.тде Есего в делах богоугодных, при выходе за пределы круга кникно-славяксксй литературы оказывается пригодным в широком, стилистически не маркированном употреблении. Зто позволяет слову не только обрести многозначность, но также выступать в качестве официального термина, в том числе и в составе устойчивых словосочетаний.
Совсем иначе произошло со словом приспешник, известным сначала в качестве термина, но постепенно переосмысленным и уже в ХУШ в. употребляе^гм для обозначения оценки липа. Термин, гспользовалиийся в текстах светского содержания (более того - в сниженно-бытовых контекстах), однако, заключал в своем значении весьма благоприятный потенциал для последующего отрыва от денотата' и для расширенного употребления. Это приводит к тому, что, отмечаемое современными словарями в первоначальном номинативно;.! значении как устарелое, слово приспешник как эмоционально-оценочное не представляется архаизмом: его отрицательной "оценочный заряд" помогает осознавать слово как зполие современное. .
Слова содействователь, содеистзатель, ссдейственник, содельчик, к настоящему времени выведшие из употребления, принадлежали, прежде всего, книжно-славяксксй письменности (что впоследствии отразилось в стилистической помете' церк.); при этом их незначительная способность перелагать эмоциональную оценку с течением времени еще уменьшалась, с ослаблением влияния конфессиональной литературы снижалась частотность их употреблении, а в связи с недостаточности) коннота-тивного элемента они -не смогли выйти за традиционные жачрово-стиле-вь'е рамки. Впоследствии эти слова были оттеснены словом сотрудник, которое могло выражать нужное значение более строго (именно 'тот, кто оказывает помощь в труде, определенном виде деятельности', а не 'в работе, деятельности вообще'), что и необходимо было для слова, способного выступать в рели термина.
Слова сослухебник и ссслужитвль, принадлежавшие в течение долгого времени в основном корпоративному церковному этикету, в дальнейшем - при переоценке общественным сознанием значимости традиционной религии - стали малоактуальны; в своя очередь, однокореннсе слово сослуживец прочно укрепилось в русской лексике, будучи именованием лица, состоящего с кем-либо на одной и той же светской слул-бе. _ '
Некоторая двойственность стилистической окрашенности слова по^ могатель, довольно рано перешедшего в нейтрально-бытовые и деловые контексты светских произведений, в сочетании с отсутствием змецпо-
н&яьной оценки помешала ему найти свое место в лексико-семантичес кой системе современного языка и выдерл'-ать конкуренцию со слово; помощник.
Слово поддатень, не имевшее в старорусский период в своем значении прагматического компонента, занюхало достаточно прочные позиции в текстах деловой письменности и как термин использовалось I течение некоторого времени, однако довольно рано оказалось в разряде историзмов: семантика его стала специализированной, а вследствие постоянной сочетаемости с ограниченным кругом устаревших наименований должностных лиц и само оно вышло из употребления. Сыграло роль и сн^ение частотности глагола поддати - 'придать в помогдь', к то, ■¿-'■о в значении поддатень главенствующим было указание на несамостоятельность, подчиненность обозначаемого им лица. Возможно здесь и влияние паронимичного подданный, вероятно, более актуального и распространявшегося в это время в широком употреблении (.с этими факторами связана и судьба слова поддатчик).
Слово поспешник, употреблявшееся в основном в стилистически приподнятых контекстах и бывшее (по современным критериям) высоким, в дальнейшем вкмлс из употребления. По-вчдимому, здесь действовали те же процессы, которые в свое время позволяли "ложно этимологизировать" (ремотивировать) слово поборник.; в данном случае, вероятно, решающим оказалось то обстоятельство, что в больней мере распространенными стали слова поспешить, поспевать - 'поторопиться, поторапливаться'. Следует учесть также возможное воздействие семанти-ко-стилистического ореола отрицательно-оценочного слова приспешник, затрудняввее правильное восприятие паронимичного поснешник. Кр!0ме того, сыграла своп роль и неопределенность эмоциональной оценки слова поспешник, что, по-видимому, снижало частотность его употреблена.
Основными же кочкурентами в этой группе оказались слова пособник и помощник. Ооа они не рбладяли.прагматическим компонентом и своих значениях, оба в XI-XVII вв. употреблялись без заметного ограничения жанром или стилем памятника; но различались существенно в стилистическом отношение и контексты, в которых отмечены эта слова: их сочетаемость была обширной и в бодьяинстве случаев характер ее был неизменен. На протяхении длительного рремеки они могли, не расходясь )' в оц<?нке обозначаемого лица, восприниматься, кж абсолютные СИКОТО^Н. Одно ИЗ ВСЗМСЛНмУ объяснений т^го, что слово ПОСПОНИК природе зар!.'м устойчнвуп отркц'.гельну*! коннотацию, связано с его тгилхктяей, что. как межао предположить, сыграю какую-то роль в
утверждении слова в качеств0 юридического ^епмина. Кроме Т'Ог'г. в ое^етзино XIX ъ. слово г.особник в лексикографии сопровождается пометами, только ^.'к^-ь'^аюнуми п^еимуш^^^венную сгг,ору е^о у^от^^Ь-ленир, ко и на ого*-д€'Леннчгю арх^-ичнос^ь р эмо'ч'очально-оиеночкс4' значении. Б сво?з очередь, выбор слова е качестве термина для именования лззиз, занимающегося противозаконными действиями, привел к ак-тивизанки его использования, так что значение 'помощник в дурном, неблаговидном деле' окончательно перестает (вплоть до нагих дней) восприниматься как устарелое, именно в силу ярко и отчетливо выраженной отрицательной оценки.
Переосмысление внутренней формы, вызванное изменениями в государственной терминологии феодального общества) послужило причиной семантических изменений слов подручник и подручный. Главенствующим в их значениях (особенно слова подручный) становится негативно-оценочный элемент.
Положение лица, идентифицируемого как коллаборационист, является двусмысленным: оно, отвергнув прежние установки, . продолжающие оставаться принципиально важными (сакральными) для его нбконного сообщества, не превращается все же в ."своего" для иного сообщества, имеющего собственные ценности - но и собственных "посвященных", т.е. изначально приверженных данной системе и не сгонных к "посвящении" быЕщнх "чужих". Такие слова, как способник, спомощнкк, спос-цр'лник, скорее всего, совершенно дублировали во всех отношениях соответствующие существительные без приставки съ- (с-, со-), и так уже указывавшие ка совместность действия и, как следствие, сказа-ли.сь второстепенными и изоыточ£!ШИ элементам'.", лексической система.
Динамика рассмотренных в разделе слов свидетельствует презде всего о высокой значимости референта в системе традиционных русских социокультурных норм: последовательное предпочтение (или отбрасывание) тех или иных номинаций лица, оказывающего кому-либо активное содействие, отражает попытки дифференцировать возможные оттеши от-нощения к нему в общественном^ сознании, определяемые во многом и родом деятельности денотата. Принимая во внимание позднее появление - по сравнению со словом помощник - слева пособник к еще более позднее переосмысление слов приснеиник, подручный как обозначение содействующего кому-либо в чем-то предосудительном с точки зрения общественной нравственности, можно сказать: первоначальная потребность носителей языка в номинациях подобных личностей была, по-ьй-димску, невелика. Довольно долгое время слово помощник являлось сшкретично-всеохватьша'ощим именованием; затем стала развиваться
специализация.
3) Группа 'тот, ¡сто позволяет кому-либо совершать предосудительный поступок': поноровник, поноровщик, попуститель, такалыпик, потаковиик, потаковник, потакатель, потакальщик, потакало, потатчик, потворник, потворщик.
Лексические значения большинства из этих слов- (во всяксм случае, тех, бытование которых можно проследить по известны?.', данным), не претерпевали сколько-нибудь заметных изменений.
На судьбу слов поноровник и ггонороещик повлияли в основном кон-нотативные факторы. Наряду с другими словами с поносов-, они относительно поздно обнаруживаются в текстах сомциально-деловьк документов, и хотя использовались в них довольно часто, всё же затем ушли в пассивный словарный запас, йрко выраженная пейоративное?;-., вероятно, затрудняла не только дальнейшее употребление этих слой г. нормированном литературном языке (что, наверное, се совсем точно выразилось в помете стар, к поноровник в СЛР1 и явилось косвенным проявлением отношения к словам с понорое- ках не вполне соответствующим уде сложившимся к этому времени стандартам словоупстребд«- | ния), но и, вместе с тем, не позволило им укрепиться, например, в' юридической терминологии.
Относительно недавняя фиксация слсаа попуститель в лексикографии, возможно, объясняется поздним возникновениям и малоупотребительностью слова. Глаголы попустити, попушати (хотя изменились со временем их с<$»ра употребления и стилистическая окрашенность) характером своей привычной сочетаемости ориентировали на "высоким уровень" изобр?даемых событий и лиц, причастных к ним. Особенно сильным было,'несомненно, влияние устойчивых словосочетаний, иироко распространенных в древне- и старорусских памятниках, - божш1м_пп^ лущением, по. бежим попущению, связывавших возможность осуществления действий с позициеи высших сип. Прозрачно ощущавшаяся ориинтацил слова попуститель на высокую нормативность облегчала ему вхождение в юридическую терминологию, а это обстоятельство, в свою очередь, способствовало его включению в лексику активного употребления.
С течением времени глагол такать в аначечги "Еоа-гверядать' утрачивает негативно-оценочный оттенок, станаялсь з этом отношении нейтральным. ' По-видимому, это происходит у с супестви1Г';-льнь.м та-кальок. Однако это слово, малоизвестное по памятникам пксьмониос-гн, вероятно, из-за тего, что бктезает в устно-разговорнон речи (о чем говорят И пометы современных словарей), с утратой сссссоности
выражать оценку становится слабоконкурентным в ряду слов с подобными значениями. Сложившаяся и устоявшаяся функционально-стилевая принадлежность не позволила слову такальг.ик преодолеть границы привычного круга использования.
Сильные внутригнездовые связи слов с потак-, многие из которых имели длительную традицию употребления в памятниках письменности, помогли укрепиться в языке слогу потаковщик, несмотря на неоднозначно е влияние народно-разговорной речи.
В лексику активного запаса также вошло слово потворщик, что явилось следствием разнообразных с.емантико-стилистических процессов, среди которых важное место принадлежит смонимизации.
Именования лица, покровительствующего кому-либо при совершении предосудительных в главах общества поступков, известны нам, как правило, по довольно поздним фиксациям - возможно, потому, что первоначально бытовали преимущественно в устном употреблении, а может быть, и потому, что-, являясь весьма негативными номинациями лица, были табуированы (например, чтобы предотвратить распространение, нежелательных явлений).
Можно предполагать, что необходимость введения подобных номинаций в тексты стала осознаваться - или восприниматься беспрепятственно - лишь на определенном этапе истерии общества; известные ранее слова заступник, зазлтнкк, покровитель, по дачным лексикографии, не имели отрицательно-оценочного оттенка, Еыступач как обозначения равного или выстего, но при этом преследующего прежде всего какие-то одобряемые общественной моралью цели. Таким образом, появление рассмотренных' слов стало отражением эволюции социокультурных норм, более четкого отграничения в языке названий нежелательных явлений и лиц, последовательного противопоставления их оцениваемым положительно или воспринимаемым безразлично.
ВЫВОДЫ. Для ряда слов, включенных в лексико-семантическую парадигму 'член какой-либо общности', концептуально определяющими оказываются представления о связи (союзник), сходстве,- близости или подобии образа мыслей (думец, единомышленник, соу?мгленник), созвучии, гармонии (согласник), совместной борьбе (соратник, поборник) и продвижении к общей высокой цели (сподвижник; ср. также далее: наставник, предтеча и о др. словах, принадлежащих полю концепта 'путь'), о части, приобщенности к тайне и таинству (участник, соучастник, нричастник, сопричастник), общности и единстве (обжкк, сообщник, ззединщик), одной из возможных позиций - сторон (стсосн^.
ник); аналогичны - при историко-этимологическом анализе - и заимствованные слова этой группы (партнер, партизан, сектатор, сектант и ДР-).
Слова группы 'активный помощник' также концептуально прозрачны и порождены понятиями о совместном труде, разделении обязанностей и степени участия в общей работе.
Наименее дифференцированны,с точки зрения развития первоначальных смыслов слова, объединяемые в лексико-семантическую парадигму 'тот, кто позволяет кому-либо совершать предосудительные поступки'. Эти слова также обладают довольно ясными внутренними формами, ориентирующими носителей языка на внимание к возможному нарушению морально-этических норм.
Не случайно присутствие многих слов из числа рассмотренных в церкоЕно-славянских текстах, так же, как и связь этих лексем - прямая или опосредованная - с областью религии (причастник, согласник, сподвижник, Фанатик и др.): очевидно подтверждается высокая значимость соответствующих референтов в сознании этноса, их сакрализо-ванный характер.
Довольно сложно определить, какими были Рсдо-Еидовые отношения между представленными в главе словами. Это объясняется прежде Есего трудностями вычленения гиперонимов и гипонимов на протяжении весьма длительного периода письменной истории языка, непростыми взаимосвязями рассмотренных лексем, в том числе (и довольно часто) в пределах одного контекста. Бее же можно попытаться наметить некоторые общие тенденции.
Так, к самым ранним слонам первой группы, по известным нам данным, принадлежат: общник, м^иник, причастник, сподвижник, клеврет (с XI в.); далее - едкномысленник, сопричастник, согласник ,' спо-борник (с ХП в.); товарищ, (с конца XIV в.); думец (с XV в.); единомышленник (с середины XVI в.); участник (XVII в.); заединщик, союзник (с конца ХУЛ в.); приверженец, соумышленник, соучастник, сотоварищ, коллега, компаньон, партизан, фанатик (в течение ХУ!П в.); сторонник (как бы вновь обретенное после древнерусского периода в первой трети XIX в.), соратник, партнер, сателлит (переосмысленное в первой половине XIX в.), сектатор, сектант (XIX' в.).
В соответствии с письменными фиксациями, слова второй группы хронологически выстраиваются в такую последовательность: ' помощник, поспешна:, сослух^Зник (XI в.).; содельник (XII в.); сотрудник, подручник {.с ХП в.); пособник, соделствитель, спомощник, подручный (с XIV в.); сослуугель (с XV в.); содействекник, помогатель, посои-
ж, поддатень, приспешник, способник, споспёашик (XVI в.); содейс-зсватель, сослуживец (первая половина XIX з.)-, коллаборатор (зто-»я половина XIX в.); коллаборационист (вторая половина XX в.).
Слова третьей группы могут быть расположены в следующем поряд-5: потаковник (с XIV в.); поноровник (в летописи под концом XV .); потаковщик (XVII в.); поноровзмк (с конца Х'/П в.); такалытак :ередина ХУШ в.); потворник (в интересующем нас значении - конец УШ в.); потатчик (ХУШ в.); потворщик (к началу XIX в.); попусти-ель (первая половина XIX в.}.
Говорить о строгой точности наиболее ранних фиксаций слова по анным лексикографии возможно лишь с допустимой степенью вероятнос-и; кроме того, активизация'употребления той или иной лексемы дале-:э не всегда обусловливала переход синонима в пассивный запас или олную его утрату, поскольку в цитируемых материалах довольно часты римеры равноправного сосуществования семантических аналогов. Во ?сяком случае, многовековая-история ряда слов, как и постоянное пополнение представленных в главе групп, свидетельствуют о неизменном тимаяии носителей языка к сфере межличностных отношений, ж раз-тичкым вариантам, а отсюда - и стремление к разнообразным интерпре-'ациям ролей людей в этих отношениях. Участник отношений является шенач этносоциума в разных обликах, определяемых его идентификаци-?й или самоидентификацией в параметрах, заданных системой цензост-шх градаций, координатами национатьной культуры, доминирующими ре-шгиозными - или политическими взглядами (впрочем, тоже своеобразно ;а1фальнкми, как наиболее ярко показывает это судьба слова това-жщ). Непостоянство коннотативннх свойств некоторых слов, амбива-юнтность оценки мыслей и поступков личности наглядно демонстрируется в сочетании рационального и эмоционального начал, выступающих ! сложных взаимодействиях и отражающих специфику формирования важ-¡ейших групп морально-этической лексики русского языка.
ВО ВТОРОЙ ГЛЛВЕ прослеживаются судьбы слов, объединенных значе-1ИР.МИ 'учитель' и 'ученик': питатель, питаник, питомец, воспитатель , воспитанник, кормитель, кормилец, зскормптель, вскормленник, мкормок, выгормыщ, преднественник, предтеча, последователь. вос-¡едник, наставник, просветитель, начззатель. подражатель, пестун, юразователъ, учитель, ученик, адепт," неофит, гоог^ли?. эпигон.
Многочисленность слов с корнем пит- свидетельствует а его высотой продуктивности, актуальности понятий, обозначаемых дериватами, йвняя, судя по даччым ранних письменных памятников, интеграция
"конкретного" и "абстрактного" в семантике -ряда лексем корня пит определяемая архаическими стереотипами человеческого сознания, н сомненно, поддерживалась в течение долгого времени особенное?:-!.' словоупотребления е церковно-славянской книжности. По известным и точникам, существительные питатель и питаник, пвтомик, питомник о-мечаится в довольно ранних памятниках, где эти слова выступают пр-имущественно обозначениями участников процесса передачи знаний. 0; нако, несмотря на распространенность глагола воспитати, личные с\ ществителъдне воспитатель, воспитанник появляются лишь в текст; ХУШ в. (правда, памятники древнерусского периода содержат причаск иъзпитаньш, семантически охватиЕаее оба - согласно СлДРЯ XI-XIV в; - значения и ставшее как бы "мостиком", сеязующим звеном между гл; голом и именем, что особенно явно с учетом синкретизма категориат них ткг.ов значений древнерусского слова).
Словари конца ХУШ- начала XIX вв. квалифицируют слово питати некоторые одиокорешше образования в значениях преносных (т.е. условно говоря, "педагогических") обычно как славянизмы; при этом статьях, например, слов воспитатель, воспитанник отсутствуют укг ззния на их принадлежность к кругу сугубо конфессиональных понятм Позднейшие лексикографы указывают на активизацию употребления в X'-; столетии глагола воспитать - 2) 'вырастить ребенка в определенна жизненных условиях, обстановке, в определенных нравственных прав! лах'. Развивается атрибутивная сочетаемость существительного воет тание; некоторые авторы нач. XIX века указывают даже на возможное? "злоупотребления" им, очевидно исходя из аксиологических установи официально-господствующего мировоззрения. Начиная с САР1 и САР^ русская лексикография регистрирует личные существительные воспит; тель, воспитанник; появление последнего составители СлРЯ ХУШ : склонны связывать с влиянием французского языка, однако ссылка подобную параллель в статье слова воспитатель здесь отсутствует.
Толковые словари XIX в. еще сохраняют во многих случаях поме. переносное при значениях слов с корнем пит-, связанных со сфер обучения, образования детей и юношества, привития им определенш навыков поведения, соответствующего принятым в обществе нормам. П< казательны е этом смысле разграниченные В.И.Далем "высшее" и "ни: сее" значения глагола воспитать.
В соответствующих статьях словарей советской эпохи идеологиче' кие акценты расставлены весьма жестко к определенно, йто сказывае1 с/, в тем число, к е противопоставлении новых этических цекност (с г:о:.ащь:о помет дорелавщ. и устарев.), и в регистра:;
складывающегося словоупотребления (вреде воспитание а а с с - не отдельной личности], в появлении иных устойчивых словосочетаний (типа коммунистическое в о с и и т ан л е, т р у д о в о е. вое п и т а н л е, или - воспитан!! -л к и парт я и, п и т о ,м ц ы ко м с с м о л а и т.п.). Следует заметить, что былая связь таких слов с конфессиональной сферой, ранее ощущавшаяся через прозрачные ассоциация с другими лексемами гнезда, совершенно 'исчезла; точнее говоря, установившиеся социокультурные нормы, нсзая система ориентиров - идейно-политического, т.е. также своеобразно сакрального характера, пргазедалая на смену былой, воплотилась и в советской лексикографии.
В лстсрил группы слов с корнем косм- также отразились слясны? переплетения представлений о материальном и духовном. На протяжение длительного времени, в древне- и старорусский периоды эти еле в я выступали в памятниках ра:-:1.чх канр'в и стилей для обозначения действий и лиц, участвует« как в процессе передачи каких-то знаний, так и в процессе снижения кого-либо пищей физической. Тенденция к ссчетаемсстх глагола коемпть с именованием не вполне самостоятельного (дивоткьк, дети) или явно отрицательно оцениваемого з сбаест-веннсм сознании обтекта (ср. "кормить дьявола" - и "пнтати бога") реализовывачаеь но всегда последовательно - из-за возмслнссти синкретичного осмысления и употребления этих слов - и сбрела достаточно устойчивое воплощение. вероятно, в XVII з. Примерно в зто зе время ■тронов рпг.пространрш'з получи ?л нмековавия адресата и адресанта -кормилец и вскормленник, выражавшие характеристику феодальных отно-иений, сквозь которые просматрираится еще более архаичные ('старики' - 'млалкшг). 3 исторически непродолжительный период з официально- дедовых по преимуществу текстах происходит активизация з •функции отикетного обращения слова государь. При этом соотносимым именованием адресанта становятся слова холоп, еррота и т.п., под-»«ркивасщие униженность, " смирение челобитчика, противопоставленные высокому достоинству адресата; таким образом нарущаетса традиционное ваешоо единство пргатих коруильца а вскормленника. Вероятно, ал'« перемены з лексическом наполнении формуляров документов, при-надлежазашх популярным жанрам делегей письменности, до некоторой степени отразились и на использовании указанных слов з педагогкчес-кой терминологии (прстоторминслогля) средневековая. Слово кормилец гд.ссируется в рели обращения русской .лексикографией о конца ХУД в. , иногда - с разнымл определениями семантики, по постоянно - с пометами, срндетсльствулсдап о футсцяоаазько-стязозой енккеняоети (САР«
- so -
- ь прэсаюречии, CAP¿ - p низкое употреблении, ВАС* - прослореч.) \ одновременно - с5 архаичности (MACi, MAC» - прост., устар.), либо t территориальной ограниченности (СУ - oes.). Толкование же гначенк: слова обычно включает укаггние на мелиоргтквность оценки именуемоп лица ('благодетель, милостивец, покровитель, дС'р.одей; ласкатель ж;; привет старшему* - в Ся.Дйлй; 'ласковое обращение' и т.п.), чт; г.о-прежнему обнаруживает исконные патерналистские представления i совнашад многих носителей яьыка. С течением времени все более усиливались преимущественные ассоциации слов корня корм- с хкгогнэвоя-ческой сферой. Даже устойчивое словосочетание вскормить г вспоить (вскормить-вспоить), частое в произведениях устного народного творчества, в применении к человеку обозначало лииь низшую, сугубо физиологическую ступень семейного воспитания, несамодостат-очную для отграничения ранней стадии становления человека как социального существа от обихаживания домзынкх животных. Ранняя недифференцировая-ность употребления слог, с корм-, особенно префиксальных, постепенно сменяется преобладавшим их использованием .по отнсэенк» к представи-.телзм фауны (обычно одомашненным, зависящим от человека-хозяина).
Некоторые из рассмотренных существительных воплощают представления об участниках межличностных отношений как предшествующих и последующих друг другу в пределах пространственно-временного континуума, процессы в котором, включая и передачу/восприятие знаний, могут осмысляться в ферае векторно направленных ("жизненный путь" и под.).
Довольно поздними являются фиксации слов предшественник и последователь , что, вероятно, объясняется активкш использованием других слов группы 'учитель' - 'ученик', обладавши явно выраженной скнкретичностыо. Большую распространенность и хронологическую глубину слова предтеча в письменности следует связывать презде всего с влиянием евангельских текстов. В дальнейшем его функционально-стилевая принадлежность привела к снижению употребительности. Активизация же использования слов предшественник и последователь стала результатом их комилеыектарностк (что, очевидно, послужило причиной ухода слова воследник в пассивный словарный запас). Небезынтересно также, что слово предтеча сохранилось как обозначение лица, обладающего высеим авторитетом в определенной системе ценностей; .хотя уже - на позднейаем этапе - к ке в традиционной системе религиозно ориентированных ценностей, но в аксиологической иерархии, кме:ещей некоторые сходные с нею черты.
Известные нам лексикографические данные позволяют судить о происшедшей смене сочетаемости слова наставник: от "наставник на пути спасения" ("на путь вечный" и т.п.) -.к "наставник на трудовом пути". Несмотря на снижение употребительности в конфессиональном и педагогической сферах, слово вновь стало активно использоваться в период т.н. развитого социализма;- оно оказалось весьма подходящим именованием лица, выполняющего очень серьезную общественную функция; будучи освящено высшей государственной властью, слово на несколько лет стаю-ключевым в системе официальных ценностей, хотя и светских, но обладавших сакральным статусом.
Исключительная значимость света, несомого истинным православием, в сочетании с более древними верованиями определила мощный по-ложителъно-ксннотативный потенциал группы, включающей существительное просветитель я одноксреннке слова, сохраняющийся на протяжении долгого времени я осмысляющийся в соотнесенности с конкретными со-циальиьми условиями. Пограничность представлений о научных знаниях я таинствах религии впоследствии облегчила вхождение ряда слов в педагогическую терминологию. Трансформация жанрово-тематичес^сй принадлежности слова просветитель (наряду с родственны?.™), происшедшая в Х¥Ш в., возможно, не без влияния французского языка, протекала в русле секуляризации общества. Однако и в XIX в. русская лексикография отражает тесную связь между значениями слов просветить , просвещение, просветитель (описываемыми еще в первой трети столетия как метафорические), актуальными для разных сфер деятельности и лияъ позже устойчиво регистрируемыми в качестве прямых и основных; параллельно отмечаются результаты омоншизации. Еще более видимыми стата сдвиги в динамике слова просветитель, представленные в толковых словарях советской эпохи, где конфессионально ориентированное его значение если я приводится, то лишь как архаичное. Однако давний рел и г иолно-мистический ореол семантики слова не исчез, не ристзорился полностью и бесследно, но присутствует либо сттеяксм, указывающим на высокую социальную значимость именуемого лица, либо стимулом, порождающим ассоциации действий безусловных материалистов .(атеистов) с деяниями провозвестников и проповедников вероучений. Впрочем, это и неудивительно, если учитывать лслумистическсе восприятие т.н. массами новых идеологических систем. Можно сказать, что при изменении конкретно-смыслового наполнения исходная концепция просветителя как выразителя, носителя и передатчика некоей высшей истины, посредника между нею и множеством нзпосЕящешгых остается неколебимой.
С течением времени семантика слова какдзатель все оолое удаляется от сферы передачи знании и постепенно ассоциируется в ачтирно> употреблении либо с карательно-принудительным:; мерами, либо с некими руководящими указаниями. При этом традиционная область использования слова ь первоначальном значении сужапаеь. Можно предположить, что частотность употребления слова наказатель снизилась и ь результате омонимизаши производящего глагола, затруднившей понимание производного существительного только как 'наставник'. •
Довольно рало утратилось значение глагола подрачати - 'дразнить, насмехаться', ко значение 'следовать чьему-либо примеру' сохраняется на протяжений всей его истории. По крайней мере, до ХШ в. им обозначается следование сугубо положительным образцам, высоким идеалам поведения и образа мыслей, освященным авторитетом христианской религии. Ту ке ексоку» оценку именуемого лица несет подражатель . Тексты ХУП в. содержат примеры использования глагола подраха-ти в сочетаниях, отрицательно характеризующих поведение субъекта с точки зрения социальных нравственных ориентиров; так же меняется и сочетаемость существительного подражатель: оно начинает использоваться а как именование лица, следующего ложным религиозным взглядам. Позже, в ХУШ в., оценочность слов подражать и подражатель вытекает из их контекстуального окружения; примерно в это время происходит расширение ("снижение") канрово-стилевой сферы употребления рассматриваемых слов; кроме того, появляются случаи использования их применительно к воспитанию детей, а также к области художественного творчества. Хотя лексикография конца ХУШ - первой половины XIX п. не отмечает у слов подражать и подражатель четко выраженной коннотации, однако, по-видимому, их семантико-стилистические эволюции не прекращались и достаточно устойчивой становится их отрицательная оценочность в контекстах, • относящихся к литературе, искусству и т.п. - т.е. тем видам деятельности, где механическое копирование, тиражирование образцов (пусть и формально безукоризненное) признается ущероным и недостаточным для творческого самовыражения.
Первоначальная семантика глагола образовать - собственно 'изменить в определенном направлении внешний вид чего-либо' - сохранилась в течение многих столетий. Относительно поздно появляется существительное образование как обозначение процесса и/или результата обучения, приобретения знаний. Можно предположить, что существительное оОоазователь, возникшее, по некоторым косвенным свидетельствам, еще ь XVI в., стаю употребительным лиль в более позднее время, под влиянием распространившегося использования слов с образ-
л
- 23 -
.3 бывшем метафорическом, а затем - и прямом значении, тематически гфияаплежздэм сфере воспитания,. передачи знаний. Небезынтересно, что отмечаемое, например, Далем различие в семантике пэосвесстгь и образовать (т.к. последнее иногда обозначает лишь чисто внешнее действие, не затрагивающее глубинных нравственных основ ученика) и связанная с этим дифференциация социальных ролей лип, га/.енуемых соответственно образователь - воспитатель - учитель, в дальнейшем претерпевает иг-менения и в определенной степени нивелируется. Это становится особенно заметным по данным лексикографии советской з~о-хи, где зачастую ставится знак равенства между 'образованностью', 'просвещенностью*, 'культурностью'. Неразличение этих понятий отозвалось на судьбе слсиа образователь, позиции которого в лексико-се-мантаческой системе и ранее затруднительно было бы считать устойчивыми - именью из-за сугубо внешнего, не духовного характера 'образованности' . а равно л связанной с ¿тим расплывчатость» семантических очертаний денотата. Несмотря ча активизацию слов с ооозз- в области педагогической деятельности, существительное образо?гт?ль. даже по истечении длительного времени, не только не смогло стать одним из основных в этой тематической группе, но переело в разряд архаизмов.
Глагол учкти обладал, судя по наиболее ранним известным прше-рам употребления в памятниках письменности, весьма ярко выргстяниси синкретичностьк» ; он активно использовался для называния действий, связанных с процесса:.'!! передачи и усвоения апании разнообразного характера - от сакральных до сугубо житейских. В результате личность не просто получает необходимую иц,тор*гщк», но и входит в круг "поспяпенныч", оОьрдикясмцх зтим знчт«®и.
Динамика слова учитель в последние несколько десятилетий свидетельствует о перемещении его смыслового "центра тяжести"; харизматический статус обретает личность политического деятеля и руководителя; мякоатгуллъпой оказывается семантика слова, связанная с деятельность») религиозной - как вероучителя.. "Духовные приоритеты" становятся иными. Впрочс-м. этот поворот гряд ли можно считать неожиданным или исторически быстротечным; лексикография уже з XIX в. фиксировали егчнтомы тлких тенденций.
В семачтнко-стилистичоских эижпитех слова ученик межпо усмотреть определенный параллелизм с судьбой слоя.': '¿татоль. Оно пос.кчо-пательно протло ряд стадий: от порвона^лльисй семзшжо-отзлисти-ческсй яонич-дледпости сфере татфессяона^.рой п^'лтэлт:-гости, ч^-рез оовме'кп/е значений.' откосягжся и к рг.;?чгис;п:н, к светской об-
с
ластам - ко все большей рационализации (не исключающей, впрочем, > употребления слова ь высоких контекстах); в последние же десятилетия слово выступало еще к как обозначение последователя харизматической личности, не связанной с религиозным вероучением и канонизированной официальной пропагандой.
Первоначал-кое значение слова адепт, ' связанное с занятиями ая-химией, постепенно архаизировалось, но отрицательно-оценочная коннотация сохранялась дополню 'долго. В современных толковых словаря? она не получила отчетливого (например, посредством пометы юодобр,. и последовательного выражения, что может сиядетедьствовать об оценочной нейтральности слова; при атом его относят к числу стилистически окрашенных языковых средств, способных задавать тексту стилистически!! тон.
1'ри сложении значения слова ш^оФит, переставшего принадлежат! непосредственно религиозной сфере, оценка называемого им лица, проявляющего чрезмерное рвение в новой для него области деятелькоси во исполнение норм и требований нового учения (идеологии, систем политических и иных взглядов), предопределила его коннотацию, в неодинаковой степени проявляющуюся на разных этапах истории русское лексики.
Новой религией, которую принимает прозелит, 'далеко не обязательно является христианство , что, по-видимому, облегчило использование слова в сферах, непосредственно не связанных с конфессиональной деятельностью. Некоторую роль в сложении условий для иронической, "сниженной" в ряде случаев оценки называемого лица сыграю восприятие ревностности, пылкости прозелита как чрезмерной, а потому отрицательно сказывающейся на авторитете веры.
Распространение существительного эпигон было, вероятно, вызеьнс потребностью расширить круг наименований последователя за счет слова, одновременно указывающего на вторичность, отсутствие самобытности в образе мыслей и действий называемого - и служащего дл? осуждения этих качеств. Определенную роль в его закреплении в лексике сыграл авторитет источника.
ВЬЗОДЫ. По известным нам данным, слова представленной в глав* группы когут быть хронологичесга расположены в следующем порядке О учетом предположительных помнится перехода от первоначального синк-сетизка значений к "педагоплоски ориентированней" семантике ряд слов): учитель, ученик, кормитель, кормилец, косулчт, вегар-млен;
так, наставник, пестун, наказатель, подражатель, предтеча (с XI в.; ■с этому времени, вероятно, восходит и появление слова просвети-гель); воследник (ХП в.), питомник (с ХП-ХШ вв.); воспитатель, воспитанник, питомец (со .второй пол. ХУШ в.), адепт, неофит (с конца ХУШ в.), образователь (нач. XIX в.),■выкормщик, выкормленник, вы^ кормок (первач пол. XIX в.); прозелит (сер. XIX в.); эпигон (с конца XIX в.); выкормыш (с первой трети XX в.). Большинство слов этой группы имеет весьма длительную историю, отраженную в русских письменных памятниках, что свидетельствует о глубоких корнях отечественной культуры.
Важность процесса передачи и восприятия, знаний Еообще на протяжении длительного времени обусловливалась .слитностью обыденной- информации, необходимой для нормальной жизнедеятельности человека в рамках своего этносоцкума, - и собственно религиозных постулатов, столь же насущных, вне зависимости от их конкретных воплощений в разные периоды. Отсюда - закономерно высокая социальная значимость, одна из главных ролей в сохранении духовного здоровья этноса и приумножении его потенциала, исконные для лиц, производящих трансляцию знаний.
В сознании этноса постоянно сосуществовали метафорически осмысляемые сакральные концепты, которые обнаруживают себя и в рассмотренной группе слов: 'путь' (предшественник, последователь и др.), *едэ' (воспитатель, воспитанник и др.)'; 'свет' (просветитель и др.). Весьма показательно семантическое взаимопритяжение разноко-ренных элементов груигм, которое наблюдается во многих случаях их употребления в пределах одного контекста,, в совокупности с переплетением семантико-стилистических сзязей между словами одного корня образуя и утверждая многогранность социальных ролей 'учителя' и 'ученика*.
Постепенно (а на некоторых этапах - исторически быстротечно), судя по лексикографическим ' источникам, тускнела сакральная аура 'учителя', чему, вероятно (как ни парядожально, на первый взгляд), способствовало широкое распространение образования; более предсказуемым был эф£>ект его секуляризации. Это вело к росту числа "посвященных", при деиальвации некоторых тргдициоиных ценностей и переориентации ряда социокультурных норм. Привычный ореол фигуры 'учители' в какой-то мере нарушался при соотнесении вербальных выражений концептов с известными реалиями; аналогичным образом трансформируется статус 'ученика'. По-видимому, и явно зависимое положение рядового учителя контрастировало с первоначальным представлением' о
- ге -
высоком авторитете денотата, как и все большая стандартизация профессиональной деятельности, а с течением времени - и упразднение религиозного компонента в содержании образования. Не случайным оказывается окончательное закрепление в специальной терминологии слоь учитель и ученик. Внутренняя форма их, отторгнутых ст ассоциаций с конфессиональной сферой, манифестирует лишь строго очерченную функцию.
Знаменателен был на определенном этапе переход от обучения и просвещения к инструктивно утверждаемой "ковке кадров" ("воспитанию масс"), при чем обучаемые рассматриваются лишь как материал для дальнейшей обработки ("образования", формирования, т.е. придания нужной формы). Отношения, в которые вступаот денотаты, становятся все менее межличностными, сбалансированность их нарушается. Компенсирующим фактором выступает декларируемая глобальная роль 'учителя', равновеликого огромному множеству 'учеников': с изменением аксиологических координат, официальных идеологических установок ряд слов этой группы получает новое понятийное наполнение, обозначая, .например, политических вождей, высших носителей сакрализуемых учений и трансляторов иначе, чем прежде, осмысляемой духовности, и их последователей. Это становится одним из слагаемых квазирелигиозной системы мировоззрения, сугубо атеистической, но во многих иерархических параметрах сходной с собственно религиозной в ее каноническом виде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. К наиболее ценным свойствам слова принадлежит его способность сосредоточивать в себе разнообразную информацию об истории народа - носителя языка. Прошлое и настоящее сливаются в слове, как и в культуре, воедино, а поэтому иногда трудно различимы. Исторический подход позволяет проследить динамику отдельных слов, лексико-семантических, тематических групп - как отражение и компонент процессов национальной культуры; именно такой подход помогает ощутить глубину и многомерность слова, избегать его ахронического "уплощения" и упрощения.
Динамика слова — семантико-стидистические эволюции слова, запечатлевающиеся в его активизации или архаизации, в фактах его переосмысления, распространяющихся в зависимости от потребностей с социума и участвующих в перемещениях элементов лексико-семантической системы, в качестве таковых обычно регистрируемых лингвистическими словарями. Динамика - самая существенная категория истории лексики. Собственно термин история привычно ассоциируется прежде всего с бы-
шм, прошлым, давно прошедшим, что противоречит неотъемлемому ка-кзству словарного состава: безостановочному движению и (как « деле-ше на "срезы" либо на белее или менее механистически выделяемые 1ерисды) парадоксальным образом препятствует пониманию целостности исторического процесса, где вряд ли возможно с абсолютной четкостью разграничить прошлое и настоящее, сообщающиеся друг с другом, перетекающие одно в другое, - во всяком случае, когда речь идет о лексике живого языка.
■ Неразрывная связь, со-бытие языка и культуры весьма наглядно выражается в динамике слова. В практике ее воссоздания и демонстрации оказывается плодотворным привлечение лексикографических источников. Различные оценки степени информативности словарей во многом объясняются недостаточным вниманием к то»!у очевидному обстоятельству, что толковый словарь - не только документ, но и продукт своей эпохи. Иногда реконструкция динамики слова на основании лексикографических изданий может иметь- довольно фрагментарный характер; словарные картотеки предоставляют исследователю ценный матерная, помогающий более точно обрисовать и прокомментировать картину динамических изменений.
Семантика многих слов, описанных в исследовании, была прочно связана с религиозно-мистической деятельностью, однако с течением времени эти слова вышли за пределы конфессиональной сферы и столь же активно стали функционировать как именования людей, занятых в чисто светских областях. Такой переход (на первый взгляд - как будто бы от сакрального к прсфаннсму) может быть, по-видимому, объяснен происходившей переориентацией духовных ценностей эткоеоциума, в котором традиционная религии под воздействием различных факторов постепенно утрачивала свои главенствующие позиции. Высвобождавшиеся вследствие этого ниши общественного сознании заполнялись сведениями много свойства - политическими. По мере политизации общества такая информация и связанные с ней символы, в том числе - и вербальные, сами превратились (или были превращены?) в сакральные ценности: теперь уже п этих позиции должны были рассматриваться достоинства и недостатки личности, ее лояльность или отступничество и т:д. Подобные явления нельзя считать принципиально новь-ми или исключительными для словарного состава русского литературного языка: оримери известны, , хотя и не вполне однородны (ср. переосмысления слов оСожаг те ль, тоюгашшк, хлодник - ила еще белее ранние: Солван, истукан и ДР-) -
Процессы, прочоходстре в этноооциумс* (и исторически длительные.
к сравнительно быстротечные), ео многих 'случаях могут рассматриваться как отражение сложных связей между сакральным и профанным, 'своим' и 'чужим', между представлениями о них; заметим, что их полярная противопоставленность, вероятно, существует, скорее, лишь г отвлеченно-абстрагированном плане, поскольку в конкретных реализациях сакральное и профанное далеко не всегда легко разграничиваются: рубежи кх могут быть нечеткими, диффузными и в зависимости от эволюции ориентиров, доминирующих в данном сообществе, смещаться и перемещаться. Модификации воплощений сакралиьояанных концептов могут варьироваться, но градация феноменов относительно аксиологических полюсов присутствует в любую эпоху.
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях общим объемом около 35 п.л.:
1. Историческая лексикология русского языка//Истсрическая лексикологи; и лексикография русского языка.. Вологда, 19Б8. С.1-2, 5-6, 10, 18-19, 24, 32-33 (всего - 0,25 п.л.; коллектив авторов).
2. Экспрессивные синонимы к слову опричник//Русская историческая лексикография к историческая лексикология. Красноярск, 1989. С.85-95.
3. К истории эмоционально окрашенной лексики русского язы-ка//8акономерности языковой эволюции. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. Рига, 1990. С.97-98.'
4. 0 динамике стилистической характеристики слоеэ согдас-нпк//Русская историческая и региональная лексикология и лексикография. Красноярск, 1990. С.41-48 (в соавторстве).
5. Спецкурс "Русская историческая лексикология" в сгете новой концепции педагогического образования//Пути совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя к реализации концепции общеобразовательной школы. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. Красноярск, 1990. С.47-48.
6. К истории русской коннотатквной лексики//йсторическая лексикология и лингвистическое источниковедение. Красноярск, 1991. С. 55-64.
7. Из истории слов морально-этической сферы в русском язы-ке//Соотногенке синхронии и диахронии в языковой эволюции. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции. М.-Ужгород, 1991. C.S5.
8. К история сложения стилистических свойств глагола потагать и его дериватов//Лнтературныл язык и народная речь. Пермь, 1001.
С.91-1С0.
3. Динамика слова как следствие внеязыковкх фзктороп//Я-ык и культура.- Материалы 1-й международно;"! кон^ренцип. Клзв, ЮЗЕ. С.55.
10. Дипамжа слога в история языка (на примерз птггшй содействующего ¿П'цз) //Исторические гггг'ерешга в зеьаожой системе нзк результат функционирования единиц ягыкз. Тезгсы кзгфегпояалыгсй иа-учксй конференции. Калпнкиград, 1992. С.47-48.
11. 0 роли сведений по исторической лекс'.эззлсгин в преподава:?:::! русского языка//Грсблемы изучения и преподавания русского языка в вузах и сколах республики. Тезисы докладов научно-методической конференции. 4.1. Минск, 19&£. С. 42-43.
12. 05 зволюцизх слов морально-зтическсй сферы//Се'.:ачт!гка. языковых единиц. Материалы З-ей межвузовской научно-исследовательской конференции. 4.1. И.. 1992. С.20-21.
13. Лексическая антонимия как воплощение основных оппозиций морально-этической сферы//Оле?с в системных отпоаенаях на разных уровнях яскуа. Тезисы докладов Еесроссийской научной лингзистичес-кок конференции. •Екатеринбург, 1993. С.26-27.
14. 0 взаимосвязи переосмысления внутренней формы и реализации коннотативных потенций слова//Актуальные проблемы Филологии з вузе и сколе. .Материалы меквузонсксй конференции. Тверь, 1993. 0.17-19.
15. Коннотативные свойства слова в зеркале русской исторической лексикографии и исторической лекс:псслоги1;//Созременнь'.о проблем ■лексикографии. Харьков, 1992. С.33-36.
1й. Место спецкурса по русской исторической лексикологии в подготовке студента-заочникаУ/Засчная подготовка учителей филологии: опыт, проблем».!, перспективы. Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск, 1993. С. 17-18.
17. Об отражении гапнотативов в "Толковом словаре .-сивого великорусского языка"//Два крыла духовности. Материалы научной конференции, посвященной творческому наследив В.К.Даля и В.Д.Гринченко. Луганск, 1993. С.12-13.
18. о стилистической характеристике русской лексики в историческом аспекте//Актуальные проблемы филологии. Тезисы до:сладов мед-вузовской научно-теоретической конференции. Бып.1. Усть-Каменогорск, 1993. С.15-16.
19. Историческая лексикология: динамика слова//Русская нсторк-ческая лексикология и лексикография: результаты, проблемы, перспективы. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. Красноярск, 1933. 0.12-13.
- го -
20. О динамике еаякствэьаякых икон лиц в русском язкке//Русскаа историческая лексикологии к лексикография: результаты,, проблемы, перспектив;.!. Красноярск, 1Ô33. С.53-54 (в соавторстве).
21. Из историк словесного выражения философских представлений в лексике русского языка//Русски историческая лексикология и лекск-кограргл: результаты, проблемы, перспективы. Красноярск, 1993. С. 61-63.
Zi. Об использовании многозначного слова в памятнике письменности/ /Вопросы истории русского кгика и сибирских говоров. Иркутск, 1S93. 0.51-56.
23. Динамика слова в истории русского языка. Учебное пособие. Красноярск, 1993. 148 с.
24. Судьбы заимствований в русской лексике. Учебное пособие. Красноярск, 1S33. 92 с.
£Рец.3: В.МЛ.'.окио;!ко. Васильев А.Д. Динамка слова в истории русского гз.ыкл. Красполрск, KTÎU:, 19&Э; Васильев А.Д. Судьбы заимствовал!*: з русской лексике. Красноярск, КГШ. l£9S//Russistik Русистка. 1935. V, 1-2. С.83-В8.
25. Руаякл ксторичесйал ле;сспкогра$:;з//Русскзя фалавопхь Ук-раинсгай вестои;. Харьков, 1034, \'Я. С.69.
2G. дина^ла социальных стереотипов//Духогкая
культура: пробег.,к теьдглцци рэдгжзд. Тегиси докладов Всероссийской научной кэк^сренхпл. Сыктывкар, l&S-i. С.65-66.
27. Отражение дглалжс; конкотатг.вов в русга:ой лтетикогра^ичаз-г.эл трад1Шл;://УссаЬи1и:Г; et vocabuiariua. Выл Л. Всзтвкк Хсрькоъсю-го язлитехшасского уш&ерсктэта. 1694. К19. C.G7-75.
2Ь. Д;:на.:;:кг тери'.:.::а в нсторли языка//Проблемы исторической тер^глнолсгпи. Красноярск, 1994. С.9-17.
£3. а лаг.сш-л: к ксторка культури//й2ык и кул»тура. Док-
лады и тегаси докладов 3-ей и-здунаредной конференции. Киев, 199-1. С.84-85.
К). Судьбы группы реляциоитшх существительных в историк русской лькскк;У/Наадэкальио-кудьтуршй компонент в тексте и в яеыко. Тезисы докладов международной научной конференции. 4.1. Мжск, 1934. С.184-185.
31. Динамика русской лексики как фактор соцко- и этнокультурных Эваищ)1й//Руссккй вопрос: история и современность. Материалы докладов 2-ii Всероссийской научной конференции. Ч. II. Омск, 1994. С.132-135.
S2. Историко-культурный гслект динарами слова. Учебное пособие.
Красноярск, 1994. 196 с.
33. Об актуальности русской исторической ленсикологии/Ллсшая школа и проблемы духовно-нравственного становления личности. Тезисы межвузовской научно-практической конференции. Новосибирск, 1995. С.70.
34. Эволюции социокультурных норм этноса и динамика лекси-ки//Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики. Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции. Екатеринбург, 1995. С.20.
35. Из истории лексического выражения межличностных отноще-ний//Па.ч'ятки писемност! схдаослаз'янсъкими мозами Х1-ХУШ стол1ть. Вип.2. Ки1в, 1995. С.166-168.
36. 0 специфике слова и возможных перспективах русской исторической лексикографии//Слово. Материалы международной научно-лингвистической конференции. Тамбов, 1995. С. 59-60.
37. Динамика русской лексики и эволюции социокультурных норм//Язык и этнический менталитет. Сборник научных трудов.( Петрозаводск, 1995. С. 163-164.
Подписано в печать 15. 02. 96г. Тираж 120 экз. Заказ 279
Редакционно-издательский центр Красноярского государственною университета