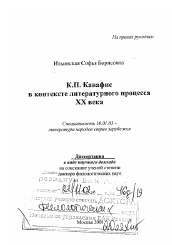автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.03
диссертация на тему: К. П. Кавафис в контексте литературного процесса ХХ в.
Введение диссертации2001 год, автореферат по филологии, Ильинская, Софья Борисовна
Настоящий доклад подводит итог тридцати пяти лет моих кавафоведческих штудий, где перевод, интерпретация, комментарии и анализ пересекались, расходились, но главным образом шли параллельно. Начало было положено в 1967 году, когда мне удалось напечатать в журнале «Иностранная литература» (№ 1 прилагаемого списка основных трудов) подборку переведенных мной одиннадцати стихотворений 1 Константиноса Кавафиса (1863-1933), сопроводив ее вступлением, которое впервые представило российскому читателю совершенно ему неизвестного и поражающего своей необычностью греческого поэта. Заключающие - на сегодняшний день - публикации (№№48-51) увидели свет в томе «Русская Кавафиана» (2000). В промежутке между стартом и сегодняшним днем - монография «Константинос Кавафис. На пути к реализму в поэзии XX века» (№№ 16, 18, 49), выполненная в стенах Института славяноведения и балканистики, вышедшая в 1983 году в Греции и в 1984 году в Москве, сборник эссе «К.П. Кавафис и русская поэзия "серебряного века"» (1995, №№ 37, 50), а также доклады на научных конференциях, лекции, статьи, о чем будет сказано ниже.
Остановлюсь на некоторых аспектах поэтического мира Кавафиса, ставших для меня ключевыми. Первый из них, почти не освещавшийся в греческом и зарубежном кавафоведении того 'оемени, касался исходного периода в творчестве поэта:
Как Кавафис стал Кавафисом, как складывались его г мировосприятие, его модель мира, его неповторимый почерк? Как I его поиск соотносился с европейским литературным процессом?
Будучи первопроходцем в рамках новогреческой литературы, ► Кавафис не был одинок на европейском горизонте, и рассмотрение = зго поэзии в широком контексте позволяет уловить в ней многие существенные черты основных тенденций эпохи.
Г--
Ожидая варваров», «Стены», «Теодот», «Александрийские цари», «Срок Нерона», «Сатрапия», «Приходи», «Послеполуденное солнце», «Свечи», «Город», «Фермопилы».
Этой проблематике посвящен ряд моих статей (№№ 10, 11, 12, 14, 19, 22), а также две первые главы монографии о Кавафисе («Первая ступень» и «Открытие Итаки»), В докладе основные выводы первого этапа исследования также сконцентрированы в двух первых разделах: «Стезя преодолений» и «Новые горизонты».
Второй крупный узел проблем (в монографии ему отведены главы «Овладение Александрией» и «Зрелость мастера», а в докладе третий и четвертый разделы «Итоговый рубеж. Модель Александрии» и «Шн е1 ОгЫ») связан с этапом художественной зрелости Кавафиса:
Как вписалось его творчество в панораму XX века, насколько и в чем проявилось его новаторство, как выкристаллизовался его главный выбор, как он обогащался с течением времени.
Мне показалось целесообразным построить доклад прежде всего на материале греческой и русской литературы и соответствующих исследований: греческая традиция менее знакома и менее доступна, а сопоставление с русской оживляет близкие культурные пласты. «Европейский горизонт» (литература и критика)2 отражен в моих монографиях и статьях.
Особый интерес с самого начала вызывала у меня мало разработанная и по сей день тема восприятия Кавафиса в Греции, чрезвычайно плодотворная для анализа эволюции греческой литературы XX века. Для нескольких поколений феномен Кавафиса явился своеобразным пробным камнем, выверявшим координаты их художественного сознания. Для послевоенной поэзии он был спутником и учителем. Эту тему я затрагиваю не только в работах, специально посвященных Кавафису, но и в исследованиях современной греческой поэзии (№№2,4, 5, 9,20, 22,25, 41).
Одной из притягательных для читателя «точек» в поэтическом мире Кавафиса несомненно является принятая им позиция героического стоицизма, остававшаяся до недавнего времени вне поля зрения критики. Мой отклик на эту струну его творчества сказался уже в выборе первых, переводов для «Иностранной литературы», а затем в анализе кавафисовской онтологии - в
2 Естественно, учтены признанные работы западных кавафо-ведов (Форстер, Лиделл, Кели, Юрсенар, Лаваньини и др.). монографии, и в серии статей (№№2, 5, 24, 30, 33, 41, 42, 43, 46, 47). Здесь ей посвящен пятый раздел: «Фермопилы, символ героического стоицизма».
Заключительный раздел доклада «Суд времени» призван суммировать основные выводы и пролить свет на причины столь щедрого в наши дни признания Кавафиса, чья поэзия принадлежит теперь не только Греции, но и мировой литературе. * ^
За минувшие тридцать пять лет Кавафис в той или иной степени был моей постоянной темой. Он возникает (если не как ведущая фигура, то как точка отсчета) едва ли не во всех моих исследованиях. На протяжении девятнадцати лет работы в Университете г. Янина (Греция) это неизменная (по желанию студентов и коллег) тема моих лекционных курсов. Лекции о Кавафисе я читала во многих городах Греции и за ее пределами (Москва, Петербург, Амстердам, Брюссель, Рим, Палермо, Катания). Ему были посвящены мои доклады на международных конгрессах и симпозиумах в Бухаресте (1974), Патре (1983), Превезе (1986), Афинах (1991, 1994, 2000), Петербурге (1991), Москве (1993), на Кипре (1997), в Салониках (1997), Неаполе (2000) (№№ 5, 19, 22, 24, 28, 30,32, 35,38, 40, 44, 45); из них мне хотелось бы выделить Первые (1991) и Пятые (1995) кавафисовские чтения на родине поэта в Александрии.
Кроме двух монографий о Кавафисе (№ 16, 18, 37, 50), опубликованных по-русски и по-гречески, Кавафис присутствует в других моих книгах: «Судьба одного поколения» (№№4, 9), «Михаил Ликиардопулос. Грек в среде русского символизма» (№ 21), «Заметки. Пути греческой поэзии XX века» (№ 25) и более чем в сорока статьях, из которых в прилагаемом списке указаны лишь основные.
Мне принадлежит составление, предисловие, примечания и четвертая часть переводов в первом небольшоме (159 стр.) сборник стихотворений Кавафиса на русском языке «Лирика», который вышел в Москве в 1984 год у (№ 17). В 2000 г. произошло важное событие не только в моей научной биографии, но и в мировом кавафоведении: вышел том «Русская Кавафиана». В этом издании российскому читателю впервые представлен полный корпус стихотворений Кавафиса (69 из них ранее в переводе на русский не публиковались; особый раздел составили переводы Г. Шмакова под редакцией
Иосифа Бродского). Главное своеобразие тома - его «многосложность»: Кавафис и о Кавафисе, это своего рода энциклопедия "русского" Кавафиса. 1-й раздел - стихотворения; 2-й раздел -творческая биография Кавафиса. В третий раздел «По прочтении Кавафиса» вошли работы: Р. Якобсон (совместно с П. Колаклидисом) «Грамматическая образность в стихотворении Кавафиса "©ицшот), Еб)(ао."», Иосиф Бродский «На стороне Кавафиса», В.Н.Топоров «Явление Кавафиса», Т.В. Цивьян - пять эссе «О поэтике Кавафиса».
И в этой книге мне принадлежат составление, предисловие «Сквозь призму Александрии», часть переводов и комментария. Кроме того в нее вошла (2-1 раздел) моя монография «Константинос Кавафис» с восстановленными фрагментами, которые не могли быть напечатаны в 1984 г., цикл из четырех эссе «К.П. Кавафис и русская поэзия "серебряного века"» («Родственность поисков», «К. Кавафис -В.Брюсов: перед лицом истории», «К. Кавафис - М. Кузмин, александрийцы», «К. Кавафис - Н. Гумилев, "отчасти" параллельные») и статья «К.П. Кавафис в России», где кроме сравнительно недавней истории переводов и издания Кавафиса в России излагаются неизвестные ранее данные об интересе к нему в 1910-е годы на юге России и в 1930-е годы Москве.
Необычайно живой отклик, который сразу же получила «Русская Кавафиана» в отзывах критики и читателей 3, для меня
3 В итоговом обзоре за 2000 год литературного приложения «Ех ЫЬпв» «Независимой газеты» (№49, 28.12.2000) «Русская Кавафиана» была названа книгой года. Среди лучших «Книг 2000 года» ее рецензирует А. Нестеров (электронный журнал «Итака», 29.1.2001). Рецензии ей посвятили: И. Ковалева - «"Люблю стеклянные цветы и золотые". "Явление" Кавафиса: великий александриец вернул миру греческую поэзию» («Ех УЬпэ НГ», №4, 1.2.2001), А.Ковалева -«Полный Кавафис» («Известия», №38, 2.3.2001), А. Уланов - «Одиссей, не плававший никуда» (электронный «Русский журнал», 12.2.2001),
B.Аристов - «В окрестности легенды» («Русский журнал», 12.2.2001),
C. Костырко - «Русская Кавафиана» («Новый мир». №4, 2001) и «Кавафис в русском Интернете» (Там же), С.Завьялов - «Русский Кавафис» («Новое Литературное обозрение», 2001, №49. С. 440-446).
Ссылаясь на последнюю рецензию, отметим две общие констатации:
1. Принципиально новый тип издания: «Так мировую поэтическую классику у нас еще не издавали.» (С. 440) явился признанием того, что великий греческий поэт прочно вошел в сферу русской культуры. Я рада, что здесь есть и мой вклад.
2. Факт вхождения Кавафиса в русскую культуру: «Кавафис вошел в русскую культуру, он востребован» (С. 440,), «Кавафис стал фактом русской культуры» (С. 446).
На выход «Русской Кавафианы» откликнулась и греческая пресса- газеты «Кафимерини» (11.2.2001), «Та Нэа» (12.2.2001), «То Вима» (29.4.2001), журнал «Политика темата» (2.2.2001).
I. Стезя «преодолений»
Творческую судьбу Константиноса Кавафиса (1863-1933) принято считать необычной, хотя на самом деле она являет собой весьма характерный для художественного авангарда пример многоступенчатой эволюции от изначального «неуспеха» к успеху: после долгой стадии глухого непризнания, после непримиримых споров, ставивших под вопрос саму поэтичность его стихов, начался длительный период постижения - сначала лишь частичного, потом все более полного, глубинного, творческого, оказавшего заметное влияние на дальнейшие эстетические поиски.
Долгим и тернистым, пролегавшим сквозь мучительную цепь «преодолений», был для Кавафиса и путь к обретению своего голоса. Проследить метания начинающего поэта от одного образца к другому, от ученического подражания к собственным открытиям, внедриться в его лабораторию, наблюдая за оформлением целей и замедленным, затрудненным претворением их в поэтической практике, иными словами - пройти по сложному маршруту становления Кавафиса явилось для меня первостепенной и чрезвычайно увлекательной задачей.
Труднее всего далось ему «преодоление» романтического старта, ощутимого не только в отроческих пробах пера 1880-х годов, но и в упорных романтических рецидивах 1890-х годов, не вселявших серьезных надежд на самобытный поэтический взлет. Непримиримость к прозе жизни, неудовлетворенность средой, взрывы раненого чувства собственного достоинства, жажда идеала претворялись в творчестве по схеме романтического двоемирия. Однако в направлении настойчивого поиска улавливалось веяние нового времени. После пяти лет «молчания», посвященных открытию новых ориентиров, стихотворение «Ассоциации с Бодлером» (1891) заявило о начале нового этапа под путеводной звездой символизма.
Уроки символизма не ограничились для Кавафиса, как для многих его коллег в Греции, рамками формы, в частности версификации. Восприятие им новейшей западноевропейской поэзии было значительно более глубоким и обостренным, и причина заключалась не только в том, что свободное владение с детства английским и французским языками, раннее и органичное приобщение к английской и французской культуре обеспечивали
Кавафису естественную и синхронную ориентацию в современном мировом литературном процессе. Крайне важным оказался и тот ракурс исторического видения, который даровала ему Александрия, древний город, ставший на его глазах полигоном беспощадных социальных конфликтов эпохи.
Характер действительности, открывавшейся Кавафису в Александрии (британская оккупация Египта, коллизия метрополии и колонии), предопределял особую созвучность его общественного опыта с опытом западноевропейских литератур. Прогрессирующее кризисное мировосприятие искало выход в иносказательности, через которую поэт стремился выразить свое ощущение глубинной, скрытой реальности. Душевные движения лирического героя, его разочарование и подавленность, передавались в поэтической технике символистского «внушения», в элегической, минорной тональности, в струящейся мелодии стиха (с ритмическим разнообразием и богатой, изысканной рифмой).
Реализация отдельных элементов поэтики символизма не означала полного принятия его эстетической программы, вступления в школу. «Кавафис несомненно вдохнул атмосферу современной европейской поэзии, какой он застал ее в возрасте 20-35 лет, -справедливо отметил Г. Сеферис. - Я имею в виду школу символизма, в которой учились и из которой вышли, как мы знаем, наиболее достойные и самые разные поэтические таланты довоенного времени. Но черты, воспринятые им от этой школы, это общие черты поколения, а не того или иного художника, и они тают или обретают совершенно личную тональность по мере того, как его творчество эволюционирует, оставляя позади стадию первых опытов» 4. В самом деле, лирический импрессионизм, тонкая игра ассоциаций, музыкальное совершенство формы, достигаемое Кавафисом на этом этапе, не станут доминантами его зрелого поэтического письма.
Характерно, что параллельно с символистским Кавафис испытывает заметное влияние Парнаса. Французский символизм и Парнас - иногда в хронологической последовательности, иногда в совокупности - оказывали в конце 19-го века значительное воздействие на формирование эстетических концепций во многих европейских литературах. Однако их одновременное присутствие в творческих исканиях Кавафиса начала 1890-х годов предстает достаточно противоречивым, выдающим разнонаправленный харак
4 Есхркрщ Г. Аокщкс. Авцуа. 1974, т. 1.2. 325. тер поиска. Символистской установке на постижение сверхчувственного и связанной с нею зыбкой неопределенности контуров в одних стихотворениях сопутствовали и противостояли лаконичная точность наблюдения, сдержанность эмоций и лексики, графичность изображения в других, как ,бы предрешающие грядущее «преодоление» символизма.
Возобладает стремление к предельной смысловой определенности, строгой конкретности выражения, прочной структуре стиха, явно соответствовавшее складу дарования Кавафиса и новой европейской тенденции к эстетическому пуританизму, «словесной экономии», «простоте, ясности и достоверности» 5. Оно утвердится, когда, отрешившись от «гармоничных созвучий» импрессионистического символистского письма и удержав лишь саму идею символа как основного ключа поэтической образности, Кавафис раскроет в нем возможности эффективного средства художественного обобщения. Однако осуществление оформляющейся программы будет протекать неровно, в колебаниях между романтической инерцией, символизмом, Парнасом и новой перспективой - реалистической объективизацией и типизацией.
Богатый материал для размышлений дает статья Кавафиса «Шекспир о жизни» (1891), где ценность прозорливых наблюдений автора сопрягается с его самоустранением, с отказом от навязывания своего суждения, с доверием к читательскому соучастию в творческом акте вынесением своего собственного заключения. Хотя в критических суждениях Кавафиса эта желаемая творческая позиция формулируется с достаточной ясностью весьма рано, непосредственное овладение ею давалось ему с трудом. Год спустя в стихотворении «Тимолай-сиракузец» он воссоздает драму «необратимого бессилья» художника выразить таящиеся в нем замыслы:
Пустуют, ему мнится, инструменты, тогда как музыкой исполнена душа.
Перевод А. Величанского)
Система изобразительных средств, которой располагала тогда еще всецело романтическая греческая поэзия, не отвечала его новым запросам, и пример старшего современника Жана Мореаса (псевдоним Иоанниса Пападиамандопулоса, 1856-1910), дебюти
5 Гумилев Я.С. Письма о русской поэзии. М.,1990. С. 270-271. ровавшего в греческой литературе сборником Горлицы и змеи (1876) и ставшего затем одним из лидеров французского символизма, притягивал Кавафиса как реальный выход из лабиринта. Однако он нашел в себе решимость «преодолеть тысячу препятствий, чтобы создать свою выразительную систему»6. Нитью Ариадны послужил не чужой разработанный язык, а античные маски, стихотворения, в которых описание «древних дней» высвечивали через вечные ситуации волнующую поэта современность.
Такое осмысление и использование античных масок формируется в творчестве Кавафиса на всем протяжении 90-х годов. К концу десятилетия от парнасских и символистских картин, воссоздающих серию жизненных обстоятельств, поэт все увереннее переходит к постановке ключевых жизненных проблем. Иллюстрацией этого тезиса может служить блестяще проведенное Г. Сеферисом сравнение стихотворений «Граждане Тарента в ликовании» (1897, 1898) и «Ожидая варваров» (1898, 1904), связанных непосредственной преемственностью темы7. От эскизной зарисовки первого стихотворения Кавафис переходит к панораме второго, как бы ловящей движение исторического времени и представляющей его в драматизированной, почти театрализованной форме.
Принадлежащее тому же Сеферису сравнение Кавафиса с мифическим старцем Протеем раскрывает великолепное качество осуществления кавафисовских замыслов - редкий дар перевоплощения, вживания в атмосферу далеких эпох. Критика сравнительно рано оценит его «выдающуюся способность присутствовать в историческом времени», «редкую способность интеллекта проникать в жизнь далеких эпох и людей, обитать в их. городах, ходить по их улицам, переживать их чувства. Видеть то, что видели они, приходить в волнение от известий, которые волновали их, наконец, думать как один из них, о событиях, которые наводили их на размышления» 8.
Между тем через критика В. Атанасопулоса Кавафис постарается подчеркнуть иной ракурс своих анахронизмов - видение истории «глазами современности»: «Художнику позволено выбирать темы из любого периода истории - греческой и зарубежной,
6 МосШод Г. О Киршрпу А6г|уа, 1957. 2. 249-250.
7Сеферис отметил, что дата публикации первого стихотворения (декабрь 1898 года) совпадает с датой написания второго.
8 МаШюд Т. Каршрт^ 2. Авг^а, 1963.2. 156-157. испытывать волнение по поводу вопросов, которые волновали людей той эпохи. Достаточно, чтобы он смотрел глазами современности, а не глазами людей той эпохи, чтобы он был взволнован и тронут впечатлением, которое они вызывают сегодня, а не пытался воскресить, что чувствовали тогда, иначе он не был бы искренен» 9.
Так кто же в эти годы Кавафис - парнасец или символист?» -спрашивал один из ведущих исследователей его творчества Г. Саввидис и отвечал: «.и первое, и второе вместе (и еще многое другое) или, используя одно из ключевых слов самого Кавафиса [еу цер£1, отчасти - С И.]: отчасти первое, отчасти второе» 10.
Расшифровывая ссылку Саввидиса на «многое другое», необходимо упомянуть постоянные «романтические возвраты» и все отчетливее проявляющиеся черты реалистического метода. К концу 90-х годов долгая стадия разнонаправленных опытов остается позади: романтическая тенденция постепенно отступает и совсем исчезает, а парнасская и символистская ощущаются как усвоенные уроки поэтического мастерства. Главным уроком школы символизма был художественный прием экономного и яркого воплощения синтезирующего и интерпретирующего авторского замысла в символе.
В тот переломный период, когда, по выражению Б. Эйхенбаума, перед европейской поэзией вставал «вопрос революции или эволюции» 1 , Кавафис избирает «мирную», но весьма смелую эволюцию.
9 Тас'ркад I. О хо^ткдд Каращд. Авцуа, 1974.1. 38.
10 Еар/Ш^ ГЛ. 01 КаРскрцса; Ек86сшс. Авг^а, 1966.2. 139.
11 Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 81-82.
II. Новые горизонты
В начале XX века интенсивный процесс самоформирования в основном завершается. Поэт несомненно чувствует, что переступает новый рубеж - достигаемой творческой зрелости, осознания обретенного опыта, утверждения в своей творческой манере. Развивая линию лучших достижений конца 90-х годов, он окончательно проясняет для себя цели и средства. Пересмотр написанного ранее, молчаливое отречение от одних стихотворений и переработка других, серия личных заметок о творчестве, его возможностях и его лаборатории, свидетельствуют о сложившихся философских и эстетических критериях, а также о том, насколько остро Кавафис ощущает себя первопроходцем, открывающим новые горизонты, «схватывающим трудные понятия, взаимосвязи, следствия вещей», пока что не доступные другим и потому обреченные на долгое непризнание п.
Своим выбором Кавафис непосредственно вписывается в глобальное многовариантное культурно-историческое явление, каким была европейская поэзия того времени, выбирая в своем дальнейшем движении один из наиболее самобытных и значительных вариантов. Ряд факторов, чрезвычайно действенных в его творчестве, характерен для общей литературной атмосферы начала века:
Это безраздельная посвященность искусству, культивирующая тип литератора-художника, артистической личности, не отделяющей «литературную биографию от личной», пытающейся «найти сплав жизни и творчества» 13 и увековечить преходящую жизнь в творчестве.
- Это высокая культура, обеспечивающая единый базисный фонд, поддерживающая веяние «всемирной
12 Характерны в этой связи размышления Кавафиса о судьбе художника, опережающего свое время: его открытия закладывают фундамент, «неизбежно в чем-то не вполне совершенный»; позднее, «усовершенствованные и оплодотворенные другими», они принесут продолжателям то признание, которого был лишен первопроходец. (Ксфшрщ К. П. AvsK§ora rcs(ri кгщтх, 7capooaiao|A£va кса ayo/aaa^iiva атго tov Mi х- пф(ог|. A0f]vtt, 1963.1. 59-61.
13 Ходасевич В. Некрополь. М., 1991. С. 7-8. отзывчивости» и стимулирующая интенсивный диалог идей с позиции глобального исторического и культурного опыта, мыслимого как неразрывный творческий акт.
- Это тяготение к универсальности, находящее художественные опоры в формах, где «вечное» сопрягается с «современным», как бы моделируя философские основы жизни.
Античные модели дарили поэзии искомую «посредствующую призму отдаления», позволяли выявлять в живой конкретности частного лики диахронического всеобщего. Их емкие содержательные формулы резюмировали акты познания мира и «самопостижения» художника, совмещая и непосредственно чувственный опыт автора, и опыт, накопленный человечеством. Как позднее скажет Т. Элиот, -«объективный коррелят», средство «упорядочивания» впечатлений и оценок современного мира.
На основе и средствами живого жизненного материала (при реалистической конкретности обстановки, фабулы, человеческих характеров, укрепляющей иллюзию правдоподобия) Кавафис «упорядочивает» впечатления и оценки современного мира в конструкциях универсально значимых ситуаций. Причем если на первых порах свои античные сюжеты он черпал почти исключительно из мифологии, главным образом у Гомера, наделяя избираемые эпизоды и образы интенсивной метафорической энергией, то, переступив в XX век, он вскоре расстается с мифологической темой.
Предпоследний, поздний образец такого рода - «Итака» (1910, 1911) - находится на заметном расстоянии от предыдущих и завершает давний тематический круг, связанный с образом Одиссея. В дальнейшем за материалом для своих «античных» стихотворений он будет обращаться к истории, прокладывая пути опосредованного внушения через прямое, видимо бесстрастное воспроизведение исторического эпизода (саморазвивающаяся действительность), через драматизированное воспроизведение монологов и диалогов действующих лиц (самовыявление персонажей). Установка на максимальную объективизацию включает теперь ориентир на историческую документальность.
Итака» знаменательна еще и тем, что, расставаясь с мифологией, Кавафис прощался и с дидактическим монологом, в форму которого он облек серию философских стихотворений первого десятилетия XX века. Формулируя в них свои представления о жизни и человеке, он, очевидно, еще испытывал потребность в непосредственном авторском обращении к читателю: эмоциональная ангажированность прорывала заданную отрешенность формы. Впредь на смену назидательным философским раздумьям придет отстраненная историческая модель.
Историческая канва этих стихотворений придает им оттенок видимой бесстрастности, но в основе их по-прежнему лежит эмоциональная реакция. «Без воодушевления - я отношу к нему и гнев - человечество не может творить,- писал Кавафис в одной из личных заметок 1907 года. - Но на волне воодушевления оно не может работать успешно. Для того, чтобы работа пошла успешно, воодушевление должно улечься, но и тогда - в состоянии равновесия - создаются произведения, рождающиеся в период воодушевления. Тот, кто подвержен крайнему воодушевлению, не может работать хорошо; тот, кто не испытывает воодушевления, тоже не может» 14. Местами почти дословно совпадая с Кавафисом, аналогичное высказывание о двух этапах вдохновенья, связуемых памятью, оставил М. Кузмин: «Если признать два рода или два этапа вдохновения, вдохновение замысла и вдохновение осуществления, <.> то нет ничего пагубнее, как их соединение. Они связываются художественной памятью, и едва ли, не пройдя этот путь, возможно достигнуть совершенства. Поэтому горячность и увлечение, необходимые для замысла, не смягченные посредствующей призмой отдаления, могут лишь вредить осуществлению. Человек, особенно темпераментный, не может сам находиться в том, что он пишет, он должен быть вне, со стороны, желательно выше, лишь вспоминая свои волнения» 15.
От жизненного факта, вызывающего яркую эмоциональную реакцию, через испытание временной отстраненностью к воплощению его в оболочке исторического сюжета - по этой схеме, складывающейся в 1900-е годы, протекает творческий процесс Кавафиса. Как потом признавался он сам, даже самые яркие события «вдохновляли его не сразу»: «Нужно, чтобы миновало определенное время. Потом я вспомню о них, и ко мне придет вдохновение» 16.
14 Ксфащс; К.П. А\'£к5ота Хгцлеклцата Поп^тжт^д кои Нбист^. Пароишаоцета ало тоу Г.П. ХаррЙт]. А0г)уа, 1983.2. 39.
15 Кузмин М. Стихи и проза. М., 1989. С. 387.
16 Лехсоупг/д Г. Кароцлка оштоадаШа. АХе^ауЗрею, 1942. £.45. Первое наблюдение о затяжном характере творческого процесса у Кавафиса, о «долгом пути от мгновенной вспышки вдохновения, от
Столь непосредственно признаваемый поэтом примат жизненного опыта не был воспринят многими его современниками, утверждавшими вторичность его поэтического вдохновения, питающегося заимствованиями из древних авторов.
Между тем использование исторической модели мыслится Кавафисом как средство проникновения в сущность явлений, как интерпретационный ход. «Описательная поэзия, - пишет он в 1906 году, - исторические события, фотографирование (какое скверное слово!) природы дают чувство уверенности [в том, что со временем отношение автора к изображаемым событиям не изменится - С.И.]. Но это мелко и недолговечно» 17. А в 1908 году, отзываясь о творчестве греческого прозаика А. Пападиамантиса, Кавафис с восхищением отмечает в его повествовательном искусстве тройное достоинство - знание «что нужно сказать, о чем нужно умолчать и на чем нужно остановить внимание», иными словами - мастерство реалистического обобщения и типизации. Школа социального и психологического романа в зрелом творчестве Кавафиса ощутима весьма явственно. Известно, что в его библиотеке было много книг Бальзака, Стендаля, Флобера, Золя и Франса, и особым его предпочтением пользовались Золя и Франс. замысла к его художественному воплощению» принадлежит Г. Ксенопулосу. В его ранней и, по позднему признанию греческой критики, исторической статье «Поэт» (1903) содержится ряд ценных замечаний о той манере письма, которая складывается у Кавафиса на рубеже веков; в частности прозаик и реалист Ксенопулос специально выделяет черты, отличающие Кавафиса от громкоголосой романтической поэзии, которая еще задавала тон в греческой литературе. На ее фоне черты реалистической поэтики, наметившиеся в творчестве Кавафиса, воспринимались как чужеродное тело, и слова Ксенопулоса о том, что в Греции «свыклись» в другими стихами, что стихи Кавафиса могут производить впечатление «странных», оказались пророческими.
17 Ка$ащ<; К.Л. Ауек&ото 2т]цб1«рата Поп^икгц; кш Н9хкг)<;. Б. 39.
III. Итоговый рубеж. Модель Александрии
Последний, классический в своем роде, дидактический монолог Кавафиса, стихотворение «Покидает бог Антония», был написан месяц спустя после «Итаки», и они составили концептуальный диптих, излагающий стоическое видение поэтом смысла жизни и позиции человека перед лицом неотвратимого конца. Онтологический аспект поэзии Кавафиса будет предметом особого рассмотрения, сейчас же, завершая обозрение первого десятилетия XX века, мы должны остановиться на открытии, которое сделал для себя Кавафис в этом стихотворении.
Тот факт, что на протяжении почти двадцати лет он черпал свои сюжеты из самых разных эпох и литературных источников, почти не обращаясь к прошлому родного города, был отмечен Сеферисом как заслуживающий внимания и интерпретации: «Есть люди считающие вполне естественным, что Кавафис говорит об Александрии, коль скоро он там родился и прожил всю свою жизнь. Возможно, над этим стоило бы задуматься серьезнее. В 1909 году Кавафису исполняется сорок пять, но Александрии он как будто еще не видит» 18.
Столь длительное промедление может показаться удивительным, если учесть, насколько распространенным в европейской литературе того времени было обращение к эллинистической Александрии как к аналогу переживаемой современности: то же ощущение близкого рубежа, распадающихся связей и беспредельно расширяющихся горизонтов, та же погруженность во внутренний мир индивидуума, интерес к его роли и возможностям в стремительно меняющемся мире, тот же культурный синкретизм, парение интеллекта - мировосприятие, не знавшее границ пространства и времени, и «анахронизм» являлся общим художественным ходом 1 . Распространенным было и прямое обращение к эллинистической эпохе - например, в России у М. Кузмина, во Франции у почитаемого и Кавафисом и Кузминым Франса. Все трое могут быть представлены как феномен
18 ЕеуёрцяГ. Локцш;. 2. 412.
19 В сфере поэтики необходимо отметить общее стремление к «торевтике», оттточенности формы. знаменательной парадигмы, однако Кавафис являл собой нечто экстраординарное.
Художественное постижение спектра возможностей, заложенных в л оку се Александрии, приходит к нему с прозрением «урочищного», согласно формуле В.Н. Топорова, характера александрийской модели. «В этой эпохе я чувствую себя свободно, я сделал ее своей», - признавался Кавафис одному из своих друзей. Александрийский «синкретический по происхождению и по характеру корпус впечатлений» мобилизуется поэтом для воссоздания родственной «структуры восприятия» внешнего мира, для отражения его «как в зеркале, в связи с его отношением к данному урочищу и через него» 2 . Такого рода художественное открытие Александрии несомненно воспринималось Кавафисом как концептуальное откровение. «Александрия означает счастье, успех», - комментировал он свое первое по-настоящему александрийское стихотворение «Покидает бог Антония», где риторические приемы композиции выдают заданную авторским замыслом программность, почти декларативность александрийского мотива.
О том, сколь значительным символом времени, аналогом переживаемой эпохи, воспринималась в начале XX века эллинистическая Александрия, мы можем судить не только по творчеству александрийца Кавафиса и по знаменитым «Александрийским песням» Кузмина - вспомним высказывание А. Блока о В. Брюсове как о «гениальном поэте александрийского периода русской литературы». Однако именно в поэзии Кавафиса и Кузмина Александрия обретает характер «урочища». В александрийской модели они находят искомое самовыражение -«перенесением центра тяжести всякого освобождения в область мышления и чувства», что «отчасти повторяет "познай самого себя" древних греков»21. По выражению Кузмина, имеет место «попавший прямо в цель выбор непосредственных форм для непосредственной лирики». Сходные ситуации и сопряженные с ними многообразные параллели - сюжетные, образные, лексические - действительно наводят на мысль о двух, греческом и русском, вариантах одного текста.
20 Топоров В.Н. Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд) II Ноосфера и художественное творчество. М., 1991. С. 200.
21 Кузмин М. Стихи и проза. С. 412.
В хронотопе эллинистической Александрии греческий и русский поэты обнаруживают глубоко родственную им атмосферу и раскрывают ее в тех приметах времени, из которых состоит повседневность и незаметно складывается история. Подобно древним александрийцам они стремятся закрепить в искусстве мимолетное мгновенье, воссоздать его с «хрупкой пронзительностью» (Кузмин), с чутким вниманием к второстепенной, но столь значимой детали, «удивляясь, любя и размышляя», взирая с точки зрения вечности и истины» 22. Но если «Александрийские песни» Кузмина - это плод виртуозного стилизаторства, талантливо созданный им лирический образ родственной по мироощущению далекой эпохи, то совокупность александрийских стихотворений Кавафиса - это историческая модель, применимая не только к современному (и в диахронии) индивидууму, но и к современному (и в диахронии) историческому процессу.
Возводя Александрию на пьедестал жизненного идеала, Кавафис видит в ней символ любви, красоты, человечности, терпимости, учености, художественной утонченности. «Наверное, самый раскрепощенный голос, который слышится в поэзии Кавафиса, - отмечает в своем эссе "На стороне Кавафиса" Иосиф Бродский, - это та глубинная увлеченность, с которой он перечисляет прелести эллинистического образа жизни: Гедонизм, Искусство, Философия софистов и "особенно наш великий греческий язык"» 23. Греческий язык как носитель эллинской культуры, как основополагающее и цементирующее начало средиземноморского культурно-исторического круга и воплощение «средиземноморского
24 ~ психо-ментального типа », как выразитель многовековой, славной и многострадальной истории греческого мира - действительно одна из постоянно и многообразно варьируемых тем Кавафиса, закладывающих фундамент его модели мира.
Краеугольным камнем этой модели несомненно является Любовь, «мироправящий Эрос» (И. Бродский). В интеллектуально-эмоциональном комплексе Александрии, где эллинское мироощущение согрето жаром Востока, эротизм Кавафиса находит
22 Кузмин М. Стихи и проза. С. 384.
23 Бродский Иосиф. На стороне Кавафиса // Русская Кавафиана. М, 2000. С. 488.
24 См. в этой связи первый раздел работы В.Н. Топорова «Явление Кавафиса» (Русская Кавафиана. С. 491-509). наиболее благоприятные возможности самораскрытия, искомую чувственную раскованность. Однако и в знаковой системе Александрии и вне ее развитие любовной темы происходит преимущественно через посредство памяти, как мучительный и сладостный поиск утраченного времени (за чем - более широко -стоит пронизывающее всю поэзию Кавафиса восприятие памяти как онтологической опоры человека и человечества). Центральным предметом изображения подчас становится не столько само переживание, сколько память о нем, жизнь памяти в искусстве. «Только поверхностный или пристрастный критик, - пишет И. Бродский, - зачислит стихи Кавафиса в попросту "гомосексуальные" или сведет дело к "гедонистическим склонностям"». Единственное имеющееся в распоряжении человечества средство, чтобы справиться с временем, есть его память; именно его исключительная, чувственно-историческая память создает своеобразие Кавафиса» 25. *
На протяжении своего творческого пути Кавафис трижды совершал пересмотр поэтического портфеля. Первый, ограниченный по масштабу, состоялся в 1891 году, когда после пятилетнего молчания он вновь выступает в прессе, заводит каталог, куда заносит дату каждого стихотворения, публикует новые стихи и перерабатывает старые в соответствии с новыми творческими критериями символистской ориентации.
Второй, самый решительный пересмотр происходит в начале 1900-х годов. В личных заметках, условно называемых ныне «Поэтикой» (1903), Кавафис изложил свои размышления о природе и характере творческого процесса, о назначении, возможностях и будущем поэзии, о роли и судьбе творца, о методологии литературной правки, которую он в основном уже завершил. Изгнанию подвергаются романтические излишества - «всякого рода непоследовательности, не обоснованные логикой возможности». Сравнительный анализ авторской переработки стихотворений, которые сохранились в первоначальном и в окончательном вариантах, убеждает в том, что пересмотр происходил в двух направлениях
25 Бродский Иосиф. На стороне Кавафиса. С. 486-487. преодоления» романтического и символистского прошлого и перестройки поэтического языка.
Языковая правка направлена на отторжение форм архаичного литературного языка - кафаревусы и на активное использование утверждающегося в литературе народного языка - димотики. Переход к димотике диктуется потребностью в естественном течении поэтического слова, в его живой конкретности и непосредственности. И хотя язык Кавафиса сохранит отдельные лексические и грамматические элементы кафаревусы (главным образом как стилеобразующее средство в «античных» стихотворениях), весь его строй и, в частности, динамичное введение прозаизмов, выдает новаторское для того времени стремление к разговорной интонации, достоверно передающей движение поэтической мысли. В соответствии с внутренними смысловыми токами оформляется и свободная ритмическая организация стиха, отказывающаяся от символистской мелодичности, от рифмы и равносложия, однако сохраняющая по-своему строгий, классический рисунок.
В результате переработки и отбора двадцать три ранее опубликованных стихотворения окажутся в категории молчаливо «отвергнутых», а четырнадцать выдержавших испытание составят сборник, сданный в типографию в декабре 1904 года. В 1910 году, как бы подводя черту под десятилетним периодом окончательного самоопределения, Кавафис повторит это издание, добавив семь новых стихотворений.
Следующий, 1911-ый год принято считать водоразделом. Его установил сам Кавафис, введя в последние годы жизни пометку: «до 1911 года». Деля свою поэтическую продукцию на «до» и «после», он как бы прочерчивал границу уже окончательно достигнутой зрелости. Последний пересмотр 1911-1912 годов явился законополагающим актом процесса, длившегося на протяжении всего первого десятилетия XX века, однако он не был ни радикальным, ни переломным, он был итоговым:
- В философских монологах оформились мировоззренческие установки поэта36, которым он останется верен на протяжении всей жизни. Как раз в рубежном 1911-м «Итака» и «Покидает бог Антония» прозвучали прощальными аккордами
26 Почти все стихотворения, относящиеся, согласно классификации самого Кавафиса, к категории философских, пишутся именно в первое десятилетие XX века. и этому жанру (с его непосредственной эмоциональностью и дидактикой), и мифологическим сюжетам.
- Последний монолог открыл ему горизонты александрийской модели, а в ряде стихотворений, которые пишутся в 1900-е годы и будут опубликованы «после 1911-го», Кавафис начинает культивировать присущий сфере исторического эффект документальной достоверности (ее аура распространится на все - как историческое, так и современное -пространство его поэзии и образует единое семантическое поле), все более целеустремленно высвечивая в своих моделях всевременное, общечеловеческое.
- В 1911 году, начиная со стихотворения «Страхи», он отказывается от добровольной самоцензуры и не воздерживается более ни от смелых решений эротических тем, ни от публикации этих стихотворений.
- «Как трудно, как тяжело жить в маленьком городе - как мало тут свободы!» - сетовал Кавафис в одной из личных заметок 1907 года27, однако как раз в это время начинается процесс его «примирения» с Александрией, выразившийся в частности в смене образа жизни - космополитического на аскетический. В этом «новом» Кавафисе Г. Саввидис видит «аскетичного поэта, познавшего свою подлинную сущность. и всецело посвятившего себя совершенствованию своего искусства и делу его признания»28.
27 Ка^дщд К, П. АуекЗота Хт]це1бцата Погг)Т1КГ)д кои Н9хкт|<;. Пароислаацеуа ало тоу Г.П. 2арр{8т]. Е. 40.
281а(>ф16г]<;Г.П. СИ Кара^гкЁ^ Екбооегд. X. 197.
IV. 1КВ1 ЕТ (ЖВ1
1. Аспекты «ретроспеюгивизма»
Ретроспективизм», распространенная черта литературной эпохи Кавафиса, объединял весьма разнообразные подходы, с варьируемой глубиной в раскрытии его возможностей. Нередко, как у раннего Кавафиса, эта тенденция возникала в романтическом стремлении к бегству от действительности в мир экзотических, в том числе античных, тем, в поиске «приюта для раненой души», в желании прикоснуться к идеальному и героическому. Исходная романтическая тональность обычно понижалась, уступая место тому или иному варианту «прекрасной ясности». В случае Кавафиса базисом этой трансформации становится программный, осознанный и неукоснительно осуществленный разрыв с романтизмом и резкое противостояние еще устойчивой тогда в греческой поэзии романтической традиции.
Сопутствующим этому движению (как, например, у Кавафиса) бывало соприкосновение с поэзией Парнаса, с ее отточенными малыми формами, ее лаконичными, афористичными, эмоционально сдержанными средствами выразительности. Однако в цикле философских стихотворений начала века, напоминающих аллегорические античные «формулы» Брюсова и некоторые из «Александрийских песен» М. Кузмина, степень личного соучастия весьма высока, и преодолевается она с усилением эпической струи, безучастным воспроизведением исторического эпизода.
Общее тяготение к эпическому владению темой (вспомним, как ценил у Брюсова «мужественный подход к теме, полную власть над ней» О. Мандельштам), тяготение к психологической разработке характеров, к сюжетной структуре и внутренней связанности циклов принимает у Кавафиса наиболее развитые формы. И если характер «ретроспективизма» у Кузмина может быть передан его словами о близком ему по духу художнике К. Сомове «(Ретроспективизм Сомова только подчеркивает повторяемость чувств и событий, словно бесцельную игру истории. Конечно, К.А. Сомов любит и знает эпохи, которые он изображает, но главное заключается в маскарадном колесе человеческих жизней, которые повторяются, как карусельные коньки») 29, то у Кавафиса реализация античных моделей отмечена возрастающей историософичностью. Начиная с 1910-х годов, поэт выходит к глобальным горизонтам - ЦгЫ й ОгЫ - и стремится увидеть в метафорических зеркалах истории столь актуальные для литературы XX века ракурсы: «человек во времени» и «время в человеке». По словам одного из первых кавафоведов Г. Врисимитзакиса, стихотворения Кавафиса освещают механизм «поведения личности» и «поведения наций» и потому «приложимы» как к жизни личности, так и к жизни наций 30, иными словами - к общечеловеческому историческому опыту.
2. Метаморфозы цикличности
Стремление к сферическому освещению тем в их временной протяженности и эволюции рождает к жизни цикличность творчества Кавафиса, а точнее - его единую внутреннюю организацию. В аналогичном направлении (к внутренней связанности и лирическому единству поэтических сборников) в эти же годы протекал художественный поиск его русских современников. «Книга стихов, -пишет Брюсов в предисловии с своему сборнику «№Ы е1 оЛп» (1903)- должна быть не случайным сборником разнородных стихотворений, а именно книгой, замкнутым целым, объединенным единой мыслью. Как роман, как трактат, книга стихов раскрывает свое содержание последовательно от первой страницы к последней. Стихотворение, выхваченное из общей связи, теряет столько же, как отдельная страница из связного рассуждения. Отделы в книге стихов не более как главы, поясняющие одна другую, которые нельзя переставлять произвольно» 31.
С четкостью «математической формулы» (выражение принадлежит Л. Блоку) Брюсов выводит новые задачи, которые ставила перед собой поэзия XX века. «Внимательный наблюдатель за процессами, происходившими в литературе, и вместе с тем человек новой эпохи, Брюсов прекрасно понял роль, которую сыграл во второй половине XIX в. психологический роман, который был для него высшим проявлением художественного творчества. И он
29 КузминМ. Условности. Пг., 1923. С. 183.
30 Врктщп&кщГ. То фу о rot) К.П. Карокрп. AOiiva, 1975. Е. 35.
31 Брюсов Б. Собр. соч. в 7 тг. М„ 1973. Т. 1. С. 604-605. уподобил стихотворный сборник роману, желая видеть в нем такую же связность и последовательность в изложении «событий», хотя теперь это были уже события внутренней жизни поэта, прочно соотносимые, однако, с историческим временем. На сцену вышел и определился как законченный художественный образ, лирический герой, который и стал психологическим центром стихотворного сборника, единого отныне и цельного художественного образования. Отделы в стихотворном сборнике стали отныне главами, последовательно раскрывающими его содержание, т.е. фактически этапами внутренней эволюции лирического героя, периодами его развития и становления как личности»32.
В этом же общем русле художественного поиска развивается и творчество Блока, который применительно к своему трехтомному «Собранию сочинений», формируемому в 1910-1912 годы, тоже использует выражение «роман в стихах». Главные его свершения - в воссоздании пути личности в историческом времени, чего он достигал «вочеловечиванием», т.е. «воплощением в стихотворных произведениях личности, сформированной условиями среды и времени» 33. Причем средства этого воплощения обладали уже не исключительно лирическими, но и эпическими, повествовательными чертами.
Пути исканий и открытия русской поэзии начала XX века Кавафису были неизвестны. Тем значительнее их типологические схождения, выявляющие настоятельную потребность литературного процесса эпохи. «Полный», подобно мандельштамовскому Одиссею, греческим «пространством и временем», Кавафис по-блоковски заражен идеей «пути», которая постепенно выкристаллизовывается у него в кривую исторического пути греков и воплощает ее, «вочеловечивая» эволюционирующие представления в исторических моделях. Вместе с тем он по-брюсовски владеет поэтическим сюжетом и действительно умеет извлечь из темы «все, что она может и должна дать». Эпическая струя в его творчестве намного сильнее, чем у Брюсова и Блока, и ее генетическая связь с реалистической психологической прозой представляется тем более очевидной. Кроме того, если у русских поэтов-современников блуждания в переходах пространств и времен, как правило, экстенсивны и нередко антологичны, Кавафис четко и целеустремленно очерчивает свои
32 Долгополое Л.К. Александр Блок. Л., 1978. С. 69.
33 Долгополое Л.К. Александр Блок. С. 114-115. географические и хронологические пределы и раскрывает тему в развитии, во временной протяженности, в общей сюжетной сети.
На непосредственном материале поэзии Кавафиса 1910-х годов мы можем наблюдать, как возникают тематические узлы, из которых вырастает эвристическая конструкция его александрийской модели. Стихотворения, составляющие их, объединяются временем и местом действия, их персонажи функционируют на единой орбите, внося свой важный штрих в общее полотно эпохи. В совокупности они дают нам некий аналог с романом-эпопеей. Подобно тому, как «Человеческая комедия» Бальзака объединяет общим эпическим замыслом его романы и новеллы в единое монументальное целое, миниатюры Кавафиса тоже составляют некое единство, обретающее именно в своей сцепленности и взаимосвязи панорамность и особый динамизм художественного обобщения. Как и у Бальзака, у Кавафиса тоже есть герои, выступающие то главными, то второстепенными действующими лицами, и у читателя возникает ощущение их постоянного присутствия в изображаемом - даже тогда, когда они остаются за кулисами; гак достигается особый эффект полноты жизни. Картины крупного плана чередуются с мелкими штрихами частных эпизодов, выполняющих роль характерной бытовой детали и придающих общему полотну колорит подлинности и теплоты.
Такого рода роман-эпопею в миниатюрах Кавафис создает на материале эллинистической эпохи, и центральная ее часть посвящена Александрии. Крупным сюжетным центром александрийского цикла стал короткий период конца 30-х годов до н.э., ознаменовавшийся окончательным завоеванием эллинистического Египта Римом. Если стихотворение «Покидает бог Антония», где Кавафис совершил «урочищное» введение александрийского мотива, использовало исторический материал34 исключительно в философском ключе, очерчивая позицию человека в критический момент на грани жизни и смерти, то следующий за ним тетраптих («Александрийские цари», «Цезарион», «31 год до Р.Х. в Александрии» и «В малоазийском деме») запечатлевает этот короткий отрезок времени в исторических и бытовых ракурсах, в красноречивых сценах общественной и частной жизни, воплощающих, атмосферу времени.
Намеренная авторская отстраненность проявляется двояко: в самом использовании исторической модели, а также в отказе от
34 Рассказ Плутарха о последних часах Антония перед вступлением в Александрию войск Октавиана. твердого фабульного каркаса, что позволяет не соблюдать последовательности событий и непринужденно складывать из миниатюр мозаичную панораму. Это особенно ощутимо в большом эллинистическом цикле, который выстраивается как предыстория александрийского. В географическом отношении он значительно шире и охватывает весь эллинистический мир - Македонию, Египет, царство Селевкидов - опять-таки в критический период начала римской экспансии. Это сцены первого действия долгой исторической драмы, которая завершится развязкой в Александрии. Подлинный исторический факт - подчинение набирающим силу Римом разобщенных и ослабевших эллинистических государств -увиден Кавафисом как типическое явление, так или иначе повторяющееся в каждую историческую эпоху.
Обнаруживая в россыпи миниатюр предусмотрительно заложенные Кавафисом явные и скрытые скрепы, хронологические и фабульные сцепления (например, родственные и политические узы, связывающие героев), читатель сам конструирует микророман-эпопею. Каждое новое стихотворение, пополняющее мозаику, воспринимается с радостью узнавания, как ожидаемое продолжение -даже если его связь с циклом весьма опосредованная, отдаленная и даже если сюжетной связи нет вовсе, но есть общая орбита региона, эпохи, и новый эпизод все-таки вносит желанную лепту в ее характеристику, как это бывает в романах с некоторыми персонажами, выпадающими из фабульной схемы, но тем не менее совсем не лишними. В этих художественных решениях Кавафис активно использовал возможности документальных жанров, намного предвосхищая читательский Спрос на отстраненное, подчеркнуто объективизированное описание событий и те эстетические находки, которыми откликнется на этот спрос мировая художественная литература.
Вовлеченный в игру творческого участия, «выстраивая хронологию» греческого мира, читатель может начать с диптиха «В 200 году до Р.Х.» и «В большой греческой колонии, в 200 году до Р.Х.», с момента, когда в видимом могуществе эллинистического мира уже намечались первые трещины. Затем он откроет тему разрозненного, подтачиваемого внутренней междоусобицей противоборства эллинистических государств с Римом («Битва при Магнесии») и проследит ее главным образом через трагическую судьбу сирийской династии («Слово к Антиоху Епифану», «Недовольство Селевкида», «Деметрий Сотер»), а также через примыкающие стихотворения (например, «Посольство Александрии», «Ороферн», «Любимец Александра Вала»), поставляющие дополнительную информацию - уже под другим углом зрения, в излюбленной кавафисовской технике игры светотенью.
Убедительным примером применения техники взаимодополняющего освещения послужит более поздний диптих «В 200 году до Р.Х.» (1931) и «В большой греческой колонии, в 200 году до Р.Х.» (1928), где уже вынесенные в название даты (еще один любимый прием Кавафиса) побуждают к сопоставительному прочтению. Привычный расчет поэта на историческое знание и творческое соучастие читателя в данном случае специально запрограммирован в замысле, который включает постскриптум истории, остающийся за пределами текста. Стихотворение «В 200 г. до Р.Х.» по праву признано блестящим образцом диалектического исторического видения: походы Александра Македонского обозреваются с трех временных уровней - эпохи Александра, эпохи рассказчика (сто лет спустя, в 200 году до Р.Х.) и эпохи читателя. Последняя не заявляется, но подразумевается, наделяется полномочиями объективного верховного судьи, способного до достоинству оценить и восторженный гиперболизм в суждениях эллинистической эпохи:
Удивительному всегреческому походу, беспримерному, победоносному, увенчавшему славою эллинский меч, мы судьбою обязаны, мы, небывало великий новый эллинский мир, мы, наследники гордых предтеч.
Мы - от александрийцев до антиохийцев, от египетских греков до греков сирийских, селевкийцы, мидийские греки и персидские и остальные.
Мир обширных владений с его исключительным чувством сообразности - гибкий при всех обстоятельствах. И Единое Наше Наречье донесли мы до Бактра, до Индии донесли.
Перевод Евг. Солоновича) и заключенную в подтексте стихотворения трагическую иронию истории35, и подлинную, подтвержденную временной дистанцией ценность свершений Александра.
Почти тридцать лет назад Кавафис писал в своей «Поэтике»: «Поэт, даже если он работает в философском ключе, остается художником; он представляет одну сторону медали, что отнюдь не означает, будто он отрицает другую ее сторону.» 36 За тридцать лет зрелой творческой работы умение видеть изображаемые события неоднозначно, во всей многогранной сложности их порою противоречивых свойств и тенденций станет сущностью его художественного метода. Равно как и умение увидеть в статичной картине приметы движения времени, ее вовлеченность в поток истории.
Более раннее стихотворение Кавафиса «В большой греческой колонии, в 200 г. до Р.Х.» присовокупляется к «В 200 г. до Р.Х.» как фрагмент, деталь обширной панорамы. Здесь, на конкретном примере, явственно ощутимо то движение вниз по наклонной плоскости, которое в панораме лишь угадывается, и то с многовековой временной дистанции. Общество, достигшее значительного благополучия и вместе с тем зашедшее в тупик. В более отвлеченном и символическом плане Кавафис уже нарисовал однажды такую картину в стихотворении «Ожидая варваров». Там, не находя внутренних ресурсов обновления, город ждал спасения извне, соглашаясь даже на варварское вторжение (И что же делать нам теперь без варваров? //Ведь это был бы хоть какой-то выход). Здесь речь идет о преодолении кризиса путем реформ. Ирония поэта получает двойную направленность: с одной стороны, против тщетных попыток обратить вспять движение истории реформенными полумерами, с другой - против близорукого эгоизма, маскирующего
35 С временной дистанции Кавафиса и его читателя можно разглядеть, что именно в этом 200 году до н.э. начнется римско-македонская война, которая закончится крупным поражением Македонии в 197 г. до н.э. Десять лет спустя в битве при Магнесии (см. одноименное стихотворение Кавафиса) будет разбит римлянами Антиох III, и царство Селевкидов потеряет большую часть своих владений. Для эллинистического мира начинается период упадка. Момент, запечатленный Кава-фисом, фиксирует перелом, который проявится, однако, гораздо позже, в отсвете последующих событий.
36 Кара<рщ К.П. А\'ёк5ота ndji. Ksipsva. Е. 41—43. нежелание поступиться своими интересами и бездействие рассуждениями о несовершенстве, присущем всем делам человечьим:
К чему спешить? Поспешность столь опасна.
Поспешные меры ведут к сожаленьям вечным.
Конечно, многое в колонии неладно - это ясно.
Но несовершенство присуще всем делам человечьим.
Ведь все ж мы как-то движемся вперед.
Перевод А. Величанского)
Раздвоенность, дух индивидуализма, неспособность к позитивному действию. Наделяя своего героя-повествователя этими чертами переходной эпохи, Кавафис свидетельствует о самой эпохе, когда эллинистический мир начинает свое движение к закату.
Используя цикличную структуру, Кавафис имеет возможность многопланового, сферического освещения темы по тем же принципам, что и в монументальных романах. Он исследует и проблему власти (на всех уровнях - не только во внутригосударственном, но и в международном масштабе, во взаимоотношениях крупных и малых держав, говоря современным языком - метрополии и колонии, и более широко: во взаимоотношениях уходящей и восходящей исторических сил), и механизм политической жизни, и судьбы творческой интеллигенции, и положение масс. Однако во главу угла он ставит проблему человеческой личности, высвечивая ее многостороннюю детерминированность историческим временем и вместе с тем используя ее свидетельство для уяснения характера исторического времени.
Стихотворения этого цикла создают в совокупности многообразную панораму эллинистического мира на разных стадиях его эволюции. За пристрастным вниманием поэта к кризисным явлениям эпохи позднего эллинизма с постоянными войнами, междоусобной рознью, нарастающей и всеобъемлющей экспансией Рима угадывается поиск художественных формул, в которых отразился бы новейший исторический опыт человечества - британский колониализм и его политика в Африке, балканские войны 19121913 годов, обострившие международные противоречия и ускорившие начало первой мировой войны. И, наконец, сама первая мировая война: «С кануна 1914 по 1918 г. в его поэзии слышится гул первой мировой войны: гот же накал в раздорах между малыми государствами, те же коалиции и антикоалиции, те же честолюбивые апелляции к "славному прошлому", а по сути дела то же попрание национальной независимости и - под предлогом покровительства -распространение тени колониализма на малые королевства восточного бассейна Средиземноморья»37.
Таблица, составленная М. Пиерисом38 и представляющая в одной графе стихотворения Кавафиса (с указанием дат написания и публикации), а с другой - на хронологической параллели -исторические события 1911-1923 годов, иллюстрирует их внутреннюю соотнесенность; историческая атмосфера, воссоздаваемая Кавафисом, как бы накладывается на тревожную грозовую атмосферу 10-х годов XX века. Все, что было сказано выше об эмпирическом материале поэзии Кавафиса, подтверждается теперь в новом качестве: источником творчества по-прежнему служит действительность, однако ее горизонты необычайно расширяются -от жизненного опыта личности к опыту нации, к духовному опыту, который эпоха диктует человечеству. Фактом личного опыта поэта становится сама история. * *
Сколь парадигматически (на уровне панхронии и пантопии) функционирует структура этого исторического комплекса, мы осознаем, когда Кавафис станет воспроизводить ее на раннехристианском материале. Воссозданная опять-таки в живой плоти конкретного индивидуального переживания, с «точностью», но не «точечностью» (Т.В. Цивьян), его парадигма обнаруживает развернутые и углубленные черты исторической типологии, а также экзистенциальные надвременные грани с поразительными возможностями их актуального восприятия в свете новейшего исторического опыта XX века.
Исследуя вопрос о том, что именно привлекает Кавафиса в эллинистической эпохе (тогда как, по его же признанию, во многом родственнее ему была Византия), Сеферис делает попутно очень важное замечание: «Что меняется со сменой эпох, так это отношение человека к самому себе, к своему ближнему, к богу; явления взаимосвязанные»39. Как раз эти переходные моменты в эволюции человеческого сознания чрезвычайно и с нарастающей силой
37ЛШадГ. Карасе К(п кпор{а. АОг^а, 1974.2. 194-195.
38 Пкрг/дМ. По17]<77| кол кгтор^а. «То Дтро», 1979, N 6. 247-249.
39 Ееуерщ Г. О.я.,о. 399. привлекают Кавафиса, и на заключительном этапе творческого пути обращение уже не столько к эллинистической, сколько к позднерим-ской эпохе, когда столкновение христианства и язычества создает особо острые ситуации идеологической по сути дела борьбы, самым непосредственным образом перекликающиеся с коллизиями современности, представляется ему весьма плодотворным.
Интенсивную разработку зрелым Кавафисом темы раздвоенного человеческого сознания можно назвать провиденциальной, и, пожалуй, самым ярким ее примером служит стихотворение «Мирис, Александрия, 340 г.» (1929), как бы перебрасывающее мостик из эллинистической, языческой Александрии в Александрию христианскую. Недаром Александрия присутствует в названии стихотворения, причем не как служебное упоминание, а как специально заявленная полноправная тема. Через историю Мириса и его друга поэт рисует портрет общества, в котором сферу человеческих отношений упорно разъедает ржавчина отчужденности. Враждующие религии, словно враждебные идеологические убеждения, разверзают пропасть между близкими людьми, внушая мучительные сомнения в возможности человеческого взаимопонимания и родства душ.
Драма отчужденности, еще не ставшая тогда предметом пристрастного внимания философии и литературы, воплощается поэтом в ключевом слове чужой. В нем рассказчик-язычник сосредотачивает свое трагическое ощущение разобщенности с другом, христианином Мирисом - не потому, что тот умер, а потому что атмосфера религиозной нетерпимости в доме умершего заронила в его сердце подозрение, будто еще и при жизни Мириса, он всегда был тому чужим.
И вдруг невероятное открытие меня пронзило. Появилось чувство, как будто Мирис от меня ушел, такое чувство, что он присоединился к своим, и я с моим нехристианством ему ч у ж о й. И тут еще одно сомненье мелькнуло: неужели я ослеп от страсти, неужели был ему всегда чужим?
Перевод Евг. Солоновича)
Выделяя в тексте эти спаренные слова -всегда (лоппа) и чужой (£ёуод), вынося в название стихотворения рядом с именем Мириса город и дату, Кавафис возводит кризисное духовное состояние Александрии в 340 году после Р.Х. и, конечно же, вечную проблему человеческого одиночества в ранг типологической категории.
Показателен сдвиг в интерпретации, которую получает давняя тема Кавафиса- психология массы. В одном из первых значительных исторических стихотворений, закладывавших фундамент александрийской модели, «Александрийские цари» (1912), характерная для поэта техника контраста между видимым, показным, и действительным, подлинным, апеллирует к осведомленному читателю, который соотнесет триумфальное венчание детей Клеопатры на царство (в 34 г. до н.э.) с роковой для эллинистического Египта битвой при Акции, три года спустя. Трагическая ирония, заключенная в постскриптуме истории, проливает свет на бутафорский характер действия. Блестящий парад царей был только представленьем, и это ни для кого не составляло секрета. Знали об этом и разумные александрийцы, тем не менее, ничуть не интересуясь политической подоплекой,
И торопились, и к Гимнасию сбегались, и криками восторга одобряли на греческом, египетском, еврейском блестящий тот парад александрийцы, а знали ведь, что ничего не стоят, что звук пустой - цари и царства эти40.
Хотя в Гимнасии Александрии им отведена роль зрителей, для Кавафиса они - главное лицо, свидетели эпохи распада исторической формации, девальвации ее общественных институтов и носители сопряженной с этим политической индифферентности. Именно политическая индифферентность масс, их психология (как социальное следствие общественных процессов) уже тогда оказывается в центре внимания поэта.
Дальнейшее развитие эта тема получит в цикле Юлиана, обретая, в соответствии с обновленным жизненным опытом поэта и новым историческим материалом, принципиально новые акценты. Не
40 г»
Здесь и далее, где переводчик не указан, стихи цитируются в переводе автора настоящей работы. будет преувеличением сказать, что в цикле о Юлиане интереснее, полнокровнее очерчен не сам Юлиан, а его оппонент - христианская масса. Если в эллинистических стихотворениях нивелирующее, развращающее воздействие кризисного времени увидено в гражданской пассивности масс, то на материале раннехристианской эпохи на первый план выдвигаются акции слепого фанатизма. Христиане Кавафиса лицемерны, корыстны, агрессивны; они не зрители, а участники фарса. Их речь (от первого лица множественного числа), воспроизводимая поэтом прямо или косвенно, доносит до нас голос толпы, штрихи ее психологии.
Апогеем разоблачительное™, достигаемой преимущественно через речевую характеристику, стало последнее стихотворение Кавафиса «В окрестностях Антиохии» (1933), опубликованное уже посмертно. Конфликт Юлиана с христианами предстает здесь в ожесточенной форме: фанатичная масса переходит от ропота к разрушительному действию. Никогда еще поэтическая речь Кавафиса не была до такой степени насыщена чисто разговорными, порой жаргонными, откровенно грубыми выражениями, призванными раскрыть тупую озлобленность антиохийцев против Юлиана, их радость по поводу удара, который они сумели нанести противнику: когда Юлиан распорядился вынести из рощи Аполлона останки христианского мученика Вавилы, антиохийцы отомстили ему поджогом храма Аполлона.
Речь невежественной толпы живо демонстрирует ее темную страшную силу. Прямое соседство фраз, исполненных яростной угрозы, с фразами показного благочестия, выделенными в тексте ритмически - торжественным замедлением темпа, создает редкий эффект обличения. Чрезвычайно выразительны отступления - слова, сказанные как бы про себя и заключенные Кавафисом в скобки, развернутое и подчеркнуто злорадное описание гнева Юлиана, выделение в строфу строки, подводящей итог христианской акции, и, наконец, главный повод для удовлетворения - то, что Юлиан лопается от злости:
И мы перенесли святые мощи, мы с почестями их перенесли.
Храм выиграл от этого. Еще бы! Он загорелся, запылал костром, огромным полыхающим костром, в котором храм и Аполлон сгорели.
Осталось пепел подмести, как мусор.
Что было делать Юлиану? Лопаться от злости, возводя поклеп на христиан, что, дескать, мы устроили поджог. Пусть'говорит. Он сам не верит в то, что говорит. И продолжает лопаться от злости.
Перевод Евг. Солоновича)
Насыщенный общественный опыт человека XX века, знающего на какой почве возникают тоталитарные режимы, помогает увидеть этот цикл Кавафиса в весьма актуальных пророческих проекциях. Их подтверждает известная историческая эволюция 30-40-х годов, и один из нашумевших вводных ее актов - поджог рейхстага - произошел как раз тогда, когда умирающий поэт писал свое последнее стихотворение «В окрестностях Антиохии». Устанавливать между этими фактами прямую связь было бы неправомерной натяжкой, однако упорная разработка темы в последние годы жизни поэта явно выдает его смутную озабоченность симптомами нового социального явления, заявлявшего о себе на политической арене мира. Цикл о Юлиане пронизан современным ощущением напряженной политической полемики и борьбы, захватывающей и ожесточающей все большие массы людей.
Что касается самого Юлиана, то при всей любви Кавафиса к древним богам («Ионическое»), которых Отступник пытается воскресить, пуританские преобразования, вносимые им в языческую религию, явно не вызывают симпатии и одобрения поэта. Дело, однако, не только в этом. Усилия Юлиана направлены против течения исторического времени, и его противоборство с ним обречено. Недаром Кавафис выставляет противниками Юлиана не его теоретических оппонентов, а массы. В своем абстрактно идеалистическом стремлении повернуть время вспять Юлиан мог бы предстать как фигура трагическая, но поэт почти не развивает тему в этом аспекте, всего лишь отмечая, что враги Юлиана подают его поступки в искаженном освещении.
В религиозных с идеологическим подтекстом схватках раннехристианской эпохи Кавафис не принимает ни ту, ни другую сторону. Его интересует сама по себе проблема личности и масс в переломные, кризисные моменты. Такое восприятие эпохи раннего христианства было достаточно распространенным явлением в европейской культуре конца XIX - начала XX века. Яркие параллели с Кавафисом просматриваются в творчестве Д. Мережковского, которого также чрезвычайно интересовало раннее христианство и фигура Юлиана Отступника. В 1896 году (когда Кавафис написал оставшееся неизданным свое первое стихотворение о Юлиане -«Юлиан, посвящаемый в мистерии») Мережковский издал роман о Юлиане, названный им сначала «Отверженный». В 1902 году, при втором издании, роман получил название «Смерть богов. Юлиан Отступник».
Мережковский раскрывает ту сторону личности и деятельности Юлиана, которую Кавафис практически не затрагивает. Он видит в своем герое жажду веры, тягу к истине, подлинности, красоте, человечности. Но, в полном единодушии с Кавафисом, он выявляет историческую обреченность усилий Юлиана: попытки удержать отжившие ритуалы сопряжены с сознательным обманом, подменой подлинного искусственным. Неслучайны в этой связи и сюжетные совпадения, обращение к одним и тем же историческим эпизодам (например, к сцене с мощами Вавилы и поджогом храма Аполлона). Примечательно, что и Мережковский выделяет в характеристике христиан воинствующее невежество, тупость, готовность к насилию, противоречащие сущности христианства.
Ощущение типологической параллели с Кавафисом (но уже в сфере поэтики) вызывает и предисловие, которое Мережковский пишет в 1914 году, открывая романом о Юлиане собрание своих сочинений. Остановиться на этой параллели представляется целесообразным, поскольку в ней затрагиваются основные методологические принципы, которыми руководствуется в своем зрелом творчестве Кавафис, новаторски и самобытно подключаясь к общему руслу европейских тенденций.
Подчеркивая внутренние взаимосвязи между всеми книгами своего «Собрания сочинений», Мережковский явно разделяет распространенное в европейской и, в частности, в русской литературе стремление к целостности творческого потока и внутренней сцепленности составляющих его произведений, которое как раз в те годы становится[ фундаментом художественной концепции Кавафиса: «читатель, который пожелает оказать внимание предлагаемому собранию сочинений, заметит, что между этими книгами, несмотря на их разнородность, иногда разногласие, существует неразрывная связь.
Не ряд книг, а одна, издаваемая только для удобства в нескольких частях. Одна об одном» 41. Как тут не поставить рядом аналогичное заключение Сефериса о Кавафисе: «Я лично убежден, что начиная с определенного момента - который я датирую примерно 1910 годом -поэзию Кавафиса нужно читать и исследовать как единую поэму в развитии - "work in progress" - завершаемую смертью. Эта целостность - большое его достоинство» 42.
Касаясь методологии многогранного освещения избранной темы, Мережковский затрагивает ряд вопросов, которые ставил и Кавафис - в своей «Поэтике» и в своем художественном поиске: «Что такое христианство для современного человечества? Ответ на этот вопрос - вот скрытая связь между частями целого. И в разнообразных постановках вопроса и в ответах существуют противоречия. Если бы я был проповедником, я поспешил бы устранить или спрятать их, чтобы увеличить силу проповеди; если бы я был философом, я постарался бы довести мысль до окончательной ясности, чтобы единое в многообразии светилось, как луч в кристаллах. Но я не проповедую и не философствую (а если иногда то и другое делаю, то нечаянно, наперекор себе); я только описываю свои последовательные переживания. И думаю: как бы ни было несовершенно описание, оно все-таки может получить цену в качестве подлинной записи о том, что было. Ибо то, что было со мной, было или будет со многими из моих современников; чем я жил и живу, тем жили и будут жить многие. Как бы ни ответило современное человечество на вопрос: что такое христианство? - самого вопроса не обойти. Противоречия разрушают систему, ослабевают проповедь, но утверждают подлинность переживаний» 43.
В первой части цитаты, где речь идет по существу о многогранном и неоднозначном воссоздании ситуаций и характеров, когда противоречия не «прячутся» и характерные черты не доводятся до противоестественной в искусстве «окончательной ясности», слова Мережковского очень близки уже упоминавшимся размышлениям Кавафиса о том, что «поэт, даже если он работает в философском ключе, остается художником; он представляет одну сторону монеты, что совсем не означает, что он отрицает другую ее сторону.». В
41 Мережковский Д. Полное собрание сочинений. М., 1914, Т. 1. С. V.
42 Is(pspt]gГ. O.K., ст. 328.
43 Мережковский Д. Там же. зрелой художественной практике эта установка на амбивалентность претворялась с неуклонной последовательностью.
Что же касается второй части цитаты, то местами она почти дословно совпадает с рассуждениями Кавафиса (в «Поэтике», 1903) о том, как произведение, опирающееся на опыт «лично пережитых обстоятельств», а также «связанных с ним отдаленно или близко», может «правдиво воплотить жизнь других», «неизбежно соответствовать чьей-либо жизни». «Заключенная в нем истина может быть мимолетной, недолговечной. Но если в ней есть интенсивность и глубина, она заслуживает признания как с художественной, так и с философской точки зрения». Такое произведение будет «соответствовать впечатлению, которое испытали другие»44. Уместно вспомнить и еще более раннее высказывание Кавафиса в связи с романом Т. Гарди «Джуд Незаметный» о «достоверных наблюдениях над жизнью», которые несомненно «впоследствии принесут плоды»45. Слова же Мережковского о том, сколь важна подлинность записи и «подлинность переживаний», непосредственно перекликаются с упорными раздумьями Кавафиса о творческой «искренности», о «необходимом для искусства стремлении к правдивости».
Прибегнув к выражению Мережковского, можно констатировать, что Кавафис тоже прежде всего описывает «свои последовательные переживания», рассчитывая, что «подлинность его записи» гарантирует совпадение его опыта с опытом других и тем самым обеспечит жизненность его произведений. Однако его интересует не только этот аспект. Уже на первых подступах к осмыслению волнующей его проблемы поэт подчеркивает необходимость «интенсивности и глубины обобщения», благодаря которому в конкретной судьбе высвечивался бы не только «индивидуум», но и «человек», иными словами выявлялась бы общечеловеческая закономерность.
Именно в этом направлении - исследования диалектических взаимосвязей частного и общего, их непрерывного взаимодействия и видоизменения - протекает творческое движение Кавафиса в период зрелости. Пользуясь формулой А. Блока, можно было бы сказать, что Кавафис'тоже «вочеловечивает» свой жизненный опыт, причем в универсальных образах исторической модели. Не стоит снимать со счетов попутное авторское стремление создать себе тем самым
44 Ка$дц>щ К.П. Ауекбота лх^а ке^ста. 51-53.
45 ТЫркадЕ. О Кофасргц; кои г| ело^л тои. А0т|уа, 1971. 2. 266. историческое «алиби», но главным для Кавафиса был способ не просто зашифровать свои переживания, а посредством иносказания вывести его за пределы узкой субъективности, включить их в систему диахронической парадигмы.
Проникновение в смысл времени как объективной закономерности, которой подвержены не только индивидуум- в своем преходящем земном существовании, но также судьбы народов, формации, эпохи, до определенной степени примиряет поэта с сознанием неизбежности конца, тем более что крепнущая вера в будущее своей поэзии развеивает мысли о «тщетности» усилий в пределах столь краткой человеческой жизни. Осмысление исторических судеб греков, их пути сквозь века, их способности, несмотря на все превратности, сохранить свои творческие силы и национальный дух вселяет в поэта своеобразный скептический оптимизм. В ходе именно этого процесса - «вочеловечивания» в множество судеб своих размышлений о возможностях личности в жестких рамках времени и среды - осуществляется, по словам Г. Саввидиса, переход от «драмы личного Я к катарсису общенационального и общечеловеческого МЫ» 4б. аде'^Г.Я.МжраКарафжа. Т. 1, А6г]уа, 1985. Е. 116.
V. Фермопилы, символ героического стоицизма
Как «неумолимую осажденность» характеризует условия жизни человеческой личности в творчестве Кавафиса поэт Г. Темелис, подчеркивая при этом, что тема «осажденности» является для него основной и многообразно варьируемой: «Кавафис выражает смысл этой неумолимой осажденности в циклах стихотворений так, что они почти все стягиваются вокруг одного центра. Вся его поэзия - по сути дела одна поэма: при всем разнообразии оттенков внимание постоянно и настойчиво направлено на одну и ту же цель, но с самых разных позиций и точек зрения. Другие поэты ставят множество тем, Кавафис же поглощен одной-единственной, освещая ее со всех сторон, словно рассчитывая исчерпать все ее возможности.» 47.
Упорно и неотступно на протяжении всего творческого пути Кавафис развивал тему осады человека временем, скорбя о неизбежном расставании с молодостью, красотой, жизненными силами. Как неизменную составляющую человеческого существования видел он непреодолимую дистанцию между желаемым и действительным, ставя вопрос опять-таки на очень разных уровнях - от бытового до социального. Человек бессилен не только удержать молодость или вернуть хотя бы на час минувшее счастье, он подчас не может в полной мере управлять своими же чувствами и поступками.
Герой стихотворения «Страхи» (1911) Миртий (Кавафис в скобках дает характерные и многозначительные подробности его биографии: это сириец, обучающийся в Александрии в IV веке н.э., отчасти язычник, отчасти христианин, а следовательно, человек с раздвоенным сознанием) решает всецело отдаться наслаждениям чувственной жизни, будучи уверенным, что в любой момент может остановиться и возвратиться к аскетическим духовным занятиям. Кавафис дает нам только его монолог, без корректирующего эпилога, рассказывающего о последующей судьбе Миртия, без авторских ремарок,' кроме одной, заложенной в названии (буквально: «Опасное») и как бы предупреждающей об опасности: возврат теоретически возможен, но практически трудно осуществим. Не
47 0ёре1щ Г. Н геолог) той Ксфшрг) Аюсттоое^ кси орнх ©шоакткт]. 2. 20. осуждая героя, поскольку подлинная страсть всегда вызывает у поэта сочувствие, он призывает к трезвой оценке своих возможностей, удерживает от иллюзий. В лекции 1918 года об эротических стихотворениях Кавафиса А. Сенгопулос обратил внимание слушателей на то, что в этом стихотворении «заглавие имеет большее значение, чем обычно»: «это комментарий к стихотворению, который поэт не смог или не захотел ввести в стихотворение» 4 .
Пример крушения защитной реакции человека, оказавшейся иллюзорной, Кавафис дает нам в стихотворении «Эмилиан Монаи, александриец (628-655)» (1918). Оно не раз толковалось исследователями как прямое признание поэта, что, движимый страхом перед общественным мнением, он якобы защищает себя броней «притворства», под которой понимались и обычная замкнутость, и, главным образом, иносказательный язык поэзии. В исследовании Т. Маланоса есть специальная глава под названием «Художественное значение страха в поэзии Кавафиса».
Как уже упоминалось, алиби исторической модели, достигаемое благодаря ей остранение, объективизирование личного опыта импонировали Кавафису и, вероятно, составляли одну из его целей. Однако и выходы за эту форму, и сам характер ее использования опровергают обвинение Кавафиса в одержимости страхом. Прозрачность и четкая проявленность его символов свидетельствуют о том, что в сфере поэзии свои идеи он выражал без двусмысленности, с искренностью, которую так ценил в искусстве. К тому же направление его художественного поиска отражало не только его творческую индивидуальность, но и одну из характерных тенденций мирового литературного процесса.
Броня, о которой говорит Эмилиан Монаи, - это искомая им защита от господствующего в обществе зла. Искомая, но тщетная, о чем свидетельствуют три эпилоги ческие строки от автора:
Кто знает, выковал ли он свою броню?
Во всяком случае, носил ее недолго.
В двадцать семь лет он умер на Сицилии.
Перевод Евг. Смагиной)
48 «Н бшЯе^т1 тог) к. АХ,. НеукбкоьХои» И ЕзпОшр^сп] Тг^ут^, 1963, № 108. £.617.
Таким образом, в рамках этого же стихотворения приписываемое Кавафису стремление к камуфляжу представляется как беспочвенная иллюзия. Даже в скромной позиции самозащиты (охраны границ своего «я») желаемое оказывается недостижимым.
Примерно в это же время в стихотворении «Деметрий Сотер» (1915, 1919) Кавафис показывает пример недостижимости желаемого в сфере общественной, политической деятельности. На судьбе героя, которому поэт отдает безраздельную симпатию, обреченность эллинистических династий раскрывается, пожалуй, наиболее развернуто. Детали, которые выбирает Кавафис, призваны подчеркнуть идеальный, возвышенный, благородный характер страстной мечты Деметрия воскресить независимость и былую мощь своего государства, последовательность и волю в претворении этой мечты в жизнь, мужество и достоинство в час крушения:
И что ж теперь?
Отчаяние, боль. Увы, друзья из Рима были правы. Нет сил, способных удержать династии, рожденные походом македонским.
И все же: он боролся до последнего, он сделал все, что только было можно. И в черной горечи своей теперь одну лишь мысль он с гордостью лелеет, что в поражении, его постигшем, он мужества нисколько не утратил.
В живой человеческой судьбе, воссозданной драматически, через косвенный монолог героя (что сообщает стихотворению особый колорит жизненности и эффект сценического свойства) Кавафис раскрывает драму личности, предопределенную не только условиями ее непосредственного окружения, но также обстоятельствами общенационального и даже международного масштаба. Драма героя в какой-то мере сливается в драмой страны - в данном случае Сирии (можно предположить, что именно такой воспринимал поэт современную ему Александрию, да, пожалуй, и Грецию) - полностью подчиненной иностранным интересам, отданной во власть политических марионеток.
Воплощая в своих исторических формулах портрет политической, духовной, моральной жизни общества, Кавафис акцентирует внимание на актах несправедливости, однако вездесущность зла не обезоруживает его, беспощадная трезвость видения не становится циничной. Кавафис не просто наблюдает, он судит, и благодаря этому ракурсу авторской позиции его лоэзия не безысходна, в ней нет абсолютной фаталистической обреченности. Критицизм поэта не демонстрируется, но неумолимо проявляется в развитии сюжета, в построении образов, в речевых характеристиках. Нравственные ценности не декларируются, но неизменно присутствуют - как стимул обличения, как критерий оценок.
Исследуя поведение личности в условиях враждебного ей общества, анализируя возможные формы выбора, Кавафис безоговорочно осуждает выбор зла и насилия. Не случайно он дважды обращается к образу Нерона, неизменно подчеркивая мотив неотвратимости расплаты. Сильная личность, отвергающая не только ханжеские прописи, но и законы человечности, способная, по словам Кавафиса, «шагать по трупам», представляется ему явлением глубоко аморальным и опасным. Даже если бы мы сейчас не располагали красноречивой записью Кавафиса, в которой поэт порицает «новые философские идеи жестокости, превосходства сильного, якобы оздоровительной борьбы за устранение малых и слабых» 49, одного стихотворения «Теодот» было бы достаточно, чтобы оценить принципиальность и твердость позиции автора, не прощающего насилия ни в большом, ни в малом:
Ты думаешь, что жизнь твоя скромна, течет без бурь, вдали от треволнений и нет в ней места ужасам подобным? Не обманись, быть может в этот час в соседний дом, такой спокойный, мирный, неслышной поступью заходит Теодот и столь же страшную главу с собой несет.
В еще большей степени волнует Кавафиса реакция на насилие, и тут его интересует не только обусловленность индивидуального сознания средой и эпохой, но и самодетерминация личности, ее
49Хсфр&к Г. Псгосо Уфа АЭг^а, 1973.2. 119. ответственность за свой выбор. У истоков этой трактовки стоит одно из ранних стихотворений «Город» (1894, 1910), символ объективной реальности, которая не позволяет уклониться от ответа и не прощает недостойных ответов.
В галерее образов, раскрывающих этот аспект темы, преобладают характеры, сломленные жестоким испытанием. Констатируя с максимальной объективностью трудности, выпавшие на долю своих персонажей, поэт однако не снижает взыскательности в нравственной оценке их поступков, акцентируя проблему личной ответственности, не допуская ни малейшей скидки: отступление и тем более предательство не могут иметь оправдания, человек обязан хранить верность Фермопилам нравственного долга.
Долг ради долга», «без какой-либо нравственной целесообразности», «при полном бескорыстии относительно практических последствий» - так расшифровывает кавафисовский символ Фермопил Г. Темелис, подчеркивая, что «достоинство человека при всех формах осады расценивается как высшая степень свободы в мире необходимости», признавая, что в авторской «силе удерживать осажденного человека несгибаемым и цельным есть элемент героического». Уточняя сущность кавафисовской позиции, он говорит о «пассивном сопротивлении», о «нравственном идеализме» и находит, что высокие нравственные требования предъявляются поэтом преимущественно к выдающимся личностям, а следовательно, в его моральном кодексе есть элемент аристократизма50.
Думается, что при точных и глубоких замечаниях о бескорыстии и героизме предлагаемой автором позиции: «удерживать осажденного человека несгибаемым», о выборе им внутренней свободы, столь контрастно противопоставляемой давлению необходимости, Темелис преувеличивает «пассивность» предлагаемого Кавафисом сопротивления, отвлеченный характер его нравственного идеала и, наконец, совершенно не прав в рассуждениях об аристократизме кавафисовской этики.
В рамках обобщающих художественных формул кавафисовское видение Фермопил достаточно конкретно и социально обусловлено. Оно предполагает развитое чувство национального достоинства и готовность ценою жизни защищать свою родину («Фермопилы», «Сражавшимся за Ахейский союз»). Оно распространяется на столкновения с социальной и политической несправедливостью ьовЁцеХц<;Г., о.тс., сг. 36, 37-39.
Царь Деметрий», «Деметрий Сотер»), а также на другие возможные формы поражения. Оно предусматривает неукоснительную верность своему предназначению и своей миссии художника, которого не должны сломить ни привычек мелочность и равнодушье, ни другие превратности судьбы.
В стихотворении «Сатрапия» - как бы доказательством от обратного - Кавафис утверждает символ Фермопил в жизни творческой личности. Его герой, не устоявший под натиском житейских тягот, отступивший от своего назначения, отказавшийся от творчества ради иллюзорных благ и почестей, приходит к неминуемому крушению. Сюжетное оформление придает стихотворению остро ощущаемый колорит жизненности, а историческая ссылка переводит частный случай в ранг типического. «Сатрапия» - манифест Кавафиса, и мы обязаны привести ее полностью.
Как горек твой удел, когда тебе, взращенному для дел великих и прекрасных, судьба злосчастная отказывает вечно в поддержке и заслуженном успехе, когда стеною на пути встают тупая мелочность и равнодушье. И как ужасен день, когда ты сломлен, тот день, когда, поддавшись искушенью, уходишь ты в далекий город Сузы к всесильному монарху Артаксерксу, в его дворце ты принят благосклонно, тебе дарят сатрапии и прочее. И ты, отчаявшись, покорно принимаешь дары, что сердцу вовсе не желанны. Другого жаждет сердце, о другом тоскует: о похвале общины и софистов, о дорогом, бесценном слове «Эвге!» 51, о шумной Агоре, Театре и Венках. Нет, Артаксеркс такого не подарит, в сатрапии такого не найдешь, а что за жизнь без этого на свете?
51 Отлично, превосходно (др.-греч.).
Комментируя Лехонигису это стихотворение, Кавафис подчеркивал, что имеет в виду не Фемистокла и не Демарата и вообще не политического деятеля, а скорее художника или ученого, «который, претерпев ряд неудач и разочарований, оставляет свое искусство и направляется в Сузы к Артаксерксу, т. е. меняет образ жизни и уже иным способом добивается роскоши (тоже своего рода успех), однако не в силах ею удовлетвориться. Достойно внимания настойчивое повторение: «тот день, когда, поддавшись искушенью», - на котором основывается все стихотворение; оно содержит в себе намек на то, что герой отступил слишком легко, преувеличил события и поторопился отправиться в Сузы52. В другом разговоре с Лехони-тисом (о том, пессимистична ли поэзия Кавафиса) он сошлется на эту же строку «Сатрапии», указывая, что именно она снимает кажущуюся безысходность, создает просвет.
Даже тогда, когда Кавафис говорит об исключительной личности, он всегда или почти всегда проецирует ее ситуацию на «всех», на обыкновенного человека, на будни жизни, настаивая на том, что Фермопилы должны быть у каждого и верность им нужно проявлять постоянно, в каждом поступке. Да и сами Фермопилы, символ ратного подвига, освещаются подчеркнуто заземленно, отнюдь не в героическом контексте. Их воздвигают герои стихотворения - добровольный и целенаправленный характер их решения означает осознанный выбор образа жизни, ее основополагающих принципов:
Честь вечная и память тем, кто в буднях жизни воздвиг и охраняет Фермопилы, кто, долга никогда не забывая, во всех своих поступках справедлив, однако милосердию не чужд, кто щедр в богатстве, но и в бедности посильно щедр и руку помощи всегда протянет, кто, ненавидя ложь, лишь правду говорит, но на солгавших зла в душе не держит.
52 Лех<оущдГ.,о.к., а. 25.
О том, сколь велико и демократично доверие поэта к нравственной природе человека, может свидетельствовать слово «многие» в финальном четверостишии, многозначительно добавленное Кавафисом в скобках и утверждающее, что позиция героического стоицизма отнюдь не удел единиц:
Тем большая им честь, когда предвидят (а многие предвидят), что в конце появится коварный Эфиальт и что мидяне все-таки прорвутся.
Трагическая нота финала призвана подчеркнуть, что и в этом будничном наполнении символика Фермопил принадлежит сфере героического и стоического действия, которое может быть и малым, и великим. Как справедливо отмечает Темелис, «достоинство, духовная цельность человека выступают в поэзии Кавафиса как один из основных ее тезисов» и «обретают ценность противовеса поражению»53.
Характеризуя стоических героев Кавафиса, Темелис удачно перефразирует название поэмы Д. Соломоса «Свободные осажденные», посвященной героическим защитникам города Месолонги в период национально-освободительной революции 1821 года. Герои Кавафиса - это «осажденные свободные». Правда, развитие этой параллели Темелисом: «Если "свободные осажденные" Соломоса идут на смерть, чтобы разрушить стены осады, то "осажденные свободные" Кавафиса создают вокруг себя стены 54, чтобы утвердить
53 вёцекщдГ., о.л., а. 40.
54 Темелис апеллирует к раннему стихотворению Кавафиса «Стены» (1896, 1897), где поэт с остротой личного чувства воссоздает трагедию принудительной изоляции лирического героя, трагедию невозможности активного вмешательства в жизнь:
Бездумно и без капли сожаленья гигантские вокруг меня воздвигли стены. и вот теперь терзаюсь в заточенье, подавленный ужасной переменой судьбы, которая меня к свершениям звала. Как мог я наслаждаться тишиною мнимой свою свободу» 55, - опять-таки вызывает возражение: герои Кавафиса примиряются с воздвигнутыми вокруг них стенами, но не создают никаких стен сами; они не бегут от жизни, не отрешаются от общественных интересов, но, сознавая свое бессилие «сделать свою жизнь» и жизнь общества согласно со своим идеалом, выдвигают более скромные нравственные задачи, которые отстаивают как Фермопилы.
Завершая разговор о теме героического стоицизма в поэзии Кавафиса, уместно связать ее с некоторыми обстоятельствами биографии поэта, с некоторыми чертами его характера, которые очень по-разному освещались современниками. Как уже говорилось, Т. Маланос много и осуждающе писал о «трусости» Кавафиса. В совершенно иной тональности представляет эту же сторону характера поэта Я. Сареяннис: «Кавафис был робким, почти что патологически робким человеком. Если бы он не был в жизни настолько робким, он никогда бы не понял и не описал бы столь живо и с такой психологической точностью нерешительных, робких и трусливых людей, которых так много среди его персонажей. Когда я думаю о степени его естественной робости, я тем более восхищаюсь человеком Кавафисом. Какую борьбу он должен был вести, ежедневную и ежеминутную, как должен он был бороться с самим собой и побеждать себя, чтобы осмелиться на такое искусство!»
Указывая на новаторство поэзии Кавафиса в области формы и содержания, на гедонистические мотивы, считавшиеся отклонением от принятых обществом пуританских норм морали, Сареяннис подчеркивает, что поэт никогда «не поколебался, никогда не подумал изменить своих позиций, отступить. Он был из тех людей, которые умели охранять Фермопилы. Своим мужеством, столь непохожим на обычные представления о мужестве, он был обязан беспредельной вере и верности Искусству» 5 .
Интересно, что именно словами о мужестве заканчивает свой первый очерк о Кавафисе Э. Форстер: «.в одном он несомненно и не заметил, что стена росла!
От мира отгорожен я неслышно и незримо.
55 вщгкщГ., о.п.,с. 48.
56 Eap^iävvt]с I.A. lypha oxov KaßÖKpT). A6f|va, 1973.1.48, 50. уверен: жизнь требует мужества, иначе она перестает быть жизнью»57.
57
РотегЕ.М. Н яо(т|ог| тон К.П. Карсирт] // ЕлШЕшрт^ат] Те^тц:, 1963, № Ю8. 2.630.
VI. Суд времени
За четыре года до смерти, в 1929 году, Кавафис (под псевдонимом А. Леонтис) опубликовал заметку, вошедшую в обиход кавафоведения под условным названием «Похвальное слово самому себе». Высказав убежденность в новаторском характере своей поэзии («Кавафис представляется мне поэтом сверхсовременным, поэтом будущих поколений»), он отметил, что - при всем ее своеобразии -она не замыкается в рамках «особого случая» и «не останется заключенной в библиотеках как один из исторических документов греческого литературного развития»58.
Выражая надежду на понимание и признание со стороны «поколений будущего», лучше подготовленных к «более тонкой интеллектуальной работе», он вместе с тем отмечает и «редкие, но внушительные образцы влияния» своей поэзии в современной литературе. В самом деле, вслед за Ксенопулосом и Врисимитзакисом литературное поколение 20-х годов делает значительные шаги к сближению с Кавафисом и, что весьма существенно, видит его творчество в европейском контексте. «Это, пожалуй, единственный наш поэт, который обращается ко всем современникам, а не только к грекам», - пишет в 1924 году в посвященном Кавафису специальном номере журнала «Нэа техни»59 К. Парасхос, а позднее, возвращаясь к Кавафису заметит: «Мы восхищаемся Кавафисом, потому что он, как ни один современный грек, раскрыл во всей всеобщности проблему человеческого существования, проблему и драму». В унисон с ним прозвучит и почти пророческий отзыв А. Трилоса: «Я все больше убеждаюсь в том, что Кавафис - один из немногих новогреческих поэтов с современным европейским душевным складом и творческой манерой и в то же время с яркой и своеобразной индивидуальностью. Нет сомнения, что творчество Кавафиса принадлежит к тем очень немногим новогреческим творениям, которые могут претендовать на одно из первых мест в мировой поэзии и могут завоевать его».
И все же история восприятия Кавафиса в Греции -прижизненная и посмертная - была сложной и драматичной. Выбирая из нее - в рамках данной работы и под заданным углом зрения - лишь я Ка.$щщК.П. АуёкЗога шЦх к£ф£Уа. 2. 83-85.
59 №а Етюет, 1924, № 7-10. 2.108. этапные и позитивные моменты, необходимо назвать эссе Г. Сефериса «К.П. Кавафис, Т. Элиот - параллельные» (1947), открывшее принципиально новый горизонт постижения Кавафиса. Различив и признав главным в его поэзии современное историческое видение, выдвигающее его в один ряд с самыми выдающимися поэтами XX века, и художественный эквивалент этого видения -«мифоисторический объективный коррелят», Сеферис сделал ряд ценных и проницательных наблюдений над характером и технологией творческого процесса Кавафиса.
На следующем временном витке книга С. Циркаса Кавафис и его эпоха (1958) представит развернутую картину кавафисовской Александрии, выявляя специфические условия, во многом предопределившие многие черты его творчества, и примат жизненных импульсов в его замыслах. В 60-е годы издания, базирующиеся на архиве Кавафиса, и реализующие его исследования Г. Саввидиса откроют доступ в лабораторию поэта. 1963 год - год столетия со дня его рождения и тридцатилетия со дня смерти - вызовет обильный поток публикаций, который не иссякает и по сей день. Филологическое исследование поэзии Кавафиса входит в русло в серьезного научного анализа.
Однако главным двигателем прогресса в освоении Кавафиса была история, ее драматические катаклизмы в послевоенной Греции, та социально-психологическая ситуация, которая вызвала серьезные сдвиги в общественном сознании и литературном климате, стимулируя новое прочтение Кавафиса и все более широкой читательской публикой, и творческой интеллигенцией страны, которая встречается с Кавафисом на путях собственного художественного поиска.
Как это ни покажется странным, но именно так называемое «послевоенное» поколение, вступившее в жизнь и в литературу в горниле второй мировой войны, участвовавшее в Сопротивлении, подвергшееся послевоенному жестокому террору, прошедшее через тюрьмы и концлагеря, воспримет Кавафиса как близкого себе поэта. Полем схождения послужит однотипная кривая движения от романтического идеала (у послевоенных поэтов - от радикальной идеи общественного переустройства) к острому разочарованию и, затем, к трезвому анализу, привлекающему на помощь опыт веков и диахроническую парадигму. Общей является и принципиально важная, не утраченная в процессе «пересмотра» черта - нравственное противостоян ие.
Именно теперь греческие поэты оценивают кавафисовский, социальный и экзистенциальный, аспект изображения драмы человеческой личности, который так соответствует духовным исканиям современности:
- познание сложных взаимоотношений индивидуума с социальной средой и эпохой,
- постижение его внутреннего мира с душевными потрясениями, дилеммами и моральными императивами, выявление его возможностей и его ответственности.
Отчетливо прочитываемое теперь гуманистическое начало творчества Кавафиса становится необходимым нравственным достоянием нации. В один ряд с его «Фермопилами» греческая поэзия поставит «Золотое руно» Я. Рицоса и «Кошек св. Николая» Г. Сефериса. Мужественный, трезвый, прямой, как у Кавафиса, взгляд на вещи, высокая этическая требовательность, распространяющаяся не только на моменты чрезвычайных коллизий, но и на мирное течение будней, становятся для нее в 50-е - 60-е годы необходимой, программной позицией.
Нет сомнений в том, что аналогичные процессы на общеевропейском горизонте создают аналогичные предпосылки притяжения к Кавафису и в других странах. Думается, что на этой (в значительной степени - эмоциональной) волне возникает, после первых переводов на русский в 60-е годы, интерес к Кавафису в России.
Возвращаясь в сферу греческой литературы, нам предстоит обратить внимание на то, какие черты кавафисовского письма отвечали новым запросам греческой поэзии и оказались объектом пристрастного внимания, что ценят и чему учатся у Кавафиса его литературные потомки.
Нам кажется, будто образы его поэзии - это мы сами, или очень близки нам и сопутствуют нам, и часто мы не можем удержаться от соблазна говорить о себе их словами», «.с этой точки зрения поэзия Кавафиса - реализм будней» 60, - писал в 50-е годы Г. Темелис. «Реализм будней» бесспорно был крупнейшим художественным открытием Кавафиса, однако диапазон его реалистического искусства имеет смысл рассматривать шире,
60 Оецекг]*; Г. О.л., о. 11,61. принимая во внимание тот принципиально новый художественный уровень, который привнесло в мировую литературу историческое видение начала XX века: всеобщая взаимосвязь и взаимообусловленность явлений в микро- и макромирах непрерывно движущегося человеческого бытия; обостряющееся ощущение всепроникаемости исторического времени, его вторжения в самые частные сферы жизни, в тайники человеческого сознания, которое воспринимается как микроэлемент большого мира, как барометр его изменений.
Диалектический подход Кавафиса проявляется и в том, какой сложной, многомерной видит он природу привлекающих его переходных состояний. Составляющие ее противоречивые, порою разнонаправленные элементы предстают не в лобовом противопоставлении, а в своеобразной уживчивости друг с другом, в неоднозначных соотношениях между собой, проникать в которые научилось искусство XX века. Их сферическому освещению содействует цикличность поэзии Кавафиса и упоминавшаяся нами техника светотеней.
Авторская установка на соответствие реальности воплощается и в фактуре повествования - в конкретности, зримости, осязаемости изображаемого, и в реалистической выписанности характеров - в соответствии с направлением аналитического психологизма, получившего широкое распространение в мировой литературе XX века. По признанию поэта и критика поколения 20-х годов Т. Аграса, хотя Кавафис и «затрагивает самые глубокие и сложные сегодняшние проблемы. его исторические характеры - столь же живые люди, как те, что проходят за окном по тротуару. » 61.
Курс на соответствие реальности проявляется и в целеустремленности языковых преобразований. Пользуясь выражением Пушкина, можно было бы сказать, что слово Кавафиса становится все более «нагим», максимально приближенным к естественной разговорной речи, ориентированным исключительно на непосредственное и точное выражение мысли. Это было общим веянием новой поэтической эпохи 6 , и Кавафис сумел уловить и выразить его с редкой последовательностью.
61 Аурад Т. Кртка Т. 1. А6т|уа, 1980. Е. 57.
62 Вспомним, к примеру, высказывание И. Анненского о властной силе «будничного слова», определение Б. Пастернака - «прозы пристальной крупицы» - применительно к стихам Ахматовой, программную строку В. Ходасевича: «каждый стих гоня сквозь прозу» и т. д.
- Проводя режим строжайшей экономии выразительных средств, он предельно внимателен к каждому слову и его возможностям, «намеренно отказывается от богатства красок., чтобы выиграть в силе очертаний, в выразительности, в интенсивности и энергии внушения» 6, изгоняет эпитеты и делает ставку на глаголы. Эту импонирующую ему в Кавафисе черту отмечает И. Бродский: «.уже с 1909-1910 годов он начал освобождать свои стихи от всякого поэтического обихода - богатой образности, сравнений, метрического блеска рифм. Это экономия зрелости, и Кавафис прибегает к намеренно «бледным» средствам, к использованию слов в их первичных значениях, чтобы еще усилить эту экономию»б4. Исторический опыт наших поколений и связанные с ним вкусовые пристрастия подводят нас к признательному пониманию давнего замечания Т. Аграса: «Поэт повествует нам о трагичности будней, и с нею совершенно созвучен его корректный тон и умеренное выражение» 65.
Выше уже говорилось о том, как менялся у Кавафиса способ подачи художественной информации: от романтически импульсивного авторского самовыявления к философскому, морализирующему осмыслению и толкованию действительности и проблем человеческой личности, а затем к обретению все более бесстрастной, как бы обезличенной манеры повествования, раскрепощающейся от бинарности в пользу многомерного освещения и анализа, причем анализ становился все более скрытым, опосредованным66.
63 Врющпфщд Г. O.k., а. 66,62-63.
64 Бродский Иосиф. На стороне Кавафиса// Русская Кавафиана. М., 2000. С. 483.
65 Aypaç Т., О.п., о. 80.
66 В этом движении нарастающей авторской отстраненности Кавафиса сказывалась общая тенденция мировой реалистической литературы - в русской литературе ее утверждение связано прежде всего с именем А.П. Чехова. Еще в 1886 году в письме к брату Александру он настаивал^ что «лучше всего избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы оно было понято из действий героев», а позднее выразил эту мысль еще более обстоятельно: «Надо писать, чтобы читатель без пояснений автора , из хода рассказа, из разговоров действующих лиц, из их поступков понял, в чем дело» (Эйхенбаум Б. О прозе. Л., 1969. С. 366).
Стремление Кавафиса к естественному воссозданию саморазвивающейся действительности проявляется и там, где он сохраняет за собой роль повествователя, и тем более там, где устраняется совершенно, передавая слово своим героям. В первом случае он активно использует косвенный монолог, а также наплывы на авторское повествование не обозначенной пунктуацией речи героев. Уже эти стихотворения в значительной степени театрализованы, построены по принципу драматического изображения действительности («Деметрий Сотер», «Юлиан и антиохийцы», «Аристобул», «Дарий», «Демарат» и др).
Еще более сценичны собственно монологи, выводящие героев на непосредственную встречу с читателем. Здесь Кавафис полностью отказывается от повествовательной функции, максимально используя выразительные возможности драматического искусства, средства речевой характеристики, тонко корректирующие прямой смысл произносимых фраз, мобилизующие критическую мысль читателя. Ярче всего это проявляется во внутренних монологах с их богатой палитрой лаконичных и психологически насыщенных деталей («Мирис, Александрия, 343 г.», «Когда бы позаботились»). Уделяя пристрастное внимание психологии масс, поэт создает несколько чрезвычайно своеобразных «монологов массы», самые характерные из них относятся к циклу Юлиана. Пожалуй, именно в этих стихотворениях Кавафис особенно соотносим с Брехтом, развившим те тенденции, у истоков которых стоит греческий поэт.
Обостренное историческое видение, интерес к общественной психологии, эпико-драматический склад художественного мышления, выбор сжатой формы, содержащей заряд широкого обобщения и многообразных смысловых проекций (при предельно конкретном и предметном строе образности), динамизм интеллектуального начала, постановка проблем, разрешение которых предлагается читателю, привлекаемому к активному соучастию по ходу развертывающегося действия, - эти черты, роднящие Кавафиса и Брехта, заострены у последнего опытом экспрессионизма, отчего выступают значительно резче, контрастнее. И, наконец, эффект отчуждения, разработанный и теоретически обоснованный Брехтом, во многом предвосхищен в художественной структуре исторических моделей Кавафиса.
Реальность обретает в них обобщенную, объективизированную форму, становится своего рода эталоном, приложимым ко многим жизненным явлениям, и разный читатель в разных жизненных ситуациях будет различать, опознавать, квалифицировать их в ключе, заданном поэтом, с «запрограммированной» реакцией. В то же время дистанция, созданная открытой условностью, побуждает к самостоятельному анализу.
Типологическое сравнение Кавафиса и Брехта вполне естественно: это явления хоть и разных эволюционных этапов, но единого литературного направления. Благодаря Г. Саввидису мы знаем, что Брехт был знаком с поэзией Кавафиса в немецком переводе и одно из последних его стихотворений «Читая одного позднего греческого поэта» обыгрывает стихотворение Кавафиса «Троянцы». Для исследователей Кавафиса этот мимолетный в творческой биографии Брехта факт обретает в какой-то мере символическое значение, непосредственно свидетельствуя о внутреннем созвучии и родстве, рожденном единым художественным руслом.
Составленный самим Кавафисом (в так называемом «Похвальном слове самому себе») перечень достоинств своей поэзии, которые сполна оценят будущие поколения, гораздо более скромен: «Помимо исторической, психологической и философской ценности» называются «целостность стиля, порой достигающая лаконизма», «умеренный энтузиазм», вызывающий «интеллектуальное волнение», «правильная фраза - плод аристократической естественности», «легкая ирония».
Суд времени - на мировом уровне - оказался к нему гораздо более щедрым. Два сравнительно недавних примера популярности Кавафиса в наши дни:
В России это монументальный том «Русская Кавафиана» (2000), о котором уже шла речь во введении. Ценным дополнением к нему может служить свод зарубежных эссе (У. Оден, Ч. Милош, М. Юрсенар в журнале «Иностранная литература»), а также статья Г. Сефериса в журнале «Комментарии» б8.
В Греции это том «Собеседуя с Кавафисом» («ХшорлХялаас; ре тол* КарафГ|», 2000), антология «кавафо-генных» (прямо перекликающихся с Кавафисом)
67 «Портрет в зеркалах. Константинос Кавафис». Составление и предисловие Б. Дубина. («Иностранная литература», 1995, № 12).
68 Георгос Сефгрис. «К.П. Кавафис и Т.С. Элиот: параллельные». Перевод, послесловие и комментарии И. Ковалевой. («Комментарии», 1998, № 15). стихотворений: 153 стихотворения 135 поэтов (среди них -И. Бродский) из 30 стран мира.
На стадии своего творческого старта Кавафис поддался обаянию парадигмы Одиссея и позднее отметил вступление в зрелость «Итакой», в которой видел не конечную цель, а радость пути, счастье познания, приверженность высоким помыслам и благородным чувствам, трезвую и стоическую благодарность жизни, наслаждение любовью и творчеством. Осуществление этой малой «александрийской» программы требовало немалого мужества, и конечный успех александрийского скептика оставляет в истории литературы XX века светлый оптимистический след. Путешествие поэзии Кавафиса к Итаке продолжается.
Публикации по теме доклада
1. Кавафис Константинов Стихи. Перевод и вступление С. Ильинской// Иностранная литература, 1967, № 8. С. 198-204.
2. Ильинская С. Фермопилы современной греческой поэзии// Иностранная литература, 1972, № 1. С. 218-224. (См. №3).
3. IHvtTKayia Е. Ol верцоляйа; отг| oôyxpovri eAAr|vtKij 7coir|crn // Néa Егор, 1972, № 94. S. 311-316. (См. № 2).
4. Ильинская С.Б. Поэзия Сопротивления в послевоенной Греции. Судьба одного поколения. М., 1974. 198 с. (См. №9).
5. Ильинская С.Б. К. Кавафис и гуманистическая традиция в греческой поэзии XX века // III Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы (Бухарест 410 сентября 1974). Доклады и сообщения. М., 1974. С. 1-14. (См. №№6, 7, 8).
6. IUvmcayia Е. О Kaßd(pri<; mi т] о\)цаукткг| шраЗост] arrpv slÀr|viKri 7toÎT|(Fr| тот) 20-отЗ atôva //PiÇotmx<rrr|ç;, 30.1.1975, 31.1.1975, 1.2.1975. (См. №№ 5, 7, 8).
7. Ильинская С.Б. К. Кавафис и гуманистическая традиция в греческой поэзии XX века // Проблемы истории и культуры. М., 1976. С. 322-329. (См. №№5, 6, 8).
8. Jltvarayta £. О Kapâcpr|ç кт î] оиц<т<ттисг| raxpâ§o<ni (JTiiv eX,À,T|viiCT| toîîi<tt| тог) 20-oi3 aiévalf Néa Етохл, 1976, № 119-120. E. 273-278. (См. №№ 5, 6, 7).
9. IlivfjKayia E. H ¡joipa (xiaç yevidtç. 2vpßoX,r| ort] peAirr) тт|<; Ц£Ш7ТО^фист|<; Tcoirjcjriç cmiv EAXaêa [Судьба одного поколения. К исследованию послевоенной греческой поэзии]. Aeqva, 1976. 155 a. (См. №4).
10. Ильинская С.Б. Константинос Кавафис. К проблеме становления метода// Литература славянских и балканских народов конца XIX - начала XX веков. М., 1976. С. 302-330. (См. №11). 11. IlivoKtiyia Е. К. Kapàcpr|ç. H бшцбрсрозсл] rqç цеОойо/Voyiaç // ПоЯш^, 1976, № 6. S. 55-61. (См. № 10).
12. llivoncayia I. О Kaßäcpr|<; каг о peaXio|ioç [Кавафис и реализм] // AoSövr), 1980, т. 0'. Е. 243-260. г
13. Кавафис Консгантинос. Стихи. Перевод и вступление С.Ильинской// Иностранная литература, 1983, № 12. С. 186— 192.
14. IMvcncayia Е. К.П. Кофасрт|<;. 1863-1933.'Eva бихурацра [К.П. Кавафис. 1863-1933. Диаграмма]// Avri, №222, 7.1.1983. Е. 34-36.
15. Ilivaxayia Е. O'Evaq кш oi По1Хо( (Горо) ало tov южло too IooAiavou) [Один и многие. Цикл Юлиана]// Лй^г], 1983, №23.2. 201-213.
16. IXivcKayia Е. К.П. Kapacpr|g. Oi 5popoi 7tpo<; то ршАлсро oxriv Tcoiricrri тог) 20-ou auava. A6f|va, 1983. 364 о. (См. №№ 18, 49).
17. Кавафис Константинос. Лирика Составление, вступительная статья, комментарии (и четвертая часть переводов) С. Ильинской. М., 1984. 159 с.
18. Ильинская С.Б. Константинос Кавафис. На пути к реализму в поэзии XX века. М., 1984.308 с. (См. №№ 16,49).
19. IAivcncayia Е. Aiya Абуш ако(гт| yia то реаХдацо той Кофасрг! [ Еще несколько слов о реализме Кавафиса] // Практиса тоо Г' 2г)ряоаюо veoe^r|vncr|<; тюлене;. Афгёрсора otov КаР<крт|. A6f|va, 1984. Е. 147-154. (См. № 26).
20. Ильинская С.Б. Яннис Рицос. Очерк жизни и творчества. М., 1986. 168 с.
21. Rivcncayia Е. Mi%af|X ЛикшрЗбшоЯод. 'Evac; 'EMryvaq ото то^ роослкотЗ ооцРоХюцо'б [Михаил Ликиардопулос. Грек вереде русского символизма]. A0i|va, 1989. 297 a.
22. Ilivmcayia Е. КаР&фГ|<; - BdpvaX,r|<; - Kapocomicr|<;. Tpia яерасрага лро<; то ргаЯшцб [Кавафис - Варналис - Кариотакис. Три подступа к реализму] // Еицлюсю yia tov К.Г. Караднакг). Прёре^а, 11-14 EgJixepPpiou 1986. Прёре^а, 1990. Е. 425-428. (См. №№23, 27).
23. Ilivmcayia Е. КаР&фГ|<; - Bapvabi«; - Каросотаюц;. Tpia явраората jtpoq то ргсЛюцо [Кавафис - Варналис - Кариотакис. Три подступа к реализму] // EAAr|voyaA/uka. Афгёрсора otov Roger Milliex. A6f|va, 1990. S. 347-353. (См. №№22, 27).
24. Ilivmcayia. E. К. КарафГ|д - N. Гкооц&юф, «ev p.£pei» jtapdJlXribi// Еоукрют), 1991, № 23.2. 41-52. (См. № 29).
25. IXivmcayiaE. Ejcioripavcrai;. Ало tr|v Jiopeia ттц; sMj|vtKr|q 7tofri<xr)c; тот) 20oi3 aioirva [Заметки. Пути греческой поэзии 20-го века]. A0f|va, 1992. 110 о.
26. Шмакаукх Z. Aiya Хб-уш. акорт] yia то реаХларо пои KaßowpT] [Еще несколько слов о реализме Кавафиса] Н IMvoKayia I. Etuoti(j.üvö8u;. Апб xr|v nopsia тг|<; еШ|\акг|<; яо^отц; тог) 20ог> aiöva [Заметки. Пути греческой поэзии 20-го века]. AOrjva, 1992. 2. 13-25. (См. № 19).
27. IlivoKayia Z. Kaßa<pr|<; - Bdpvabi«; - Каро<»такг|с;. Tpia яераорага л:ро<; то реаХшцо [Кавафис - Варналис - Кариотакис. Три подступа к реализму] // 2övia IÄivoKayia. ЕзпогцАауовц. Ало ttiv icopsia гт]<; еИг|\акг|5 ло(г)от|^ той 20ог> airäva [Заметки. Пути греческой поэзии 20-го века]. AOrjva, 1992. 26-35. (См. №№ 22,23).
28. Ilivmcayia Z. О К.П. Kaßaq>T|c; каг о сгоц$о?ааик6<; к6к1о<; тоо TcspioStKou «Zvyoq» (Моа^а, 1904-1909). ТшоХоугке«; 7tpoo£yyioEiq. [К.П. Кавафис и символистский круг журнала «Весы» (Москва, 1904-1909). Типологические сближения]// Дсобиуп, 1992, т. КА'. 2. 121-135. (См. № 35).
29. Ильинская С.Б. К. Кавафис - Н. Гумилев, «отчасти» параллельные // Н. Гумилев и русский Парнас. СПб, 1992. С. 58-66. (См. № 24).
30. Ильинская СБ. «Александрийское урочище» в поэзии К. Кавафиса и М. Кузмина // Балканские чтения - 2. Симпозиум по структуре текста. М., 1992. С. 113-118.
31. Aivcncayia Z. О РсЬоод aSskpoc; тои Kaßdcpr] [Русский собрат Кавафиса] // Та Nea, 7.2.1992.
32. Ильинская С.Б. К.П. Кавафис и русская поэзия «серебряного века». Родственность поисков // Русский авангард в кругу европейской культуры. Международная конференция. Москва 4-7 января 1993. Тезисы и материалы. М., 1993. С. 8486. (См. №№ 34, 36).
33. Ильинская С.Б. К. Кавафис - М. Кузмин, александрийцы // Знаки Балкан. Часть II. М., 1994. С. 339-356.
34. Ильинская С.Б. К.П. Кавафис и русская поэзия «серебряного века». Родственность поисков // Русский авангард в кругу европейской культуры. М., 1994. С. 78-88. (См. №№ 32, 36):
35. lAivcKayia I. О К.П. Ксфасртц; Kai о оирроАдспкод кикХлх; тот) тсерюЗпауб «Zuyö<;» (Моо^а, 1904-1909). ТшоХоугкед яроаеуунтец. [К.П. Кавафис и символистский круг журнала «Весы» (Москва, 1904-1909). Типологические сближения] // ZXSGeig rri<; eXX.r|viKfj^ Xoyoxtyyiac, ps тц ^svsq Хоуотерш;.
Практшх А' AieOvouq I/uveSpioo 1иукргакг|<; Грар|штоХоу1а<;. A0r|va, 1995. 2. 285-301. (См. № 28).
36. Ильинская С.Б. К.П. Кавафис и русская поэзия «серебряного века». Родственность поисков // Литературное Обозрение, 1997, № 1. С. 73-76. (См. №№32, 34).
37. IXivaKo.yw. 27. К.П. Kaßcupr|<; Kai т| p(oancf| 7toir| ar| тои «аруоротЗ ашмх. [К.П. Кавафис и русская поэзия «серебряного века». Сб. эссе]. ABnva, 1995. 153 с. (См. № 50).
38. IXivtmayia Е. О К.П. Kaßaq>r|c; ащ Pcoaia [К.П. Кавафис в России]// 0£|шта loyoxs.yyia.c,, 1996, №2. 2. 157-162. (См. №№39,51).
39. Ильинская С.Б. К.П. Кавафис в России // Литературное Обозрение, 1997,№ 1. С. 77-79. (См. №№ 38, 51).
40. Шх'скаую. I. MgTacppd^ovrac Kaßacpt] [Переводя Кавафиса] // Н (дзтасрраспжг) 5раотг)рютт|та - Поре(а лро<; xriv Evapevri Еор<шт|. А9т|ш, 1997.2.27-33.
41. IhivcKayia E. О Kaßäcpr|g ki ецгц. Aiaßä^ovraq tov Kaßäq)T| afipspa [Кавафис и мы. Читая Кавафиса сегодня] // Rivista di studi bizantini e neoellenici, №34. Roma, 1998. P. 229239.
42. Rivcncayia E. Alto xr|v AXe^avSpeva тог) Kaßcupri arr| Pffl(ir| tod Mnpörtaia. Tojco<; екто<; xpövou [От Александрии Кавафиса к Риму Бродского. Место вне времени] // Н Л£&|, 1998, № 143. Е. 40-47. (См. № 44).
43. IlivoKayia Е. Oiav о MnpövcaKi auvävr^gc tov Kaßd<j>t} [Когда Бродский встретил Кавафиса] //То Bfjja.a, 22.8.1999.
44. IXivcKOLfiaZ. А по ttiv A^avSpsia тог) Kaßacpri ап] Рюцг) тог) Mrcpovccra. Тбзсос; бктос; [От Александрии Кавафиса к Риму Бродского. Место вне времени] // Н тго1т|<тг1 тог) icpäpaioq. Movxspvicp.o<; кш бгазгоХто^гкбгг^та ото ¿руо тог> Kaßüqn). НраклЕЮ, 2000.2. 129-136. (См. 42).
45. IlivoTcayia Е. Ol dyvooara; гюатоХгс, evöq Рсоооо ярое; Kaßacpt] каг Воитора [Неизвестные письма из России к Кавафису и Вутирасу] // То Biipa, 7.5.2000.
46. IXivcncayia Е. То evSioupspov гоо Млроутакп. yia tov Kaßacpti [Интерес Бродского к Кавафису] // То Biipa, 27.8.2000.
47. IMvGKayia Е. Eiaaycoyf| axa «Kaßa<poysvr|» тингщата тог) I. Mnpöviaia [Введение к «кавафисовским» стихотворениям Бродского] // 2uvojiiM)vta<; це tov Kaßä(pr|. AvOo^oyia ^eveov ка(3а(роу8усоу жнгщспсйу. Кёутро ЕШракгц; ГХйооад, ©£0оаХоу(1сг|, 2000. Е. 305-307.
48. Ильинская С.Б. Сквозь призму Александрии // Русская Кавафиана. М., 2000. С. 5-14.
49. Ильинская С.Б. Константинос Кавафис. Там же. С. 281-470. (См. №№ 16,18).
50. Ильинская С.Б. К.П. Кавафис и русская поэзия «серебряного века». Там же. С. 528-561. (См. №37).
51. Ильинская С.Б. К.П. Кавафис в России. Там же. С. 562-567. (См. №№ 38,39).
52. Шуокауш. Н шукоацготкнгцтт! кш. о Карасрг|<; [Глобализация и Кавафис] // То Вг|ра, 2.9.2001.