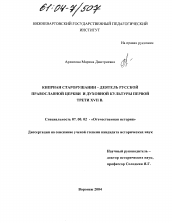автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Киприан Старорушанин - деятель Русской Православной Церкви и духовной культуры первой трети XVII в.
Полный текст автореферата диссертации по теме "Киприан Старорушанин - деятель Русской Православной Церкви и духовной культуры первой трети XVII в."
На правах рукописи
Архипова Марина Дмитриевна
КИПРИАН СТАРОРУШАНИН - ДЕЯТЕЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII В.
Специальность 07.00.02 - «Отечественная история»
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Воронеж 2004
Диссертация выполнена в Нижневартовском государственном педагогическом институте
Научный руководитель:
доктор исторических наук, профессор Солодкин Янкель Гутманович
Официальные оппоненты:
доктор исторических наук, доцент Глазьев Владимир Николаевич кандидат исторических наук, доцент Горбачев Петр Олегович.
Ведущая организация:
Воронежский государственный педагогический университет
Защита состоится « 19 » февраля 2004 г. в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.038.12 в Воронежском государственном университете по адресу: 394068, Воронеж, Московский пр., 88. Корпус ВГУ №8.Ауд.312.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Воронежского государственного университета по адресу: 394068, Воронеж, Университетская площадь, д. 1.
Автореферат разослан «^ » января 2004 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
Глебов А. Г.
20Ш ! VS-/30*
18153 3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и научная значимость темы. Одним из переходных этапов в отечественной истории считается XVIIB., оценивающийся как «эпоха начал» (по определению A.M. Панченко), водораздел между Московской Русью и Российской империей. Этот период, затянувшийся на несколько десятилетий, а по мнению ряда исследователей, охвативший даже целое столетие, затронул едва ли не все сферы общественной жизни: социальную, политическую, экономическую, культурную. Примечательной чертой этого начального этапа «нового периода русской истории» стало появление достаточно ярких персонажей, что отражало возрастание личностного начала в русской истории «переходного времени».
В последние полтора десятилетия в отечественной историографии оживился интерес к истории русской церкви, в частности, в эпоху позднего средневековья. Становится все более общепризнанным, что русская православная церковь сыграла немалую и в целом позитивную роль в событиях гражданской войны начала XVII в. и в последующие годы, когда преодолевались последствия «конечного разорения» Московского государства. При этом, однако, внимание историков по-прежнему приковывает деятельность патриархов Иова и. Гермогена, Дионисия Зобниновского, Авраамия Палицына. Крупных монографических исследований по истории русской церкви первой трети XVII в. до сих пор не существует, что, несомненно, сказывается на состоянии изученности прошлого нашей страны в этот период в целом.
Одним из наиболее видных церковных деятелей Московского государства 1610-х - середины 1630-х гг. является Киприан Старорушанин. Он сыграл немаловажную роль в русско-шведских мирных переговорах о возвращении Новгорода под власть нового царя Михаила Федоровича, позднее - в становлении сибирской архиепископии и затем, будучи митрополитом Крутицким, наконец, Новгородским. Наряду с достаточно насыщенной церковной деятельностью Киприан занимался и литературной, с его именем часто связывают зарождение сибирского летописания. Административно-церковная, политическая и книжная деятельность Киприана не раз привлекала внимание исследователей, однако до настоящего времени специального исследования о нем, которое охватывало бы весь период жизни Киприана, разнообразные стороны его деятельности, не существует, что и побуждает нас обратиться к изучению судьбы Киприана как одного из виднейших церковных деятелей России конца Смуты и двух последующих десятилетий (последние годы жизни «Старорушанин», являясь владыкой Новгородским и Великолукским, занимал второе место в церковной иерархии, очевидно, со смертью Филарета мог даже претендовать на патриаршество, чему, между прочим, помешало то обстоятельство, что Киприан был уже стар: он умер всего лишь год опуетя)
XVII в
тан оыл уже стар, он умер всею лишь ГО; ОПУСТЛ):-1
Объектом исследования служит истор! i трети
3. Г HmnlWrir ^»л »
»
Предметом исследования является церковно-административная и культурная деятельность Киприана Старорушанина.
Хронологические рамки диссертации определяются вехами жизни и деятельности Киприана - начало XVII в. - 1634г.
Территориальные рамки исследования обусловлены географией деятельности Киприана: Новгородская земля, Москва, Тобольская епархия.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования служит рассмотрение многосторонней деятельности Киприана как архимандрита Спасо-Хутынского монастыря, архиепископа Тобольского, крутицкого митрополита, новгородского владыки.
В задачи выполняемого исследования входят:
- изучение церковной, административной, политической деятельности: Киприана на всех ее этапах;
- определение места Киприана в развитии русской книжности, в частности, летописания в Сибири, Москве, Новгороде;
- выяснение роли Киприана в истории русской церкви, политической истории Московского государства в первой трети XVII в.
Настоящая работа, как думается, важна в плане изучения' истории русской православной церкви, ее роли в политической и культурной жизни России первых десятилетий «бунташного века».
Методологические основы исследования. Основной принцип исследования составляет принцип историзма, позволяющий раскрыть объективную сущность рассматриваемых явлений в различных аспектах и динамике. Мы стремились использовать и комплексный метод, посредством которого можно разносторонне осветить жизнь Киприана на всех этапах его многогранной деятельности. Историко-сравнительный (компаративный) метод дал возможность сопоставить позиции Киприана по многим вопросам общественно-политической жизни со взглядами и поступками его современников.
Степень изученности темы. У истоков историографии занимающей нас темы находятся сибирские летописи ХУНБ., где первый тобольский архиепископ изображен христианским просветителем зауральской окраины России. Такой тезис проводится, в частности, Саввой Есиповым и Семеном Ремезовым. Эта оценка была воспринята родоначальником научной историографии Сибири Г.Ф. Миллером. Последний отмечал, что Киприаном были заложены основы сибирского летописания, он же, находясь в Тобольске, успел выстроить комплекс архиерейского двора, обзавестись многочисленными земельными угодьями. Киприан, на взгляд Г.Ф. Миллера, проявил себя как умелый администратор и основатель многих храмов и монастырей.
Основные факты биографии «Старорушанина» в начале XIX в. были
'МиллерГ.^История Сибири. М.; Л., 1941. Т.2. С.68.
• к.»;
\ .-Г^ГЫ*.?- (
• ■ »»♦ иос я<у ;
приведены видным церковным историком Амвросием Орнатским.2 Первая, хотя и сжатая, биографическая справка о Киприане встречается в известном словаре выдающегося ученого рубежа XVIII - XIX столетий митрополита Евгения (Е.А. Болховитинова), впервые изданном в 1809г. Видный историк исходил в основном из сведений Г.Ф. Миллера и представил Киприана создателем синодика «ермаковым казакам» и ранней сибирской летописи.3 В середине XIX в. появились работы известного сибирского ученого Н.А. Абрамова, в которых главное внимание уделено пастырской деятельности Киприана в Сибири, в частности, открытию им новых монастырей, церковному строительству, учреждению духовного суда.
В двух статьях Н.А. Абрамова, посвященных первому сибирскому архиепископу, преимущественно воссоздана его церковно-административная деятельность, включая усилия по исправлению нравов паствы, организации владычного дома, устроению новых обителей. С точки зрения Н.А. Абрамова, Киприан явился родоначальником и землевладения тобольского Софийского дома, а также зачинателем местного летописания с целью прославления Ермака и его сподвижников как христианских просветителей Сибири.4 Основные данные и выводы Н.А. Абрамова в книге по истории Тобольска повторил К.М. Гол одни ков.
В известном справочнике знаменитого археографа П.М. Строева были систематизированы данные о продвижении Киприана по ступеням церковной
5
иерархии.
В «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева лаконично, главным образом в форме изложения показаний источников, говорится об участии Киприана в переговорах в Выборге и Москве на закате Смуты, его назначении в Сибирь и попытках исправления там нравов паствы.6
К числу наиболее значительных работ по теме, появившихся в Х1Хв., относится «История русской церкви» митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). В этом труде освещены последние этапы церковно-административной деятельности Киприана. Назначение Киприана в Тобольск Макарий объясняет необходимостью дальнейшей христианизации Сибирского края. С точки зрения Макария, крещение многих инородцев, успехи пастырской деятельности, которых добился Киприан в Сибири, объясняют вызов его в Москву и поставление в митрополиты Крутицкие. Книжную деятельность Киприана Макарий, однако, ограничивает только написанием службы в честь Ризы Господней.7
'Амвросий /Орнатский/ История Российской иерархии. М., 1807. Ч. 1., С. 79, 109.
'Евгений /Болховитинов Е.А./ Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. М„ 1995. C.17S.
Абрамов H.A. Город Тюмень: Из истории Тобольской епархии. Тюмень, 1998. С. 66-71,96-10$. 'Строев П.М. Слиски иерархов и настоятелей монастырей Российски* церкви. СПб., 1877. С.35,50,317,999, 1035.
•Соловьев С.М. Соч. М„ 1990. Кн. 5. С.69-70,72,298,309,310.
7См.: Макарий/Булгаков/. История русской церкви. СПб., 1882. Т. 10. Кн.2. С.36-41.
Первые специальные работы о Киприане, но опять-таки как деятеле сибирской церкви, принадлежат известному харьковскому историку П.Н. Буцинскому, труды которого базируются преимущественно не на летописных данных, а на актовых материалах, главным образом архивных. В монографии «Заселение Сибири и быт первых ея насельников» (1889г.) и статье, изданной также отдельной брошюрой, «Открытие Тобольской епархии и первый тобольский архиепископ Киприан» (1891г.). П.Н. Буцинский детально осветил историю учреждения Тобольской архиепископии, подробно описал процесс начала складывания хозяйства Тобольского владычного дома, проанализировал взаимоотношения Киприана со светскими властями Сибири, прежде всего с тобольской администрацией, остановился на.попытках первого сибирского архиерея обратить местных инородцев в православие, а также затронул деятельность Киприана по исправлению нравов своей паствы, в том числе в монастырях, и созданию административно-церковного аппарата Софийского дома.8
В самом конце XIX в. в «Русском биографическом словаре» и трудах «об иерархах новгородской церкви» появились лаконичные биографические справки о Киприане К.Я. Здравомыслова.9 В работах КЛ. Здравомыслова, хотя они носят справочный характер, изложены только основные факты церковной и административной деятельности Киприана, преимущественно в новгородский период его деятельности.
Наиболее крупной работой о Киприане как политическом деятеле Смутного времени является монография Г.А. Замятина. На основании обширного, прежде всего документального материала, историк, исследуя вопрос о кандидатуре шведского принца Карла-Филиппа на русский престол, постарался выявить политическую позицию хутынского архимандрита и ее эволюцию в зависимости от расстановки в Новгороде социально-политических сил и в связи с положением в «Московской Руси», а также в Швеции.10 Однако о роли Киприана в переговорах новгородцев об избрании Карла-Филиппа на московский либо новгородский престол Г.А. Замятин писал лишь попутно, не более.
Другой этап деятельности Киприана в Новгороде, уже в качестве местного владыки, но опять- таки вскользь, рассматривается в монографиях Б.Д! Грекова . о Новгородском Софийском доме. Автор останавливается лишь на церковно-административной деятельности митрополита. Б.Д. Греков показывает, что в своей церковно-административной деятельности «Старорушанин» следовал представлению о приоритете «пастырской власти» над светской, пытался, хотя в целом безуспешно, расширить земельную собственность митрополии, не останавливаясь порой перед нарушением патриарших и царских указов.11
'Буцинский П.Н. Соч.: В 2-х т. Тюмень, 1999. Т. 1,2. См. также: Сулоцкий А.И. О сибирском духовенстве. Тюмень, 2000. С.503.
®См., например: Злравомыслов КЛ. Киприан // Русский биографический словарь. СПб., 1897. Т. Ибак-Ключарев. С.646.
10 Замятии Г.А. К вопросу об избрании Карла-Филиппа на русский престол (1611-1616г.). Юрьев, 1913. "Греков Б Д. Избр. труды. М., 1960. Т. 3,4.
В последующие десятилетия работ о политической и церковно-административной деятельности Киприана почти не появлялось, зато многие историки и литературоведы обратились к выяснению роли Киприана на поприще книжной культуры. Прежде всего исследователей привлек давний вопрос о степени причастности Киприана к зарождению сибирской летописной традиции. A.M. Ставрович в неопубликованном исследовании 1920-х гг. пришла к выводу о составлении Киприаном летописи, с которой якобы и ведет начало сибирское летописание. Этот тезис позднее был поддержан Д.С. Лихачевым и Н.В. Устюговым. Однако большинство специалистов по истории ранней русской сибирской книжности не согласилось с таким заключением. С.В. Бахрушин, В.Г. Мирзоев, Е.К. Ромодановская при этом сводят роль Киприана лишь к составлению синодика «ермаковым казаком» или даже к инициативе его создания. Таким образом, Киприан лишь косвенным образом, как оказывалось, повлиял на зарождение летописания в Сибири.12 С.В.Бахрушин, остановившись на роли Киприана в возникновении сибирского летописания (сводя ее к написанию синодика «ермаковым казаком»), характеризует первого тобольского архиепископа как властного, умного, непреклонного, самонадеянного, гордого. Видный ученый отметил, что Киприану удалось обзавестись в Сибири обширными вотчинами и выстроить Софийский собор.13 На вопросе о причастности первого сибирского архиепископа к зарождению местного летописания остановились также Н.А. Дворецкая, Е.И. Дергачева-Скоп, Р.Г. Скрынников. м Совсем недавно Л. Е. Морозова приписала Киприану некий летописчик или другое сочинение, которое явилось общим источником московского Нового летописца и тобольской «Книги записной».15 Порой историки и филологи обращают внимание и на другие факты книжной деятельности Киприана. Так, Е.К. Ромодановская систематизировала сведения о книгах, которыми владел «Старорушанин». Она же высказала предположение о причастности Киприана к появлению так называемого «Документального сказания» о Ризе Христовой.16
В работах А.В. Лаврентьева и А.А. Турилова предпринята попытка обосновать мысль о Киприане как авторе «Повести о Словене и Русе».17
"См., напр.: Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.; Л., 1947; История русской литературы. М.; Л., 1948. Т. 2. Ч. 2; Мирзоеа В.Г. Присоединение и освоение Сибири в исторической литературе XVII века. М., 1960; Ромодановская Е.К. Киприан Старорусенков // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1993. Вып.З. 4.2. С.156-163 (переизд.: Она же. Избранные труды: Сибирь и литература: XVII век. Новосибирск, 2002. С.358-366).
Бахрушин C.B. Научные труды. М., 1955. Т.З 4.1. С. 18-19,27-30,268,282. "Дворецкая H.A. Сибирский летописный свод (вторая половина XVIIb.). Новосибирск, 1984; Дергачева-Скоп Е. Из истории литературы Урала и Сибири XVII века. Свердловск, 1965; Очерки русской литературы Сибири: В 2-х т. Новосибирск, 1982. Т.1; Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 1986.
"Морозова Л.Е. Смута начала XVII века глазами современников. М., 2000. С.368. Ср.: С.365. "Ромодановская Е.К. Киприан Старорусенков. С. 161,162, и др.
"Лаврентьев A.B. Летописный свод 1652 года как источник для изучения русской средневековой повести XV - XVIIbb. // Русская книжность XV -XIX вв. М., 1989 (Тр. Гос. Ист. Музея. Вып.71); Лаврентьев A.B., Турилов А_А. «Повесть о Словене и Русе» («Сказание о Великом Словенске») о происхождении и ранней истории славян и Руси // Славяне и их соседи: Тез. докл. 15 конф. М., 1996.
В.В. Яковлев связывает с именем Киприана создание новгородского свода 1630г.18 Порой имя Киприана гипотетически связывается и с развитием общерусского летописания. Так, Л.Е. Морозова попыталась аргументировать гипотезу о Киприане как создателе или главном авторе Нового летописца.19
В последнее десятилетие историки после значительного перерыва обратились и к рассмотрению административно-хозяйственной деятельности Киприана как сибирского архиепископа. Академик Н.Н. Покровский, анализируя издаваемые им документы Тобольского владычного дома времени Киприана, указал на предоставленные архиепископу широкие полномочия в сфере чисто светской, вплоть до контроля за деятельностью воеводской власти, а также в области духовного суда, не говоря уже о церковном строительстве и обзаведении хозяйством. Ученый детально проанализировал на основании большей частью доступных еще П.Н. Буцинскому документов процесс становления собственности Тобольского Софийского дома;20 некоторые дополнительные сведения на этот счет привела Н.А. Балюк.21 О становлении святительского суда в Тобольске при первом местном владыке мимоходом писал Е.В. Вершинин.22
Несмотря на оживление исследовательского внимания к занимающей нас теме, она по-прежнему остается неизученной комплексно. Историки или филологи нередко только вскользь касаются административно-судебной, политической и книжной деятельности Киприана с последних лет Смуты до его кончины на новгородской митрополии (церковная, прежде всего усилиями П.Н. Буцинского, рассмотрена несравненно полнее). Как недавно отмечено Е.К. Ромодановской, еще требует изучения «полный круг сочинений Киприана, в первую очередь сибирских».23 Целостного анализа многосторонней деятельности Киприана пока еще не предпринято.
Источниковап база исследования складывается из многообразных документальных и нарративных памятников.
Среди документальных источников по значимости выделяются синодик «ермаковым казаком»,24 автором или же инициатором создания которого нередко признается Киприан, копийные книги Тобольского владычного дома 20-30-х гг. XVII в. и выдержки из этой
"Яковлев В.В. Новгородско-псковсхая летопись 1630 г. // Опыты по источниковедению: Древнерусская
книжность. СПб., 2001. Вып. 4. С. 390,391.
"Морозова Л.Е. Смута начала XVII века... С. 43М37,440,445.
""Покровский H.H. Начало вотчин Тобольского СофиЛского дома // Вспомогательные исторические дисциплины. СПб., 1998. Т.26. С. 173-184; Предисловие // Тобольский архиерейский дом в XVII веке./ Изд. подг. H.H. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 20-27.
21 Балюк H.A. Монастырские вотчины Софийского дома в XVII веке // Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея: 1994. Тюмень, 1997. С.60; Она же. Тобольская деревня в конце XVI -XIX вв. Тобольск, 1997.
^Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998.
23 Предисловие // Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII вУ Изд. подг. Е.К. Ромодановская и О.Д. Журавель. Новосибирск, 2001. С. 8-9. "Полное собрание русских летописей. М., 1987. Т. 36. С. 380-381.
делопроизводственной документации (большей частью знакомая еще П.Н. Буцинскому, в 1994г. в основном она была издана Н.Н. Покровским и Е.К. Ромодановской, а в 2001г. - Н.А. Балюк). Документы, отражающие церковно-административную деятельность Киприана того времени, когда он возглавлял новгородскую церковь, частично описаны и изданы П. Яновским и Б.Д. Грековым; отдельные публикации такого материала появлялись и в XIX — начале XX вв.25 О деятельности Киприана в Новгороде в последние годы жизни свидетельствует опубликованное А.Н. Зерцаловым любопытное «доводное дело» на владыку26 (результат этого доноса остается неизвестным). Другой видный археограф С.А. Белокуров издал документацию об освидетельствовании в Москве при участии Киприана Ризы Христовой.27 В.А. Фигаровский опубликовал грамоту новгородского правительства в Москву (1615г.), дающую представление о роли Киприана в политической жизни того времени.28 В. Л. Янин недавно переиздал росписи новгородских святынь, возникшие при Киприане по поручению патриарха Филарета.29
Из документальных источников, сравнительно недавно введенных в научный оборот, важна опись Новгорода, составленная вскоре после его освобождения от шведов в 1617г. В этом документе находим отрывочные сведения о Киприане как хутынском архимандрите, в частности, любопытные известия о том, что он отвез в Москву часть имущества своей обители (по-видимому, когда ездил туда во главе новгородской миссии к Михаилу Федоровичу).30 В число ценных источников по теме входят опубликованные еще в 1861 г. по рукописи Соловецкой библиотеки канонические определения Киприана того времени, когда он занимал новгородскую кафедру.31
В круг наиболее значительных нарративных источников по теме входят летописи (Новый летописец, Есиповская, Ремезовская летописи, «Книга записная», Новгородско-Софийский свод 1630 г., Краткий летописец новгородских владык, Летописец новгородским церквам Божиим, Новгородская Забелинская летопись), сказания о Ризе Христовой, переданной шахом Аббасом царю Михаилу Федоровичу, повесть о Словене и
"Яновский П. Описание актов Новгородского Софийского Дома /I Летопись занятий Археографической комиссии имп. АН за 1901 год. СПб., 1902. Вып. 14; 1906. СПб., 1908. Вып. 19; Греков Б.Д. Описание актовых книг, хранящихся в архиве имп. Археографической комиссии. Пг., 19)6. С-27-28. иО «неправдах и непригожих речах» новгородского митрополита Киприана (1627-1633 гг.) / Сообщ. А Н. Зерцалов. М„ 1896, С. 2-6,12-14.
"Белокуров С.А. Дело о присылке шахом Аббасом Ризы Господней царю Михаилу Федоровичу в 1625 году. М., 1891.
"Фигаровский В.А. О грамоте новгородского правительства в Москву в 1615г. // Новгородский исторический сборник. Л., 1937. Вып.2.
"Янин В-Л. Некрополь Новгородского Софийского собора: Церковная традиция и историческая критика. М„ 1988. С. 179,217. Ср.: С. 175, 191. "Опись Новгорода 1617 г. М., 1984.4.1.
"Церковно-судебные определения Киприана, митрополита новогородского // Православный собеседник. Казань. 1861. №11.
Русе.32
Научная новизна диссертации заключается в том, что деятельность видного представителя Русской Православной Церкви XVII в. впервые становится предметом специального анализа, рассмотрены все этапы его многолетней деятельности, определяется место Киприана в истории России первой половины XVII в.
Практическая значимость работ состоит в том, что полученные выводы могут быть использованы в лекционных курсах по истории-и источниковедению истории России, спецкурсе по истории русской церкви, истории летописания XVII в., а также при создании научных трудов по этой проблематике.
Апробация: полученных; результатов. С докладами по теме исследования автор выступал на краеведческих конференциях в центральной городской библиотеке и этнографическом музейном комплексе г. Нижневартовска (2000 - 2003гг.), Словцовских чтениях в Тюменском областном краеведческом музее (2001г.); основные положения диссертации отражены в публикациях автора.
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Диссертация состоит из.введения, двух разделов, заключения, списка использованных источников и исследований.
Во введении обосновываются актуальность и научная значимость темы, формулируются цели и задачи работы, определяются территориальные и хронологические рамки исследования, анализируется степень изученности темы, характеризуется методологическая база работы и источниковая основа диссертации..
В первом разделе рассмотрена церковно-административная деятельность Киприана.
Ссылаясь на прозвище Киприана, большинство его биографов полагает, что этот настоятель новгородских обителей происходил из Старой Руссы; другие же исследователи думают, что Киприан являлся выходцем из Новгорода. В литературе Киприана называют (по месту рождения, как предполагается) Старорусенковым или Старорусениным. Точнее его именовать Старорушанином, как, например, во владельческой записи назван он сам, а в одной вкладной записи за 1611г. представлен архидьякон Алимпий Гадов.
По рождению Киприан (его мирское имя остается неизвестным), по-видимому, принадлежал к посадским людям. В Новгороде, когда Киприан был там митрополитом, в софийских дьяках состоял его брат Алимпий Максимов. По-видимому, эту фамилию носил и видный деятель русской церкви 1610-х - 1630-х гт.
"Полное собрание русских летописей. М.; Л., 1962. Т. 27; Л., 1982. Т. 33; М., 1965. Т. 14; М., 1987. Т. 36; Сибирские летописи. СПб., 1907; Новгородские летописи. СПб., 1879; Русская Историческая Библиотека. СПб., 1909. Т. 13; Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979; Яковлев В.В. Новгородско-псковская летопись...; Гухман С.Н. Сказания о даре шаха Аббаса России: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1973.
В 1601-1610 гг., по данным П.М. Строева, Киприан являлся строителем олонецкого Клементьевского монастыря. Можно думать, что родился он в начале последней четверти XVI в. или незадолго перед этим.
В 1612 г. Киприан сделался архимандритом новгородского Спасо-Хутынского монастыря, который принадлежал к числу наиболее авторитетных новгородских обителей. Не исключено, что перевод туда Киприана объясняется фактом принятия пострига именно в этой обители. Таким образом, к началу шведской оккупации Новгорода Киприан возглавил один из наиболее крупных монастырей, благодаря чему вошел, по-видимому, в окружение новгородского митрополита Исидора. Быть может, последний знал Киприана прежде, и по его воле Киприан оказался во главе Хутынского монастыря.
Появление Киприана на политической арене относится к 1613 г. и связано с участием в переговорах о шведской кандидатуре на русский престол.
С момента захвата шведскими войсками Новгорода появилась идея возведения одного из шведских королевичей (вскоре им стал Карл-Филипп) на трон так называемого Новгородского государства. Шведский правитель вначале должен был сделаться государем Новгородской земли, а позднее утвердиться «на Московском и Владимирском государствах». Возник проект политического обособления Новгорода Великого по аналогии с его республиканским прошлым.
Еще летом 1613 г. в Новгороде, по-видимому, не знали об избрании Михаила Федоровича, и, таким образом, неудаче, которая постигла на Земском соборе кандидатуру Карла-Филиппа. И власти Новгорода, и шведская администрация, питая надежду на скорое решение династического вопроса, 27 июля 1613 г. составили приговор об отправке посольства в Выборг, куда накануне прибыл королевич, направляясь вроде бы на свое «государство». В составе посольства, инициатива снаряжения которого в первую очередь, видимо, принадлежала оккупационным властям, наряду с дворянами нескольких пятин (старшим из которых считался Ф.М. Аничков) и торговыми людьми находились и дьяк Т. Сергеев с хутынским архимандритом Киприаном. Более того, в списке послов имя Киприана значится первым и вообще единственным из духовных лиц, что может свидетельствовать об авторитете «Старорушанина».
Киприан мог к этому моменту зарекомендовать себя приверженцем шведской кандидатуры. Ко времени отправки посольства Киприана в Выборг сторонники отечественной кандидатуры на русский престол в Новгороде оказались в меньшинстве. Видимо, хутынский архимандрит энергично ратовал за водворение на московском (как минимум — на новгородском) троне шведского принца.
Новгородцы, получив разрешение Э.Горна направить «мирную» депутацию в Москву, поставили во главе ее Киприана. Как уточнил Г.А. Замятин, послы пробыли в Москве с 11 февраля До 8 марта 1615г. За это время послы успели расположить московское правительство к мирным
переговорам со шведами и упросили «царя принять Новгород под свою защиту».
В сентябре 1620г., т.е. в самом начале патриаршества Филарета, в Москве было решено учредить новую, сибирскую кафедру (ранее Сибирь в церковном отношении ведалась вологодским архиепископом).
На вопрос, почему выбор при образовании новой владычной кафедры пал на Киприана, исследователи отвечают весьма единодушно: он якобы снискал доверие царя и патриарха, поскольку деятельно способствовал возвращению Новгорода Великого в состав Московского государства. Однако не исключено и другое: возглавлявший на протяжении двух десятилетий Клементьевскую обитель, а затем Хутынский монастырь, Киприан располагал значительным опытом церковно-административной деятельности; кроме того, он слыл знатоком «келейного чина», что было немаловажно при устройстве владычного дома на далекой восточной окраине.
10 декабря 1620г. Киприан был посвящен в архиепископы Тобольские. Пребывание Киприана на владычной кафедре в Сибири оказалось недолгим (1621- 1624гг.), но именно в это время, как показано было еще Н.А. Абрамовым и П.Н. Буцинским, закладываются основы хозяйства архиерейского дома и определяются основные. направления собственно религиозно-духовной его деятельности.
Обширный документальный материал убеждает, в том, что всего за. несколько лет нахождения в сане тобольского владыки Киприан положил начало земельной собственности владычного дома и способствовал заселению архиерейских вотчин крестьянами. Разнообразны источники роста феодальной собственности Тобольского дома. Это и покупки земель, и вклады частных лиц (включая воеводу и детей боярских), и государевы пожалования. Тем самым владычная кафедра приобрела материальную независимость от воеводской власти и финансовые возможности для строительства новых храмов, монастырей и обеспечения деятельности многочисленного архиерейского штата, что явилось важной предпосылкой распространения христианства среди местных жителей, в том числе «инородцев». Вместе с тем развитие хозяйства Тобольского владычного дома служит важным показателем успехов феодального землевладения в Сибири начала 1620-х гг.
Сведения о хозяйстве Тобольского владычного дома времени Киприана заставляют внести ограничение в вывод современного исследователя государственно-церковных взаимоотношений периода патриаршества Филарета В. В. Маландина, будто тогда «Сибирская архиепископия находилась на полном государственном обеспечении», подобно некоторым бедным церквам и монастырям.33 Очевидно, руга не обеспечивала запросов
"Маландии В.В. Церковная политика правительства при патриархе Филарете (1619-1633) // Русский язык, культура, история: Сб. материалов II науч. конф. лингвистов. М., 1997. Ч. 2.
новоучрежденной кафедры.
Документация Тобольского архиерейского дома первых десятилетий после отьезда Киприана из Сибири свидетельствует о том, что архиепископ являлся одним из наиболее значительных вкладчиков нового владычного двора.
Уже при учреждении Тобольского Софийского дома административные функции стали важной составляющей деятельности владыки; подчас, им решались и важные судебные дела, что также в известной мере ограничивало компетенцию светских властей. Облеченный особым доверием царя - и патриарха, Киприан, особенно до прибытия в Тобольск воеводы ЮЛ.Сулешова, фактически- решал многие важнейшие административно-судебные задачи по поручению правительства, контролируя через свой, еще складывающийся аппарат, деятельность многих светских властей, включая и самих тобольских воевод. При Киприане были заложены с санкции Москвы основы церковно-светских взаимоотношений, которые, по наблюдению Н.Н. Покровского, не претерпели существенных перемен до конца XVII столетия.
В феврале 1624 г. Киприан покинул Тобольск и вскоре прибыл в Москву. 8 апреля того же года сибирский архиепископ «ел за патриаршим столом».34 Делами обширной епархии тобольский. владыка: управлял из Москвы.. 12 декабря 1624 г. Киприан был посвящен в сан митрополита крутицкого, т.е. в его ведении оказались земли Нижнего Поволжья, но по традиции Крутицкий «святитель» ведал свою епархию, проживая на подворье в Кремле.
Ко времени, когда Киприан занимал крутицкую кафедру, относится его участие в освидетельствовании Ризы Христовой - христианской реликвии, доставленной в начале 1625 г. персидским посольством в Москву. Киприан принимал участие и в заседаниях церковного собора, на которых обсуждался вопрос о подлинности «Спасителевой срачицы».
20 октября 1626 г., как сказано в кратком летописце «новгородских владык», «повелением и избранием» Михаила Федоровича и патриарха Филарета,, «государьским общим советом» Киприан был поставлен на новгородскую митрополию «рукоположением великого господина и государя святейшаго Филарета».
Новгородскую митрополию Киприан занимал до смерти 17 декабря 1634 г. 18 января следующего года Киприан был погребен тверским архиепископом Евфимием в Корсунской паперти, т.е. западном притворе Софийского собора. (Заметим, что в ряде справочных и краеведческих изданий даты пребывания Киприана на новгородской митрополии определяются неточно).
Рассмотрение вопросов канонического права составляло немаловажную сторону деятельности «Старорушанина» в последние годы его жизни. Тогда же, как установлено В.Л. Яниным, Киприаном
"Писарев А. Домашний быт русских патриархов. Казань, 1904. Прилож. С. 108.
осуществлена «инвентаризация» софийского некрополя и составлены две росписи новгородских святых в целях упорядочения практики богослужения, возможно, в связи с готовившимся патриархом Филаретом церковным собором.
На основании извета на Киприана35 Б.Д.Греков, С.В.Бахрушин, Д.СЛихачев оценивают новгородского владыку как поборника теории о превосходстве церковной власти над светской. Отчасти эту теорию Киприан пытался и реализовать, и не только в последние годы жизни, но и в Тобольске (тогда, правда, не без поощрения Филарета и его царственного сына). Е.К. Ромодановская однажды называет Киприана «сподвижником и помощником» Филарета «во всех начинаниях». Эта мысль, по-видимому, требует ограничения. Сама Е.К. Ромодановская пишет о пренебрежительном отношении Киприана в бытность" новгородским митрополитом «к указам патриарха».
Таким образом, церковно-административная карьера Киприана выглядит весьма примечательной. Хотя место и время принятия Киприаном пострига неизвестно, он за сравнительно короткое время вошел в ряд наиболее авторитетных деятелей Русской Православной Церкви, в частности, благодаря дипломатической деятельности в период шведской оккупации Новгорода. Политическая позиция Киприана этого времени отражала, как можно думать, настроения большинства новгородских светских и духовных властей. В сравнительно короткий срок из энергичного приверженца шведской кандидатуры на новгородский и даже московский престол хутынский архимандрит превратился в поборника возвращения Новгорода Великого под власть новоизбранного царя Михаила Федоровича. Скорее всего активная роль, сыгранная Киприаном при возвращении новгородской земли в состав Российского государства, обусловила его избрание на более высокое место в церковной иерархии — Киприан стал первым архиепископом Сибири.
За короткий срок пребывания в Тобольске владыка сумел заложить основы хозяйства нового Софийского дома, проявив себя и умелым администратором, в круг полномочий которого по воле царя и патриарха вошел даже контроль за деятельностью сибирских воевод и голов, не исключая тобольских. Своеобразной оценкой деятельности Киприана как сибирского архиепископа стало посвящение его в сан митрополита - вначале Крутицкого, затем Новгородского. С именем Киприана в последние годы его жизни связано упорядочение местных святынь (что можно связать с позицией патриарха Филарета как и главы церкви, и соправителя страны), и регламентация церковно-судебных отношений с целью ограждения сферы святительской власти от посягательств воеводской администрации.
Во втором разделе определяется роль Киприана в развитии русской книжной культуры.
"О «неправдах и непригожих речах» новгородского митрополита Киприана (1627-1633 гг.) / Сообщ. А.Н. Зериалов. М., 1896.
Возможно, книжная деятельность Киприана началась в Спасо-Хутынском Преображенском монастыре, ставшем крупным центром книгописания еще в XVB.
По утверждению Р.Г. Скрынникова, вместе с Киприаном в Тобольск прибыли казанские книжники, и именно они положили начало сибирскому летописанию. Такая точка зрения представляется произвольной.
Многие историки и литературоведы, однако, допускают так или иначе возможность создания Киприаном первой сибирской летописи, тем более, что, по наблюдению Р.Г. Скрынникова, казачье «написание», если следовать Есиповской летописи (далее - ЕЛ), появилось в ответ на распоряжение владыки, т.е. вскоре после его появления в Тобольске, а не в самом начале XVII века.. Заметим, что по мнению одних исследователей, Киприан стал расспрашивать об обстоятельствах «сибирского взятия» тех сподвижников Ермака,. которые уже приняли постриг и являлись монахами Знаменского (Успенского) монастыря; согласно другой версии, Киприан обратился с расспросами о событиях знаменитой экспедиции к казакам «старой сотни» Тобольска. Н.И. Никитин, однако, установил, что такого подразделения служилых людей в сибирской столице не существовало. Однозначно решить, каких именно «ермаковых казаков» - к тому времени принявших постриг или продолжавших. нести ратную службу, затруднительно, быть может, Киприан, как считает Р.Г. Скрынников, через своих приказных людей обращался и к тем, и к другим.
На основании свидетельства С. Есипова Н.А. Абрамов считал, что Киприан составил первую сибирскую летопись. Эту точку зрения повторили А.И. Сулоцкий И.П.Н.- Буцинский. A.M. Ставрович в труде, который до настоящего времени не опубликован, высказала мнение, что летопись, созданная Киприаном в Тобольске, подверглась «обработке» в Новом летописце (далее - НЛ), а также послужила источником синодика «ермаковым казакам», Есиповской, Строгановской и Погодинской летописей. Заметим, что еще СВ. Бахрушин справедливо признал маловероятным доказательства A.M. Ставрович. В частности,, текстологически ее выводы следует признать необоснованными. Кроме того, по прямому свидетельству Есипова, перечень казаков, погибших в боях с кучумлянами, основан на переданном Киприану «написании», а не летописи. Признав, что он лишь распространил некое «писание» своего предшественника, С.Есипов даже не намекает на принадлежность этого сочинения либо его замысла Киприану.
Тем не менее Д.С. Лихачев убежденно говорил о том, что Киприаном составлена первая сибирская летопись, даже свод, лучше всего переданный Строгановской летописью (далее - СЛ), и на основе этого произведения была создана «сибирская часть» НЛ.
С.Н. Азбелев со ссылкой на мнение Д.С. Лихачева указывал на возникновение сибирского летописания под руководством Киприана. О Киприановской летописи наряду с Есиповской, Строгановской, Ремезовской упомянуто в работах Н.В. Устюгова, В.И. Буганова и А.А. Зимина.
По справедливому замечанию В.Г\ Мирзоева, приведенная мысль (этот исследователь имел в виду заключение Д.С. Лихачева) «не подкрепляется научными доказательствами». Ведь свод - это обширное летописное повествование, иногда за несколько столетий. ЕЛ и СЛ же представляют собой относительно небольшие исторические повести, в которых речь идет почти исключительно о сибирском «взятии»; сведения о «дорусской» Сибири приводятся попутно, как и данные о строительстве первых русских городов за Уралом. События сибирской истории первой четверти XVIIB. В ЕЛ и С Л почти не нашли отражения, что опять - таки противоречит взгляду на существование Киприанова свода. Единственное, что можно допустить, заключается в том, что Киприан, составив с помощью собственных приказных синодик (эта мысль предпочтительнее тезиса о Киприане как. единственном авторе этого документа), решил воссоздать, пользуясь.тем же источником, события присоединения сибирских земель к России в летописной форме, ориентируясь на хорошо ему известную новгородскую традицию. Ввиду кратковременности пребывания Киприана в Тобольске, однако, мы не можем утвердительно решить,. начал ли тогда реализовываться этот замысел либо осуществление такой инициативы пришлось на последующее время.
Сравнительно недавно возникла еще одна гипотеза относительно появления сибирской летописной традиции. Л.Е. Морозова утверждает, будто первые летописные записи о Сибири составлены Киприаном, ему же и принадлежит повесть о начале присоединения Сибири к России, открывающая НЛ. Более того, исследовательница в нескольких работах с разной степенью категоричности считает Киприана создателем НЛ, полагая вслед за В.Г. Вовиной, что тобольский владыка привез в Москву какое-то сочинение по ранней истории Сибири. Но если В. Г. Бовина думает, что таким сочинением послужило «Краткое описание...»,36 то Л.Е. Морозовой представляется, будто речь должна идти о летописи, которая стала создаваться Киприаном в Тобольске. Приведенные Л.Е. Морозовой соображения о Киприане как сибирском летописце не могут быть сочтены доказательными. Текстологически эти соображения не подкреплены. Тезис Л.Е. Морозовой о наличии у НЛ и «Книги записной» общего источника должен считаться надуманным. Никаких оснований для того, чтобы считать этим протографом летописчик Киприана не имеется, тем более, что «Книга записная» сочинялась преимущественно по документальным материалам и в ее начальной части выявлено немало фактических неточностей.
Следовательно, вполне определенного заключения о роли Киприана в становлении сибирской летописной традиции по состоянию источников в настоящее время сделать не удается.
Аргументом, хотя и косвенным, в пользу вывода о начале сибирского летописания при Киприане, т.е. в начале 1622-1624гг., служит заключение о
"Бовина В.Г. К вопросу о сибирских статьях Нового летописца // Литература и классовая борьба эпохи позднего феодализма в России. Новосибирск. 1987. С.66,69.
первом сибирском архиепископе как создателе или одном из составителей НЛ. Впервые такое заключение было высказано Л.Е. Морозовой в 1987г., оно аргументируется ив ее последующих трудах. Этому мнению следует и Е.К. Ромодановская, более того, порой она придает выводу Л.Е. Морозовой категорическую форму. Е.К. Ромодановская, в частности, обращает внимание на то, что статья НЛ «О принесении Срачицы Господней в царствующий град Москву» написана на основе переработанного текста «Документального» сказания о даре шаха Аббаса, т.е. гипотетического сочинения Киприана. Однако, ни В.Г. Бовина, на исследования которой при этом ссылается Е.К. Ромодановская, ни С.Н. Гухман с Г.П.Ениным, специально изучавшие данное сказание, не приписывают его Киприану либо не считают «Старорушанина» редактором «Документального» сказания о Ризе Христовой.
Полагать вслед за Л.Е. Морозовой и Е.К. Ромодановской, что Киприан участвовал в создании НЛ, опрометчиво, особенно учитывая, что в пору написания этого произведения «Старорушанин» занимал новгородскую митрополию и лишь изредка наведывался в Москву. Маловероятно, что хотя бы основная работа над НЛ велась в Новгороде, поскольку в этом произведении использовались материалы преимущественно московского происхождения, в том числе, как показано Л.В. Черепниным и В.Г. Вовиной, документы из посольского архива.
Сравнительно недавно А.В. Лаврентьевым было высказано предположение о принадлежности Киприану одного из поздних памятников новгородской средневековой книжности - «Повести о Словене и Русе».
Судя по татищевским трудам, их автор придерживался версии о существовании «Степенной книги», написанной митрополитом московским Киприаном или созданной по его инициативе, поэтому атрибуция А.ВЛаврентьева не может быть принята безоговорочно. Уязвимыми представляются и некоторые другие доводы исследователя.
Аргументация в пользу приведенной гипотезы складывается из косвенных свидетельств, и думается, пока нет убедительных оснований связывать появление «Повести о Словене и Русе» с именем Киприана, да и татищевский список этого памятника остается ненайденным (вероятно, он погиб вскоре после смерти автора «Истории Российской»).
По наблюдению Г.П. Енина, сразу после установления церковного праздника в честь Ризы Христовой (27 марта 1625г.) Киприан по приказу и под руководством патриарха приступил к написанию Службы на положение Ризы, которая была отпечатана уже к январю 1626г.37 Имевшее агитационное значение, это литургическое произведение было сразу разослано по епархиям вместе с грамотами патриарха, велевшего переписать службу, чтобы списки ее имелись во всех церквах и монастырях.
Раскрывая идейный смысл написанной Киприаном Службы на положение Ризы Христовой, Г.П. Енин подчеркивает, что в глазах
"Енин Г.П. К литературной истории Сказания о даре шаха Аббаса//Мравалтави. Тбилиси, 1985. Сб.11.
крутицкого владыки оказавшийся в Москве хитон - божественный дар, в обретении которого решающая роль принадлежит царю и патриарху, появление Ризы в России - неоспоримое доказательство прекращения прежних бед, избавления от «иноплеменников», символ прекращения Смуты, отчего с «новым Сионом» обрадовались все русские люди.
Гипотеза о том, что Киприан мог участвовать в создании «Документального» сказания о Ризе Господней, не лишена вероятия, если вспомнить о соображениях С.Н. Гухман относительно происхождения этого памятника. Возможно, лицом, которому была поручена литературная обработка документальных материалов о появлении Ризы у персидского шаха и ее доставке в Москву, был именно Киприан, сочинивший следом церковную службу на перенесение Ризы. На принадлежность Киприану службы в честь положения Ризы Христовой (10 июля) указывал еще А.И. Сулоцкий. Кроме того, Киприан участвовал в освидетельствовании дара шаха Аббаса.
Принимая во внимание роль, сыгранную крутицким митрополитом при освидетельствовании Срачицы Господней, и известия НЛ, можно вслед за Е.К. Ромодановской думать, что Киприан участвовал в подготовке самого раннего сказания о Ризе, которое С.Н. Гухман называет «Документальным». Тем самым конкретизируется допущение С.Ф. Платонова (повторенное В.Г. Вовиной) о вхождении Киприана в своеобразный «кружок» Филарета -неофициальный политико-культурный центр времени соправительства первого представителя новой династии и его отца.
В.В. Яковлев выяснил, что в 1630 г. в Новгороде была создана «достаточно обширная летопись» (исследователь назвал ее Новгородско-Софийской). В основе этого памятника, известного в 10 рукописях, в том числе 1630х годов, лежит свод 1547г., продолженный записями до 1629/30 г., материалами о Соловецком монастыре, о храмовом строительстве в Новгороде, Пскове и Москве.
Обращает на себя внимание совпадение дат появления этой летописи и НЛ, сложившегося, по мнению большинства исследователей, на патриаршем дворе. Возможно, работа в окружении Филарета над НЛ послужила толчком к возобновлению летописания в новгородском Софийском доме, тем более, что, с точки зрения Л.В. Черепнина и В.Г. Вовиной, НЛ стал создаваться вскоре после знаменитого московского пожара 1626г., а Киприан тогда, как мы помним, был посвящен в новгородские митрополиты.
Новгородско-Софийской летописи 1630г. предшествовала так называемая Новгородская Уваровская летопись, доведенная до 1606г. и примерно тогда же (по определению С.Н.Азбелева) составленная. Таким образом, Киприану можно приписать инициативу возобновления летописания в Новгороде.
Л.Е. Морозова атрибутирует Киприану Слово о Премудрой Софии, послания Филарету и другим лицзм, что источниками не подтверждается.
Известно «Сказание о святой Софии цареградской» в Летописце Еллинском и Римском, но это переводной памятник. Из-под пера СИ.
Шаховского вышел, между прочим, «Тропарь Софеи Премудрости Божий». Быть может, это «творение» князя появилось по инициативе Киприана — или сибирского владыки, или новгородского митрополита.
В фонде Научной библиотеки Томского госуниверситета Е.К. Ромодановская выявила три книги, принадлежавшие Киприану еще в бытность его архимандритом Спасо-Хутынского монастыря. Это, в частности, подаренный Тобольскому архиерейскому дому в 20-е годы (видимо, привезенный с собой в Сибирь) «Просветитель» Иосифа Волоцкого и присланные туда же в 1634/35г. «Слова» Василия Великого и сборник, объединяющий «Острожский сборник» 1588г. и «Книжицу Острожскую» 1598г.38 (Заметим, что Е.К. Ромодановская относит вклад новгородского митрополита в тобольский Софийский дом к 1634-1635гг. Очевидно, книги были посланы в Сибирь в 1634г., т.е. при жизни Киприана или же вскоре после его кончины по завещанию «первопрестольного» архиепископа Зауралья). По словам исследовательницы, книги, присланные в Тобольск патриархом Иоасафом в мае 1635г. как вклад по Киприане (в соответствии с его завещанием), в значительной мере отражают состав личной библиотеки Киприана; судя по записям на сохранившихся книгах, они принадлежали «Старорушанину» еще в бытность хутынским архимандритом.
Нам известно еще несколько книг, которые принадлежали Киприану. Будучи хутынским архимандритом, он имел рукопись Мерила Праведного со списком Русской Правды39 (эта рукопись ранее, с 1585/86г., принадлежала митрополиту Московскому Дионисию, а позднее оказалась в распоряжении патриарха Никона). Возможно, Киприану эта книга досталась от Дионисия, «присланного» в Хутынский монастырь после низложения, или же «Старорушанин» получил ее из библиотеки этой обители. После смерти Киприана данная рукопись могла остаться в новгородском Софийском доме, где стала собственностью Никона, как известно, до поставления в патриархи являвшегося митрополитом Новгородским. Устав (Око церковное), изданный в Москве в 1610 г., был подарен Киприаном в Хутынский монастырь (в настоящее время эта книга находится в фонде МГУ).40 В январе 1625г. Киприан получил один из экземпляров малотиражного Требника святительского соборного,41 а в 1632 г. Киприану были проданы 4 экземпляра псалтири со следованием в тетрадях.42
"Ромодановская Е.К. Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Томского университета // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР (РАН). Л., 1971. Т.26. С.345;Онаже. Киприан Старорусенков. С.162, и др.
"Правда Русская. М.; Л., 1940. T.l. С.102; Древнерусские княжеские уставы XI - XV вв. / Изд. подг. Я.Н. Щапов. М„ 1976. С.26.
"ПоздееваИ.В., Ерофеева В.И., Шитова Г.М. Кириллические издания: XVI век - 1641 год. М.,2000. С.101. "Володихин Д.М. Наиболее ранняя часть архива Приказа книгопечатного дела // Русское средневековье: Книжная культура: 1998г. М., 1998. Вып.1. С.110.
"Поздеева И.В., Пушков В.П, Дадыкнн A.B. Московский Печатный двор - факт и фактор русской культуры 1618-1652 гг.: От восстановления после гибели в Смутное время до патриарха Никона: Исследования и публикации. М., 2001. С. 353.
Косвенно о причастности Киприана к литературной деятельности свидетельствуют факты одобрения им русского перевода «Катехизиса» М. Лютера (1615г.) и редактирования «церковно-судебных определений».
Будучи тобольским архиепископом, Киприан являлся инициатором составления синодика «ермаковым казаком», возможно, на взгляд С.В. Бахрушина и Е.К. Ромодановской, и сочинителем этого поминального списка. Синодик, восходящий к казачьему «написанию», по-видимому, оказался источником не только ЕЛ, где помещена вторая его редакция, но и некоторых других памятников раннего сибирского летописания. Однако мысль о Киприане как инициаторе летописания, отражающего историю Сибири недавнего времени, пока не выходит за рамки гипотезы. Тезис о том, что Киприан вел в Тобольске летописные записи или приступил к созданию там свода, привез с собой в Москву это сочинение или протограф «Краткого описания...», не может считаться обоснованным. Мы вправе пока лишь предполагать, что Киприану принадлежит замысел создания сибирской летописи, не исключено, первые попытки его реализации.
Перебравшись в Москву и сделавшись крутицким митрополитом, Киприан сочинил службу на принесение в русскую столицу Ризы Христовой; быть может, он участвовал в составлении «Документального» сказания о «Срачице Господней». В первые годы пребывания Киприана на новгородской митрополии сложился НЛ. Однако вывод Л.Е. Морозовой, поддержанной Е.К. Ромодановской, о Киприане как одном из авторов этого памятника, если не единственном его создателе, нельзя признать оправданным. Возможно лишь, что при участии Киприана в распоряжение составителей НЛ попали какие-то новгородские источники. Затруднительно согласиться и с атрибуцией Киприану «Повести о Словене и Русе», по крайней мере, такое предположение нуждается в более строгих доказательствах. Не исключено, также, что возглавив Дом Святой Софии в Новгороде, Киприан проявил заботу и о развитии местного летописания. О Киприане как деятеле книжной культуры можно судить и по составу его библиотеки, а также по фактам покупки им новых книг московской печати.
С именем Киприана связаны многие события в истории русской книжной культуры первых лет после Смутного времени, но по состоянию источников судить о роли хутынского архимандрита, ставшего митрополитом крутицким, затем новгородским, в развитии письменной традиции России той поры в значительной мере мы пока можем предположительно.
В заключении изложены основные выводы по теме исследования.
Церковно-административная деятельность Киприана весьма
продолжительна и насыщена.
Напряженная церковно-административная деятельность порой сочеталась с политической, главным образом в последние годы шведской оккупации Новгорода, когда Киприан являлся вначале сторонником шведской кандидатуры на новгородский престол, а потом деятельно ратовал за признание новгородцами власти нового московского государя. Политический «подтекст» имела и административная деятельность Киприана в Тобольске,
где он осуществлял контроль, порой даже открыто, за светской властью, войдя в конфликт с воеводой М.М. Годуновым.
Деятельность Киприана. в последние годы жизни свидетельствует в пользу мнения, о нем как. стороннике давней новгородской теории о превосходстве церковной власти над светской.
С именем Киприана связывают многие культурные начинания того времени. Он, бесспорно, был причастен к составлению синодика «ермаковым казакам», послужившего едва ли не основным источником ранних сибирских летописей. Однако мысль о создании Киприаном какой-то сибирской летописи или возникновении при. нем, свода,- отразившего события начального этапа присоединения Сибири к России, думается, не подкреплена достаточно убедительной аргументацией; Быть может, Киприану принадлежит замысел сибирской летописи и даже первые шаги по его реализации. Вслед за В.В. Яковлевым можно думать, что Киприан, занимая новгородскую митрополичью кафедру, был причастен к ведению местного летописания, в частности, к созданию Софийского свода. Сохранилось и немало сведений о книгах, которые принадлежали «Старорушанину», что также свидетельствует о нем как видном деятеле русской книжной культуры первой трети XУIIB.
Следовательно, Киприан может быть отнесен к числу наиболее видных церковных- деятелей Московского государства Смутного времени и двух последующих десятилетий.
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Архипова М.Д. Архиепископ Киприан и распространение православия Зауралье/ Архипова М.Д. // III региональная музейная научно-пракгическаz конференция, посвященная 70-летию Ханты-Мансийского авгономногс округа. Нижневартовск, 2000. С. 30 - 32.
2. Архипова М.Д. О роли архиепископа Киприана в становлении сибирского летописания / Архипова М.Д. // «Мира не узнаешь, не зная края своего»: Материалы IV краеведческих чтений. Нижневартовск, 2000. С. 14-18.
3. Архипова М.Д. Пребывание Киприана Старорусенкова на Тобольской кафедре в новейшей историографии / Архипова М.Д. // II научная конференция молодых историков Сибири и Урала «Диалог культур и цивилизаций». Тобольск, 2000. С. 10 - 11.
4. Архипова М.Д. Киприан Старорушанин на Тобольской владычной кафедре (Историографический обзор) / Архипова М.Д. // Западная Сибирь: Проблемы истории и историографии. Тез. докл. и сообщ. региональной научной конференции. Нижневартовск, 2000. С. 105 - 108.
5. Архипова М.Д. Киприан Старорусенков в Смутное время / Архипова М.Д. // «Мира не узнаешь, не зная края своего»: Материалы V краеведческих чтений. Нижневартовск, 2001. С. 22 - 24.
6. Архипова М.Д. Первый сибирский архиепископ Киприан и русская книжная культура / Архипова М.Д. // Словцовские чтения - 2001: Тез. докл. и сообщ. научно-практической конференции. Тюмень, 2001. С. 108-109.
7. Архипова М.Д. Первый тобольский архиепископ Киприан и светская администрация в Сибири / Архипова М.Д. // Западная Сибирь: История и современность: Краеведческие записки. Тюмень, 2001. Вып. 4. С. 26-29.
8. Архипова М.Д. Первый тобольский архиепископ Киприан в исторической литературе Х1Хв. / Архипова М.Д. // «Мира не узнаешь, не зная края своего»: Материалы VI-x краеведческих чтений. Нижневартовск, 2002. С. 39 - 42.
9. Архипова М.Д. Киприан Старорусенков и начало складывания земельной собственности Тобольского владычного дома / Архипова М.Д. // Россия и страны Запада: Проблемы истории и филологии. Сборник научных трудов. Нижневартовск, 2002. Ч. 1. С.86 - 94.
10. Архипова М.Д. Киприан Старорусенков и русская книжная культура первой трети XVII в. (Историографический обзор) / Архипова М.Д. // «Мира не узнаешь, не зная края своего»: Материалы VII краеведческих чтений. Нижневартовск, 2003. С. 23 - 28.
i.168 3
РНБ Русский фонд
2004-4 18153
Заказ № 004 от 12.01. 2004г. Тираж 100 экз. Лаборатория оперативной полиграфии ВГУ
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата исторических наук Архипова, Марина Дмитриевна
Введение.
Раздел I. Церковно-административная деятельность Киприана.
Раздел II. Киприан Старорушанин и русская книжность его времени.
Введение диссертации2004 год, автореферат по истории, Архипова, Марина Дмитриевна
Одним из переходных этапов в отечественной истории считается XVII в., оценивающийся как «эпоха начал» (по определению A.M. Панченко), водораздел между Московской Русью и Российской империей. Этот период, затянувшийся на несколько десятилетий, а по мнению ряда исследователей, охвативший даже целое столетие, затронул едва ли не все сферы общественной жизни: социальную, политическую, экономическую, культурную. Примечательной чертой данного раннего этапа «нового периода русской истории» стало появление достаточно ярких персонажей, что отражало возрастание личностного начала в русской истории «переходного времени».
Этот период открывается Смутой или разорением московским. Началом лихолетья большинство историков считает вторжение в Россию отрядов Лжедмитрия I осенью 1604г. Опираясь на поддержку мелких служилых людей южных уездов и вольного казачества, самозванец, несмотря на поражение, которое потерпел в январе 1605 г., пользуясь массовым недовольством царем Борисом, сумел захватить московский престол, но удержался на нем менее года. Лжедмитрий I, в котором большинство современников и позднейших историков видели галичского сына боярского Григория Отрепьева, стал жертвой боярского заговора, возглавленного князем В.И. Шуйским. Последнего сравнительно немногочисленные приверженцы и возвели на трон. Воцарение Шуйского стало прологом восстания под предводительством И.И. Болотникова. Под знаменами этого движения, составной частью которого стали действия отряда самозванного «царевича Петра» («Илейки Муромца»), объединились служилые люди преимущественно южных уездов («Северы» и «Поля»), вольные казаки, беглые крестьяне и холопы. Потерпев в конце 1606 г. неудачу у стен Москвы, вызванную, в частности, переходом на сторону Василия Шуйского дворянских отрядов П.Ляпунова и И. Пашкова, повстанцы отступили в Калугу, затем Тулу. Еще до падения Тулы, где восставшие оборонялись четыре месяца, на авансцене Смуты появился Лжедмитрий II, которого в Москве поначалу именовали «стародубским вором». Опираясь на помощь польско-литовских шляхтичей, бывших болотниковцев, служилый люд западных и юго-западных уездов, новый самозванец, разгромив весной 1608 г. правительственные войска под Волховом, приступил к блокаде столицы. Отряды «Тушинского вора» заняли большинство уездов страны. Царь Василий помимо Москвы с огромным трудом удерживал за собой Новгород, Смоленск, Казань и Нижний Новгород.
В условиях противостояния Москвы и Тушинского лагеря, где верховодили польско-литовские советники «Вора» во главе с гетманом Р.Рожинским, Новгородскому краю довелось сыграть особую роль. В конце 1608г. сюда для формирования дворянского ополчения царь Василий направил своего племянника князя М.В. Скопина-Шуйского, который, несмотря на молодость, успел зарекомендовать себя как талантливый военачальник. Это ополчение, численность которого со временем превысила три тысячи человек, должно было освободить Москву от тушинской осады, объединившись на походе с войском Ф.И. Шереметева, формировавшимся в Нижнем Поволжье. Посылая М.В. Скопина-Шуйского в Новгород, царь Василий решил принять предложение шведского короля Карла IX о военной помощи. По условиям заключенного в Выборге союзного договора Швеция, уже длительное время находившаяся во враждебных отношениях с Речью Посполитой, выставляла в помощь московскому правительству наемное войско численностью в несколько тысяч человек, получив взамен Корелу. В мае 1609г. объединенная армия под началом М.В. Скопина-Шуйского и Я.П. Делагарди двинулась из Новгорода к Москве. В упорных сражениях под Тверью, Торжком, Калязиным монастырем и Александровой слободой тушинцы были разбиты, что предвещало скорый крах движения Лжедмитрия
II. Это побудило польско-литовского короля Сигизмунда III приступить к открытой интервенции против России.
В сентябре 1609г. королевские войска осадили Смоленск. Начало интервенции Речи Посполитой углубило кризис в Тушинском стане. Вскоре Лжедмитрий II бежал в Калугу, а часть его прежних приверженцев решила добиваться возведения на русский престол сына Сигизмунда III Владислава. В марте 1610г. войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.П. Делагарди вступили в Москву и стали готовиться к походу под Смоленск. В разгар военных приготовлений царский племянник, которого многие прочили на трон, после короткой болезни неожиданно умер. Правительственная армия, которую возглавил В.И. Шуйский, в июне 1610 г. под Клушином была разгромлена королевскими войсками во главе с коронным гетманом С.Жолкевским. Уже через три недели царь Василий лишился трона, и пришедшее к власти временное боярское правительство (так называемая Семибоярщина) в августе 1610г. близ Москвы подписало с С. Жолкевским договор об условиях возведения на русский престол королевича Владислава. Лжедмитрию II, который после падения Шуйского пытался захватить столицу, вновь пришлось укрыться в Калуге, где он и погиб в конце того же года.
Снаряженное Земским собором посольство под Смоленск, который продолжали осаждать польско-литовские войска, оказалось в сущности безрезультатным. В сентябре 1610г. в Москву вступили отряды С. Жолкевского, и боярское правительство по сути дела уступило власть оккупационной администрации. В ответ на злоупотребления и прямые насилия, которые стали чинить захватчики в Москве и ряде соседних городов, поздней осенью 1610г. начало складываться Первое земское ополчение, вождями которого являлись П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий и Д.Т. Трубецкой. Вскоре после «московского разорения» 19 марта 1611г. ополченцы осадили столицу. Образованный ополченцами «Совет всей земли» решал не только социальные и экономические вопросы, но и приступил к рассмотрению династической проблемы - об избрании государя- ввиду того, что Владислав так и не прибыл в Москву, да и его кандидатуру скомпрометировали агрессивные действия Речи Посполитой. В связи с этим опять-таки возрастает роль Новгорода в ходе гражданской войны.
После Клушинской битвы в соответствии с договоренностью между С. Жолкевским и Я.П. Делагарди о разделе сфер влияния в России шведские войска двинулись в Новгородскую землю. По инициативе П.П. Ляпунова, которому в «Совете всей земли» принадлежала ведущая роль, было решено пригласить «на Московское государство» одного из шведских принцев, прежде всего в надежде получить, как было в царствование Шуйского, поддержку Швеции против Речи Посполитой. Переговоры начались при участии эмиссара земского правительства видного дворянина В.И. Бутурлина.
Лето 1611г. явилось критическим моментом Смуты. Убийство казаками П.П. Ляпунова привело к глубокому кризису ополчения, «подмосковные полки» начали распадаться. Одновременно войска Сигизмунда III овладели Смоленском, а отряды Я.П. Делагарди - Новгородом. Положение последнего, однако, оказалось на первых порах весьма своеобразным. Власть в городе принадлежала и шведской администрации, и воеводе И.Н. Большому Одоевскому с митрополитом Исидором; шведы воздерживались от враждебных действий в отношении новгородцев, очевидно, по-прежнему надеясь на избрание представителя королевского дома русским царем.
Осенью 1611г. в Нижнем Новгороде сложилось новое ополчение, подобно Первому (продолжавшему блокировать Москву) ставившее главной задачей изгнание интервентов из столицы и страны вообще. Под властью ополчения, предводителями которого стали князь Д.М. Пожарский и К.Минин, очутились многие уезды Среднего и Верхнего Поволжья. Весной 1612 г., когда Второе ополчение прибыло в Ярославль, переговоры со шведскими властями об избрании брата короля, точнее, Карла Филиппа, возобновились, но из-за начавшихся под Москвой военных действий были отложены.
В августе 1612 г. отряды обоих ополчений, прежде всего нижегородского, нанесли поражение войскам гетмана К. Ходкевича, пытавшимся прорваться в Москву. Вскоре объединенное ополчение овладело Китай-городом, и оборонявшийся в Кремле гарнизон полковника Н.Струся капитулировал.
В январе 1613г. временное правительство, состоявшее из активных участников освободительной борьбы, созвало Земский собор с целью избрания государя. В числе претендентов находился и шведский королевич, более того, поначалу его шансы котировались выше, чем других кандидатов. Но в феврале 1613г. на московский престол был избран Михаил Федорович Романов, что явилось залогом скорого прекращения Смуты. В последующие годы новому правительству удалось покончить с казацко-крестьянскими волнениями (самыми крупными из них были движения атаманов И. Заруцкого и М. Баловнева), добиться ликвидации вольного казачества как сословной корпорации, упрочить основы феодального землевладения, наконец, заключить Столбовский мир со Швецией (1617г.) и Деулинское перемирие с Речью Посполитой (1618г.).
Немаловажную роль в политической борьбе времени Смуты сыграло духовенство, в том числе новгородское, представителем которого является Киприан Старорушанин.
Напомним, что Русская Православная Церковь, которая стала автокефальной в середине XVb. в связи с крушением Византийской империи, сумела заметно упрочить свое положение (несмотря на внутренние конфликты и противоречия с государственной властью) при Иване III и его преемнике на великокняжеском престоле. Недаром именно тогда появляется знаменитая политическая доктрина «Москва - третий Рим», получившая законченное выражение в послании псковского старца Филофея к Василию III. Важным этапом в укреплении положения российской церкви стала череда соборов середины XVI в., созванных митрополитом Макарием (среди этих соборов выделяется Стоглавый, состоявшийся в 1551г.). Со времени
Избранной рады» на смену церковно-земским соборам пришли земские, непременной частью которых являлось высшее духовенство во главе с митрополитом (так называемый освященный собор). Церковно-государственные отношения серьезно обострились с предопричных лет и особенно в годы опричнины, о чем свидетельствуют «дела» митрополита Филиппа (Колычева), новгородских архиепископов Пимена (Черного) и Леонида, конфискация части земель рязанской владычной кафедры. Принятие в первой половине 1580-х годов приговоров об отмене тарханов несколько смягчило противоречия между церковной и светской властями в экономической сфере.
С воцарением Федора Ивановича в условиях раздоров между различными боярскими группировками политическая роль церкви вновь возросла. Митрополит Дионисий одно время пытался играть роль посредника в борьбе между Шуйскими и Годуновыми. Вскоре он решил поддержать знатнейших князей Суздальского дома, настаивавших на разводе царя с сестрой Бориса Годунова Ириной по причине ее «бездетства». «Челобитье» Шуйских и их сторонников, продиктованное якобы заботой об интересах династии, потерпело неудачу, Дионисий и его единомышленник крутицкий архиепископ Варлаам Пушкин в 1586г. были лишены кафедр и сосланы. Митрополичий престол занял ставленник правителя Бориса Иов, в январе 1589г. посвященный в сан патриарха Московского и всея Руси.
Учреждение патриаршества стало важной вехой в истории российской церкви. Заметно упрочилось ее международное положение. Хотя московский патриарх занимал во вселенской иерархии последнее (пятое) место, по значимости, материальному благополучию он явно превосходил остальных. Рубеж XVI - XVII вв., когда создаются новые епархии, продолжается канонизация святых, растет церковно-монастырское землевладение, возникают обители, происходит интенсивное храмостроительство, отмечен стабилизацией государственно - церковных отношений, что содействовало преодолению, пусть временному, последствий социально-политического и хозяйственного кризиса последних полутора десятилетий царствования Ивана Грозного. Эта стабилизация отчасти способствовала и борьбе со страшным голодом 1601 - 1603гг., в котором многие современники усматривали предвестник многолетней разрушительной Смуты - по определению ученых рубежа XX - XXI столетий, гражданской войны, осложненной польско-литовской и шведской интервенцией.
Раскол, который произошел в русском обществе в Смутное время, затронул и православную церковь. Так, если патриархи Иов и Гермоген были верными сторонниками Годуновых, а затем Василия Шуйского, то рязанский архиепископ Игнатий Грек, псковский епископ Иосиф сделались приверженцами самозванцев. По-разному относились к московским государям или претендентам на трон и представители рядового приходского духовенства. Важную роль в освободительной борьбе сыграли иноки Троице-Сергиева, Пафнутьево-Боровского, Кирилло-Белозерского монастырей. Пропагандистская деятельность ряда церковных иерархов и властей части обителей содействовала организации и военным успехам земских ополчений.
В последнее десятилетие в отечественной историографии оживился интерес к истории русской церкви, в частности, в эпоху позднего средневековья. Становится все более общепризнанным, что Русская Православная Церковь сыграла немалую и в целом позитивную роль в событиях гражданской войны начала XVII в. и в последующие годы, когда преодолевались последствия «конечного разорения» Московского государства. При этом, однако, внимание историков по-прежнему приковывает деятельность патриархов Иова и Гермогена, Дионисия Зобниновского, Авраамия Палицына. Крупных монографических исследований по истории русской церкви первой трети XVII в. до сих пор не существует, что, несомненно, сказывается на состоянии изученности прошлого нашей страны в этот период в целом.
Одним из наиболее видных церковных деятелей Московского государства 1610 - середины 1630-х гг. является Киприан Старорушанин. Он сыграл немаловажную роль в русско-шведских мирных переговорах о возвращении Новгорода под власть нового царя Михаила Федоровича, позднее - в становлении сибирской архиепископии и затем, будучи митрополитом Крутицким, наконец, Новгородским. Наряду с достаточно насыщенной церковной деятельностью Киприан занимался и литературной, с его именем часто связывают зарождение сибирского летописания. Административно-церковная, политическая и книжная деятельность Киприана не раз привлекала внимание исследователей, однако до настоящего времени специального исследования о нем, которое охватывало бы весь период жизни Киприана, разнообразные стороны его деятельности, не существует, что и побуждает нас обратиться к изучению судьбы Киприана как одного из виднейших церковных деятелей России конца Смуты и двух последующих десятилетий (последние годы жизни «Старорушанин», являясь владыкой Новгородским и Великолукским, занимал второе место в церковной иерархии, очевидно, со смертью Филарета мог даже претендовать на патриаршество, чему, между прочим, помешало то обстоятельство, что Киприан был уже стар: он умер всего лишь год спустя).
Историография проблемы. У истоков историографии занимающей нас темы находятся сибирские летописи XVIIb., где первый тобольский архиепископ изображен христианским просветителем зауральской окраины России. Такой тезис проводится, в частности, Саввой Есиповым и Семеном Ремезовым1. Эта оценка была воспринята родоначальником научной
1 ПЛДР: XVII век. М., 1989. Кн.2. С.564; ПСРЛ. М., 1987. Т.36. С.70. См. также: Гольденберг Л.А. О первом историке Сибири // Русское население Поморья и Сибири (Период феодализма). М., 1973. С.225. историографии Сибири Г.Ф. Миллером . Последний отмечал, что Киприаном были заложены основы сибирского летописания, он же, находясь в Тобольске, успел выстроить комплекс архиерейского двора, обзавестись многочисленными земельными угодьями. Киприан, на взгляд Г.Ф. Миллера, проявил себя как умелый администратор и основатель многих храмов и монастырей3.
Основные факты биографии «Старорушанина» в начале XIX в. были приведены видным церковным историком Амвросием Орнатским. Первая, хотя и сжатая, биографическая справка о Киприане встречается в известном словаре выдающегося ученого рубежа XVIII - XIX столетий митрополита Евгения (Е.А. Болховитинова), впервые изданном в 1809г. Видный историк исходил в основном из сведений Г.Ф. Миллера и представил Киприана создателем синодика «ермаковым казаком» и ранней сибирской летописи4. В
2См.:Бахрушин С.В. Г.Ф. Миллер как историк Сибири // Миллер Г.Ф. История Сибири. М.; JI., 1937. T.I, С.46; Мирзоев В.Г. Историография Сибири (XVIII век). Кемерово, 1963. С.155.
3 Миллер Г.Ф. История Сибири М.; Л., 1941. Т.2. С.68.
4 Амвросий /Орнатский/ История российской иерархии. М., 1807. 4.1. С. 79, 109, 233, 237; Евгений /Болховитинов Е.А./ Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви. М., 1995. С. 178. Аналогичные сведения привел и А.В. Старчевский в «Очерке литературы русской истории до Карамзина» (СПб., 1845. С.60-61) и Филарет (Гумилевский) в книге «Обзор русской духовной литературы: 862-1720» (Харьков, 1859. Кн.1. С.224). середине XIX в. появились работы известного сибирского ученого Н.А. Абрамова, в которых главное внимание уделено пастырской деятельности Киприана в Сибири, в частности, открытию им новых монастырей, церковному строительству, учреждению духовного суда.
В двух статьях Н.А. Абрамова, посвященных первому сибирскому архиепископу, преимущественно воссоздана его церковно-административная деятельность, включая усилия по исправлению нравов паствы, организации владычного дома, устроению новых обителей. С точки зрения Н.А. Абрамова, Киприан явился родоначальником и землевладения тобольского Софийского дома, а также зачинателем местного летописания с целью прославления Ермака и его сподвижников как христианских просветителей Сибири5. Основные данные и выводы Н.А. Абрамова в книге по истории Тобольска повторил К.М. Голодников6.
В известном справочнике знаменитого археографа П.М. Строева были систематизированы данные о продвижении Киприана по ступеням церковной иерархии7.
В «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева лаконично, главным образом в форме изложения показаний источников, говорится об участии Киприана в переговорах в Выборге и Москве на закате Смуты, его назначении в Сибирь и попытках исправления там нравов паствы8.
5 Абрамов Н.А. Город Тюмень: Из истории Тобольской епархии. Тюмень, 1998. С.66-71, 96-105.
6 Голодников К. Г. Тобольск и его окрестности: Исторический очерк. Б.м., 1887. С.37-40.
7 Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. СПб., 1877. С.35, 50, 317, 999, 1035.
8 Соловьев С.М. Соч. М., 1990. Кн. 5. С.69-70, 72, 298, 309, 310.
К числу наиболее значительных работ по теме, появившихся в Х1Хв., относится «История русской церкви» митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). В этом труде освещены последние этапы церковно-административной деятельности Киприана.
По данным Макария, Киприан находился среди святителей, подписавших вместе с патриархом Филаретом «соборное изложение о способе принятия белорусцев в Русскую Церковь». Назначение Киприана в Тобольск Макарий объясняет необходимостью дальнейшей христианизации Сибирского края, где остро ощущалась потребность в священниках и антиминсах. Вслед за Н.А. Абрамовым Макарий пишет об открытии Киприаном в Сибири новых монастырей, учреждении первым сибирским архиепископом духовного суда, который осуществлялся десятильниками. С точки зрения Макария, крещение многих инородцев, успехи пастырской деятельности, которых добился Киприан в Сибири, объясняют вызов его в Москву и поставление в митрополиты Крутицкие. В книге Макария освещена роль Киприана в освидетельствовании Ризы Христовой и установлении праздника на положение этой Ризы в 1626г. Макарий сообщает и об участии Киприана в возведении на патриаршество преемника Филарета Иоасафа.
Книжную деятельность Киприана Макарий, однако, ограничивает только написанием службы в честь Ризы Господней9.
Первые специальные работы о Киприане, но опять-таки как деятеле
9 См.: Макарий /Булгаков/. История русской церкви. СПб., 1882. Т. 10. Кн.2. С.36-41; Сулоцкий А.И. О сибирском духовенстве. Тюмень, 2000. С.503. Тогда же появились краткие биографические справки о Киприане. См., например: Здравомыслов К.Я. Киприан // Русский биографический словарь. СПб., 1897. Т. Ибак-Ключарев. С.646. сибирской церкви, принадлежат известному харьковскому историку П.Н. Буцинскому, труды которого базируются преимущественно не на летописных данных, а на актовых материалах, главным образом архивных. В монографии «Заселение Сибири и быт первых ея насельников» (1889г.) и статье, изданной также отдельной брошюрой, «Открытие Тобольской епархии и первый тобольский архиепископ Киприан» (1891г.). П.Н. Буцинский детально осветил историю учреждения Тобольской архиепископии, подробно описал процесс начала складывания хозяйства Тобольского владычного дома, проанализировал взаимоотношения Киприана со светскими властями Сибири, прежде всего с тобольской администрацией, остановился на попытках первого сибирского архиерея обратить местных инородцев в православие, а также затронул деятельность Киприана по исправлению нравов своей паствы, в том числе в монастырях, и созданию административно-церковного аппарата Софийского дома.
П.Н. Буцинский подробно рассмотрел деятельность Киприана, направленную на формирование земельной собственности Тобольской архиепископии, проанализировал историю возникновения при участии владыки новых храмов и монастырей в Сибири, остановился на взаимоотношениях «Старорушанина» со светскими властями, выполнении им административно-судебных функций. Книжная деятельность первого сибирского владыки П.Н. Буцинского почти не интересовала, в этом отношении он практически целиком следовал за Н.А. Абрамовым10.
А.Н. Пыпин, обобщая сведения ряда историков, прежде всего П.И. Небольсина и П.Н. Буцинского, попутно затронул вопросы о причастности
10 Буцинский П.Н. Соч.: В 2-х т. Тюмень, 1999. Т.1, 2. В оценке Е.К. Ромодановской П.Н.Буцинский дал яркую характеристику Киприана (Ромодановская Е.К. Избр. труды: Сибирь и литература: XVII век. Новосибирск, 2002. С.231).
Киприана к зарождению летописания в Сибири и роли первого тобольского архиепископа в исправлении «нравственного состояния» своей паствы".
В самом конце XIX в. в «Русском биографическом словаре» и трудах об иерархах новгородской церкви» появились лаконичные биографические справки о Киприане К.Я. Здравомыслова. В работах К.Я. Здравомыслова, хотя они носят справочный характер, изложены только основные факты церковной и административной деятельности Киприана, преимущественно в новгородский период его деятельности. Автор остановился и на литературном творчестве «Старорушанина», указав его сибирскую летопись, канун и стихиры в честь Ризы Христовой, завещание и некоторые документы,
12 появившиеся не без ведома митрополита .
В целом фактический материал, приведенный в этих энциклопедических работах, не выходит за рамки трудов Н.А. Абрамова и Макария, порой здесь допускаются и отдельные фактические неточности (при определении времени пребывания Киприана на владычных кафедрах в Тобольске и Новгороде).
Наиболее крупной работой о Киприане как политическом деятеле Смутного времени является монография Г.А. Замятина. На основании обширного, прежде всего документального материала, историк, исследуя вопрос о кандидатуре шведского принца Карла-Филиппа на русский престол, постарался выявить политическую позицию хутынского архимандрита и ее
11 Пыпин А.Н. История русской этнографии. СПб., 1892. Т.4. С.326, 425427.
12Здравомыслов К.Я. Иерархи новгородской епархии (Краткие биографические очерки). Новгород, 1897. С.41; Историко-археологический очерк Хутынского Варлаамиева Спасо-Преображенского монастыря (Новгородской губ. и уезда). М., 1892. С.28. эволюцию в зависимости от расстановки в Новгороде социально-политических сил и в связи с положением в «Московской Руси», а также в
13
Швеции . Однако о роли Киприана в переговорах новгородцев об избрании Карла-Филиппа на московский либо новгородский престол Г.А. Замятин писал лишь попутно, не более.
К дипломатической деятельности Киприана Г.А. Замятин обращался и позднее, в неопубликованной докторской диссертации конца 1930-х годов «Очерки по истории шведской интервенции в Московском государстве в начале XVII в.» 14.
Другой этап деятельности Киприана в Новгороде, уже в качестве местного владыки, но опять- таки вскользь, рассматривается в монографиях Б.Д. Грекова о Новгородском Софийском доме. Автор останавливается лишь на церковно-административной деятельности митрополита, привлекая обильный фактический материал, среди которого выделяется «извет» на Киприана, составленный новгородскими дьяками. Б.Д. Греков показывает, что в своей церковно-административной деятельности «Старорушанин» следовал представлению о приоритете «пастырской власти» над светской, пытался, хотя в целом безуспешно, расширить земельную собственность митрополии, не останавливаясь порой перед нарушением патриарших и царских указов. Ученый рисует Киприана главой сплоченной корпорации софийских приказных и детей боярских, которая вступила в открытую конфронтацию с государевыми приказными людьми15.
11
Замятин Г.А. К вопросу об избрании Карла-Филиппа на русский престол (1611-1616г.). Юрьев, 1913.
14Коваленко Г.М. История Новгорода в трудах Г.М. Замятина // НИС. СПб., 1997. Вып. 6 (16). С. 246, 247.
15 Греков Б.Д. Избранные труды. М., 1960. Т.3,4.
В конце XIX - начале XX вв. были опубликованы специальные работы о роли духовенства в событиях Смутного времени16. Однако о политической деятельности Киприана, представлявшего новгородское правительство на переговорах в Выборге и Москве, в этих работах не говорится. Кстати, в обобщающих трудах по церковной истории России, появившихся в советское время17, о Киприане, в том числе его судьбе в 20- середине 30-х годов XVII в., также умалчивается.
В последующие десятилетия работ о политической и церковно-административной деятельности Киприана почти не появлялось, зато многие историки и литературоведы обратились к выяснению роли Киприана на поприще книжной культуры. Прежде всего исследователей привлек давний вопрос о степени причастности Киприана к зарождению сибирской летописной традиции. A.M. Ставрович в неопубликованном исследовании 1920-х гг. пришла к выводу о составлении Киприаном летописи, с которой якобы и ведет начало сибирское летописание. Этот тезис позднее был поддержан Д.С. Лихачевым и Н.В. Устюговым. Однако большинство специалистов по истории ранней русской сибирской книжности не
16 Воробьев Г. Смутное время. Деятельность русского духовенства (1605 -1613) // Русский архив. 1892. №1; Иванов Ф. Церковь в эпоху Смутного Времени на Руси. Екатеринослав, 1906; Дмитриевский А. Святейший патриарх Гермоген и русское духовенство в их служении Отечеству в смутное время. СПб., 1912; Покровский И.М. Русское духовенство, его патриотизм и деятельность в защиту православия и законной национальной царской власти в смутное время и при избрании на русский престол боярина Михаила Федоровича Романова. Казань, 1913.
17
Церковь в истории России: Хв. - 1917г.: Критические очерки. М., 1967; Русское православие: Вехи истории. М., 1989. согласилось с таким заключением. С.В. Бахрушин, В.Г. Мирзоев, Е.К.
Ромодановская при этом сводят роль Киприана лишь к составлению синодика «ермаковым казаком» или даже к инициативе его создания. Таким образом, Киприан лишь косвенным образом, как оказывалось, повлиял на
18 зарождение летописания в Сибири .
С.В.Бахрушин, остановившись на роли Киприана в возникновении сибирского летописания (сводя ее к написанию синодика «ермаковым казаком»), характеризует первого тобольского архиепископа как властного, умного, непреклонного, самонадеянного, гордого. Видный ученый отметил, что Киприану удалось обзавеститсь в Сибири обширными вотчинами и выстроить Софийский собор19. На вопросе о причастности первого сибирского архиепископа к зарождению местного летописания остановились также Н.А. Дворецкая и Е.И. Дергачева-Скоп. Совсем недавно JI. Е. Морозова приписала Киприану некий летописчик или другое сочинение, которое явилось общим источником московского Нового летописца (далее - HJI) и
20 тобольской «Книги записной» .
Порой историки и филологи обращают внимание и на другие факты книжной деятельности Киприана. Так, Е.К. Ромодановская систематизировала сведения о книгах, которыми владел «Старорушанин».
Она же высказала предположение о причастности Киприана к появлению так
21 называемого «Документального сказания» о Ризе Христовой . Видный
18 См.: Ромодановская Е.К. Киприан Старорусенков // СККДР. СПб., 1993. Вып.З. 4.2. С.156-163 (переизд.: Она же. Избр. труды. С.358-366).
19 Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1955. Т.З 4.1. С. 18-19, 27-30, 268,
282.
20 Морозова J1.E. Смута начала XVII века глазами современников. М.,
2000. С.368. Ср.: С.365.
21
Ромодановская Е.К. Киприан Старорусенков. С. 161, 162, и др. современный книговед И.В. Поздеева указала на идейную направленность сочиненной Крутицким митрополитом церковной службы в честь этой христианской святыни22. Г.П. Енин в работе об установлении в Москве почитания Ризы Христовой как новой православной святыни рассматривает данную службу как отражение официальной идеологии, подчеркивая тезис автора о том, что благодаря новому царю и патриарху бедствия Смуты остались позади. Символом особого божественного благоволения к высшим светским и церковным властям, с точки зрения Г.П. Енина, и явилась доставленная в Москву персидскими послами Риза Христова23. В работах А.В. Лаврентьева и А.А. Турилова24 предпринята попытка, обосновать мысль
22
Поздеева И.В. Русские литургические тексты как источник изучения русской государственной идеологии XVII в. (к постановке вопроса) // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. Новосибирск, 1984. С.29; Она же. Историко-культурное значение деятельности Московского Печатного двора в первой половине XVII века // Поздеева И.В., Пушков В.П., Дадыкин А.В. Московский Печатный двор -факт и фактор русской культуры 1618 - 1652 гг.; От восстановления после гибели в Смутное время до патриарха Никона: Исследования и публикации. М., 2001. С. 15.
23 Енин Г.П. К литературной истории Сказания о даре шаха Аббаса // Мравалтави. Тбилиси, 1985. Сб. 11. С. 154-161.
24Лаврентьев А.В. Летописный свод 1652 года как источник для изучения русской средневековой повести XV - XVII вв. // Русская книжность XV - XIX вв. М., 1989 (Тр. Гос. Ист. Музея. Вып.71.); Лаврентьев А.В., Турилов А.А. «Повесть о Словене и Русе» («Сказание о Великом Словенке») о происхождении и ранней истории славян и Руси // Славяне и их соседи: Тез. 15 конф. М., 1996. С.24; Буланин Д.М., Турилов А.А. Сказание о Словене и Русе // СККДР. СПб., 1998. Вып. 3. Ч.З. С. 445 - 446. о Киприане как авторе «Повести о Словене и Русе». В.В. Яковлев связывает с
9 S именем Киприана создание новгородского летописного свода 1630г . Порой имя Киприана гипотетически связывается и с развитием общерусского летописания. Так, JI.E. Морозова попыталась аргументировать гипотезу о л/
Киприане как создателе или главном авторе HJI .
В последнее десятилетие историки после значительного перерыва обратились и к рассмотрению административно-хозяйственной деятельности Киприана как сибирского архиепископа. Академик Н.Н. Покровский, анализируя издаваемые им документы Тобольского владычного дома времени Киприана, указал на предоставленные архиепископу широкие полномочия в сфере чисто светской, вплоть до контроля за деятельностью воеводской власти, а также в области духовного суда, не говоря уже о церковном строительстве и обзаведении хозяйством. Ученый детально проанализировал на основании большей частью доступных еще П.Н. Буцинскому документов
27 процесс становления собственности Тобольского Софийского дома ;
98 некоторые дополнительные сведения на этот счет привела Н.А. Балюк . О становлении святительского суда в Тобольске при первом местном владыке
Яковлев В.В. Новгородское летописание XVII века: Автореф. дис. . канд. ист. наук. СПб., 1997. С. 14; Он же. Новгородско-псковская летопись 1630 г. // Опыты по источниковедению: Древнерусская книжность. СПб., 2001. Вып. 4. С. 390, 391.
26 Морозова JI.E. Смута начала XVII века. С. 431-437, 440, 445.
9 7
Покровский Н.Н. Начало вотчин Тобольского Софийского дома // ВИД. СПб., 1998. Т.26. С. 173-184; Предисловие//ТАД. С. 20-27.
9 X
Балюк Н.А. Монастырские вотчины Софийского дома в XVII веке // Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея: 1994. Тюмень, 1997. С.60; Она же. Тобольская деревня в конце XVI -XIX вв. Тобольск, 1997. мимоходом писал Е.В. Вершинин .
Несмотря на оживление исследовательского внимания к занимающей нас теме, она по-прежнему остается не изученной комплексно. Историки или филологи нередко только вскользь касаются административно-судебной, политической и книжной деятельности Киприана с последних лет Смуты до его кончины на новгородской митрополии (церковная, прежде всего усилиями П.Н. Буцинского, рассмотрена несравненно полнее). Как недавно отмечено Е.К. Ромодановской, еще требует изучения «полный круг
30 сочинений Киприана, в первую очередь сибирских» . Целостного анализа многосторонней деятельности Киприана пока еще не предпринято.
Хотя исследователи нередко обращались к деятельности Киприана, их внимание зачастую привлекал тот или иной этап его биографии: новгородский (в Смутное время либо в конце жизни), сибирский, реже московский (когда «Старорушанин» являлся митрополитом Крутицким). Целостного труда, в котором бы систематизировались сведения о судьбе Киприана на протяжении нескольких десятилетий, не существует. Кроме того, историки и филологи изучали большей частью какую-то из сторон деятельности Киприана в рамках указанных периодов: административную, церковную, книжную. Его облик как видного церковного иерарха и книжника по имеющимся трудам оказывается тем самым лишенным единства. Следует также заметить, что в этих трудах, в том числе справочного характера, допущено немало фактических неточностей, например, в определении времени пребывания Киприана на владычных кафедрах в Сибири, на «Крутицах» и в Новгороде Великом. Порой исследователи и некритически
29Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. С. 105 - 106.
30 Предисловие // ЛП. С.8-9. следуют известиям нарративных источников, в частности, HJ1 и Ремезовской летописи (о гонениях, которым подвергался хутынский архимандрит со стороны шведских захватчиков, распоряжении царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета Киприану установить поминовение «ермаковых казаков»). Остается дискуссионным ряд спорных проблем, связанный с деятельностью «Старорушанина» на поприще книжной культуры. Таковы, в частности, вопросы о степени причастности Киприана к становлению сибирского летописания, принадлежности ему одной из разновидностей Повести о Словене и Русе, Нового летописца, так называемого Документального сказания о Ризе Христовой.
Касаясь политической деятельности хутынского архимандрита, представлявшего Новгород перед лицом шведских властей в Выборге и московского правительства в 1615г., исследователи не остановились на причинах изменения отношения Киприана к кандидатуре Карла Филиппа как потенциального государя Новгородской земли, а потом и всей России. Недостаточно раскрытыми видятся и мотивы посвящения «Старорушанина» в сан архиепископа Тобольского. Деятельность Киприана в Сибири, направленная на формирование земельной собственности владычного дома, подчас трактуется весьма прямолинейно. Считается, к примеру, что центральные власти удовлетворяли любые просьбы архиепископа насчет приписки к его вотчинам новых земель и угодий. Не вполне выяснены и формы расширения хозяйства Тобольского владычного дома в первые годы его существования. Порой в историографии лишь намечены линии взаимоотношений архиерейской кафедры, когда ее занимал Киприан, и светской администрации Сибири. Не отличается полнотой и рассмотрение деятельности Киприана в качестве митрополита Новгородского, прежде всего в сфере святительского суда и упрочения христианского культа. В более детальном анализе нуждается состав библиотеки Киприана. Следует рассмотреть степень обоснованности ряда гипотез о принадлежности Киприану публицистических произведений первой трети XVII в. - HJI и
Повести о Словене и Русе», а также одного из сказаний, посвященных Ризе Христовой. Остро дискутируются, причем в течение многих десятилетий, проблемы зарождения сибирского летописания, у истоков которого нередко помещают синодик «ермаковым казакам», составленный первым тобольским архиереем либо по его распоряжению, или некую летопись, а то и целый свод, созданные благодаря инициативе Киприана или при его прямом участии, - произведения, которые до нас не дошли, отразившиеся в более поздних памятниках сибирского летописания, послужившие источниками «общерусских» сочинений. Нуждаются в уточнении и конкретные формы организации Киприаном книжного дела в Тобольске, Москве, Новгороде -городах, с которыми связана его и политическая, и административная, и церковная деятельность.
Источниковая база исследования складывается из многообразных документальных и нарративных памятников.
Среди документальных источников по значимости выделяются синодик «ермаковым казаком», автором или же инициатором создания которого нередко признается Киприан, копийные книги Тобольского владычного дома 20-30-х гг. XVII в. и выдержки из этой делопроизводственной документации. Эти материалы, большей частью знакомые еще П.Н. Буцинскому, в 1994г. в основном были изданы Н.Н. Покровским и Е.К. Ромодановской, а в 2001г. -Н.А. Балюк31. Документы32, отражающие церковно-административную
31 ТАД; Вотчины Тобольского Софийского Дома в XVII в. Тюмень, 2001. С.12-14.
32 Яновский П. Описание актов Новгородского Софийского Дома // ЛЗАК за 1901 год. СПб., 1902. Вып. 14; ЛЗАК за 1906 год. СПб., 1908. Вып. 19; Греков Б.Д. Описание актовых книг, хранящихся в архиве имп. Археографической комиссии. Пг., 1916. деятельность Киприана того времени, когда он возглавлял новгородскую церковь, частично описаны и изданы П. Яновским и Б.Д. Грековым; отдельные публикации такого материала появлялись и в XIX - начале XX вв33. О деятельности Киприана в Новгороде в последние годы жизни свидетельствует опубликованное А.Н. Зерцаловым любопытное «доводное дело» на владыку (результат этого доноса остается неизвестным)34. Другой видный археограф С. А. Белокуров издал документацию об освидетельствовании в Москве при участии Киприана Ризы Христовой35. В.А. Фигаровский опубликовал грамоту новгородского правительства в Москву (1615г.), дающую представление о роли Киприана в политической жизни того времени. В. JI. Янин недавно переиздал росписи новгородских святынь, возникшие при Киприане по поручению патриарха Филарета36.
Из документальных источников, сравнительно недавно введенных в научный оборот, важна опись Новгорода, составленная вскоре после его освобождения от шведов в 1617г. В этом документе находим отрывочные сведения о Киприане как хутынском архимандрите, в частности, любопытные
33 См.: РИБ. СПб., 1875. Т.2. Стлб. 387-389; СПб, 1884. Т.8. Стлб. 348349; Пг., 1917. Т.35. стлб. 215 - 217, и др.
34 «О неправдах и непригожих речах» новгородского митрополита Киприана (1627-1633гг.) / Сообщ. А.Н. Зерцалов. М, 1896. л с
Белокуров С.А. Дело о присылке шахом Аббасом Ризы Господней царю Михаилу Федоровичу в 1625 году. М, 1891. Переизд.: Сборник Моск. гос. архива Министерства иностранных дел. М, 1893. Вып.5.
36 Фигаровский В.А. О грамоте новгородского правительства в Москву в 1615г. // НИС. JL, 1937. Вып.2; Янин B.JI. Некрополь Новгородского Софийского собора: Церковная традиция и историческая критика. М, 1988. С. 218-224. известия о том, что он отвез в Москву часть имущества своей обители (по-видимому, когда ездил туда во главе новгородской миссии к Михаилу Федоровичу)37. В число ценных источников по теме входят опубликованные еще в 1861 г. по рукописи Соловецкой библиотеки канонические определения
7 о
Киприана того времени, когда он занимал новгородскую кафедру . Этот документ фиксирует важную сторону церковной деятельности «Старорушанина», свидетельствуя о его попытке четко обозначить сферу «святительского суда», в которую не должны были вторгаться воеводы.
В дозорной и переписных книгах 1624-1626 гг. по Тобольску содержатся данные о «дачах» Киприана, изготовлении при нем церковной утвари, о владычных слугах39.
Из повествовательных источников по теме на первое место можно поставить летописи. Это HJI редакции конца 1620-х гг., по мнению большинства исследователей, возникшей в официальных кругах, скорее всего в окружении патриарха Филарета. В HJI имеется специальная статья о деятельности Киприана в бытность хутынским настоятелем в Новгороде и его московской миссии 1615г. Есиповская летопись основной редакции (1636г.) сообщает об учреждении Тобольской архиепископии, составлении синодика «ермаковым казакам» по распоряжению Киприана. Синодик же, но, как установлено, второй редакции, заключает Есиповскую летопись. Первоначальная же редакция синодика была обнаружена сравнительно недавно Е.К. Ромодановской и трижды ею опубликована. О приезде
37 Опись Новгорода 1617г. М., 1984. 4.1. о
Церковно-судебные определения Киприана, митрополита новогородского // Православный собеседник. Казань, 1861. №11. С. 335-348.
Тобольск: Материалы для истории города XVII и XVIII столетий. М., 1885. С.7, 13, 16, 19-22, 25; ТАД.
Киприана в Тобольск и о его пастырской деятельности в Сибири рассказывается и в Книге записной - тобольском летописном своде конца
XVII в, хотя с некоторыми хронологическими неточностями. В хронографах говорится об участии Киприана в освидетельствовании Ризы, его участии в поставлении на патриаршество Иоасафа и смерти. Новгородские летописи
XVIIb, в частности, Софийский свод 1630 г. Краткий летописец новгородских владык, Летописец новгородским церквам Божиим отражают биографию Киприана как новгородского митрополита, хотя весьма лаконично. В новгородских летописях преимущественно сообщается о назначении Киприана на новгородскую кафедру, въезде его в Новгород, кончине и погребении митрополита40.
В кратком летописце (по определению С.Ф. Платонова, новгородского происхождения), завершающем компилятивное «Иное сказание», говорится об участии Киприана в освидетельствовании Ризы Христовой, его
41 Т X поставлении на новгородскую митрополию и смерти . Из других источников в связи с мнениями, высказанными в литературе, важны «Документальное» сказание о Ризе Христовой, служба в честь принесения в Москву этой святыни, «Повесть о Словене и Русе», отразившаяся в новгородской книжности и проникшая в общерусские летописные своды42.
Из иностранных источников по теме представляет интерес книга
40 Новгородские летописи. СПб, 1879; ПСРЛ. М, 1965. Т.14; М, 1987. Т.36; Яковлев В.В. Новгородско-псковская летопись 1630 г. С. 465 - 467.
41 РИБ. СПб, 1909. Т.13. Стлб. 137, 139, 142.
42Гухман С.Н. «Докуметальное» сказание о даре шаха Аббаса России // ТОДРЛ. Л, 1974. Т.28; ПСРЛ. М.; Л, 1962. Т. 27. С. 138 - 140; М, 1968. Т. 31. С. 12, 28; Л, 1977. Т. 33. С. 140 - 142; Ромодановская Е.К. Русская литература на пороге нового времени: Пути формирования русской беллетристики переходного периода. Новосибирск, 1994. С. 203 - 209. известного историографа московской Смуты шведского ученого XVIIb. Юхана Видекинда. В труде этого историка главное внимание уделено русско-шведским отношениям в начале XVIIb., преимущественно по шведским источникам. Видекинд приводит данные о выборгских переговорах 1613г., которые вела с Карлом-Филиппом новгородская депутация во главе с Киприаном43. Сведения, сообщаемые Видекиндом, в целом совпадают с материалами русского происхождения.
Научная новизна работы заключается в том, что деятельность видного представителя Русской Православной Церкви XVII в. впервые становится предметом специального анализа, рассмотрены все этапы его многолетней деятельности, определяется место Киприана в истории России первой половины XVII в., прежде всего в судьбах русской церкви.
Хронологические рамки диссертации определяются вехами жизни Киприана - начало XVII в. - 1634г.
Территориальные рамки исследования обусловлены географией деятельности Киприана: Новгородская земля, Москва, Тобольская епархия.
Целью настоящего исследования является анализ многосторонней деятельности Киприана как архимандрита Спасо-Хутынского монастыря, архиепископа Тобольского, крутицкого митрополита, новгородского владыки.
В задачи выполняемого исследования входит рассмотрение церковной, административной, политической деятельности Киприана на всех ее этапах; определение места Киприана в развитии русской книжности, в частности, летописания в Сибири, Москве, Новгороде; выяснение роли Киприана в истории русской церкви, политической
43 Видекинд Юхан. История десятилетней шведско-московитской войны. М., 2000. истории Московского государства в первой трети XVII в.
Объектом исследования служит история русской церкви первой трети XVII в.
Предметом исследования является церковно-административная и культурная деятельность Киприана Старорушанина.
Методологические основы исследования. Основной принцип исследования составляет принцип историзма, позволяющий раскрыть объективную сущность рассматриваемых явлений в различных аспектах и динамике. Мы стремились использовать и комплексный метод, посредством которого можно разносторонне осветить жизнь Киприана на всех этапах его многогранной деятельности. Историко-сравнительный (компаративный) метод дал возможность сопоставить позиции Киприана по многим вопросам общественно-политической жизни со взглядами и поступками его современников.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и исследований.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Киприан Старорушанин - деятель Русской Православной Церкви и духовной культуры первой трети XVII в."
Заключение
Первая треть XVII в. в истории России отмечена затяжной Смутой и болезненным выходом из нее.
В годы острейшего социально-политического кризиса и вслед за ним, в период длительного правления патриарха Филарета, возросла роль церкви во многих сферах жизни Московского государства. Одним из наиболее крупных церковных деятелей этого времени должен считаться Киприан Старорушанин. Выдвинувшийся в «смутные лета», он вскоре вошел в число наиболее видных православных иерархов, игравших заметную роль и в культурной жизни страны.
Энергия и распорядительность, обнаруженные, видимо, Киприаном в качестве настоятеля небольшой обители в Олонецком крае, привлекли внимание новгородского митрополита Исидора, вместе с воеводой И.Н. Большим Одоевским возглавлявшего русскую администрацию оккупированного летом 1611г. шведами города. Киприан стал архимандритом Спасо-Хутынского монастыря, и уже вскоре в соответствии со старинной новгородской традицией начал выступать на дипломатическом поприще, скорее всего не без участия влиятельного Исидора. Во главе новгородской депутации «Старорушанин» отправился в Выборг на переговоры об избрании шведского королевича русским государем, хотя бы поначалу правителем Новгородской земли. Вероятно, Киприан отражал позиции той части новгородского общества, которая ратовала за водворение в «волховской столице» шведского принца с тем, чтобы со временем тот сделался московским царем. Такая позиция исходила из учета тактических соображений. (Смута продолжала углубляться, значительная часть страны, включая Москву и Новгород Великий, была оккупирована, и с помощью шведских войск можно, как рассчитывали, противостоять агрессии Речи Посполитой или по меньшей мере локализовать завоевания Швеции, если ее принц станет новгородским властителем, а потом и российским). Вместе с тем решение о приглашении Густава Адольфа, затем Карла Филиппа на «Новгородское государство», а со временем и Московское, возможно, преследовало и стратегические цели; не исключено, что новгородцы не прочь были подобным образом вернуть хотя бы некоторые из былых вольностей.
Длительные переговоры, которые вел Киприан «с товарыщи» в Выборге, окончились неудачей по ряду причин. Выяснилось, что в Новгороде набирали силу противники шведской кандидатуры на русский престол. По видимому, еще в Выборге хутынскому архимандриту стало известно о воцарении Михаила Федоровича Романова. Шведские власти не соглашались на предложение новгородцев, чтобы брат короля сперва сделался правителем бывшей республики, и лишь со временем - российским государем.
Уже вскоре по возвращении на родину политическая линия, которой держался Киприан в Выборге, существенно трансформировалась, и, надо думать, отнюдь не по личным мотивам. Новгородский «собор» во главе с митрополитом Исидором склонился в пользу признания государем Михаила Федоровича, но шведские власти, в том числе оккупационные, решили попытаться удержать древний город с округой силой. Эта попытка скоро обернулась неудачей. В Новгороде ширилось движение против захватчиков, провалом закончилась осада Густавом Адольфом Пскова, в Новгороде и на прилегающих к нему землях оккупационные войска испытывали все растущие продовольственные затруднения, порой даже угрозу голода. В этих условиях Киприан возглавил новую посольскую миссию, теперь уже в Москву, чтобы добиваться возвращения Новгорода в состав Российского государства. На переговорах с членами Боярской думы и самим Михаилом Федоровичем архимандриту Хутынской обители удалось наметить пути перехода Новгородской земли под власть нового царя. При этом гарантировалось прощение лицам, активно сотрудничавшим со шведами (в их числе одно время был и сам Киприан). О деятельности хутынского настоятеля, теперь уже, хотя едва ли открыто, враждебной оккупационным властям (недаром он отправился в Москву с их санкции), стало, таким образом, известно при царском дворе, и недаром, когда в 1620 г. было решено учредить архиепископию Тобольскую и Сибирскую, выбор пал на «Старорушанина», имевшего немалый опыт церковно-административной деятельности и слывшего знатоком «келейного и соборного чина».
В сибирской столице Киприан пробыл всего два с половиной года; еще несколько месяцев он управлял делами новой епархии, вернувшись в Москву. Тем не менее деятельность владыки, связанная со становлением новой кафедры, компетенция которой распространялась на бескрайние зауральские уезды, оказалась весьма результативной. При Киприане был построен архиерейский двор, освящена соборная церковь, названная Софийской (как и в Новгороде, что, видимо, объясняется настояниями владыки), широкие масштабы приняло основание храмов и монастырей. Еще лишь собираясь за Урал, Киприан стал хлопотать перед «великими государями» (царем и патриархом) о наделении тобольской архиепископии землями и угодьями; большинство (хотя и не все, как нередко считается в литературе) просьб такого рода удовлетворялось. Землевладение владычного дома увеличивалось и за счет вкладов частных лиц - от воевод до крестьян и казаков. Можно констатировать, что уже при сибирском «первопрестолнике» новообразованная кафедра превратилась в крупного земельного собственника (по меркам зауральской части России), что обеспечивало ей относительную независимость от светской администрации края (наряду с предоставлением руги Киприану и его клиру), расширяло возможности для решения одной из главных задач, поставленных перед владыкой накануне отъезда в Сибирь, -христианизации коренного «инородческого» населения. К числу таких задач относилось и исправление нравов паствы самой дальней «государевой вотчины», где были живы традиции казачьей вольницы, прежде всего служилых людей различных категорий и крестьян, а также упорядочение церковной жизни. Одной из забот нового владыки стало учреждение церковного суда, в первую очередь института десятильников, что вызывало нередко открытое противодействие воевод и письменных голов. Недаром к кругу функций первого тобольского архиепископа, явно по инициативе центральной власти, относился контроль за деятельностью местной администрации, начиная с тобольских воевод и дьяков. (В этом состояла специфика полномочий, которыми был наделен Киприан, - специфика, вполне обусловленная, как показал Н.Н. Покровский, правительственной политикой в Сибири). Отчасти это объясняет и конфликт, вспыхнувший между архиепископом и первым воеводой Тобольска М.М. Годуновым, -конфликт, в котором правительство явно приняло сторону владыки. Укрепление административной власти в сибирских уездах, в том числе за счет церковного аппарата, можно считать одним из главных итогов многообразной деятельности «Старорушанина», благодаря которой процесс «идеологического освоения» Зауралья (по выражению Н.А. Дворецкой) стал гораздо более интенсивным, чем в предыдущие десятилетия.
Заслуги первого архиепископа Тобольского и Сибирского (которому часто приходилось вести борьбу не только с представителями местной светской власти, но и с собственными клириками), были оценены в Москве: в конце 1624 г. Киприана посвятили в сан митрополита Крутицкого, т.е. сделался одним из высших иерархов Русской Православной церкви. Находясь в окружении патриарха Филарета, Киприан принимал участие в церковных соборах и освидетельствовании переданной в Москву шахом Аббасом христианской реликвии - «Срачицы Господней».
С 1626 г. до конца жизни «Старорушанин» являлся митрополитом Новгородским и Великолуцким, иначе говоря, занял второе место в ряду русских православных святителей. Только старость (ему было около 60 лет -возраст по тем временам более чем почтенный) и поступление в Москву весьма правдоподобного «извета» «о неправдах и непригожих речах», очевидно, помешали Киприану после кончины Филарета стать главой русской церкви.
Оказавшись новгородским владыкой, «Старорушанин» пытался возродить хозяйство Софийского дома после шведского «разорения», последствия которого еще продолжали ощущаться. Усилия Киприана в этом отношении остались малорезультативными. При нем возник «чиновник» Софийского собора и две росписи новгородских святынь, что означало попытку упорядочения практики богослужения (возможна, она была предпринята по инициативе Филарета). Будучи новгородским владыкой, Киприан уделял внимание и законодательной деятельности: им были составлены «церковно-судебные определения», направленные, в частности, на ограничение воеводского вмешательства в дела, подведомственные архиереям (что заставляет вспомнить о «служении» владыки в Сибири).
Данные о церковно-административной деятельности Киприана, прежде всего в Москве и Новгороде, позволяют аргументировать тезис С.Ф. Платонова о принадлежности бывшего хутынского настоятеля к кружку патриарха Филарета. Об этом свидетельствуют и систематизированные нами материалы о причастности «Старорушанина» к развитию книжной культуры.
Одобривший в Выборге перевод «Катехизиса» М. Лютера на русский язык, Киприан в последующие годы выступает как представитель ортодоксального богословия, судя по сочиненной им службе на положение Ризы Христовой (1625г.) и «церковно-судебным определениям» времени, когда он возглавлял новгородский Софийский дом. В службе, хотя это сочинение написано в традиционной манере, слышны отзвуки знаменитой теории московских книжников о третьем Риме и проводится идея об окончании Смуты как заслуге царя и патриарха, об особом Божественном покровительстве, которого удостоилась Россия, получив драгоценный «хитон» («Ризу Спасителя»). Созданная Киприаном служба в честь «дарования» шаха аббаса Михаилу Федоровичу, напечатанная и разосланная по епархиям уже к началу 1626 г, получила широкую популярность. Обретению Москвой новой православной святыни посвящены и многие другие произведения, но попытки приписать крутицкому митрополиту одно из них - так называемое Документальное сказание о Ризе Христовой -безосновательны.
На поприще книжной культуры Киприан выступал и в Сибири. В целях упорядочения положения новой архиерейской кафедры «Старорушанин» старался пропагандировать не только культы новгородских святых, к примеру, Варлаама Хутынского, или Стефана Пермского. Он решил использовать быстро замеченную им широкую популярность, причем и среди русских переселенцев, и татар, остяков, вогулов, атамана Ермака и его соратников, попытавшись придать им черты христианских просветителей края. Вскоре после приезда в Тобольск, в 1621/22г, владыка распорядился расспросить «ермаковых казаков» об обстоятельствах покорения «Кучумова царства», и получил от них «написание», видимо, довольно лаконичную «скаску» с ответами на вопросы Киприана (что, кстати, противоречит представлению ряда исследователей, будто этот памятник казачьего творчества появился еще в конце XVI в.). Имена атаманов и казаков, перечисленные в «написании», владыка повелел вписать в синодик соборной церкви Тобольска. Киприан может считаться не только инициатором составления синодика (ранняя редакция которого сохранилась в Чине православия, совершаемого в неделю православия Великого поста), но и его автором, хотя, по наблюдениям Е.К. Ромодановской, текст «помянника» Ермака и его сподвижников не был вполне отредактирован. Этот синодик выходит за рамки богослужебных сочинений такого рода, поскольку содержит краткий очерк основных событий похода казачьей «дружины» за «Камень», причем с хронологическими определениями; недаром позднее данный поминальный перечень подвергся правке.
Нередко считается, что Киприан составил синодик «ермаковым казаком» по собственному почину, без санкции центральной власти (которая под влиянием Смуты начала XVII в. враждебно относилась к вольному казачеству). Едва ли это так, принимая во внимание (на что нередко обращалось внимание в историографии) и независимый характер первого тобольского владыки, и его гордость, высокомерие, надменность. Киприану не удалось (это случилось лишь в 1636 г. при архиепископе Нектарии) добиться официально одобренного поминовения Ермака и его соратников не только в Москве, но и в Сибири. Но приказ владыки «кликати вечную память» ермаковцам как мученикам за веру, «насаждавшим» ее в «поганой» стране, следует рассматривать в качестве первого, но довольно решительного шага, на пути признания казаков христианскими подвижниками, и едва ли этот шаг был предпринят без ведома и даже одобрения московскими властями, учитывая широкие полномочия, которыми Киприана наделили перед отправкой в Тобольск, и то доверие, которым «первопрестольный» владыка пользовался со стороны царя и патриарха. К тому же поминание «ермаковых казаков» не получило широкого распространения, даже в Тобольске они «прославлялись» в такой форме только в Софийском соборе и только в неделю православия. Ввиду необходимости упрочения престижа новой епархии московские власти вполне могли пойти на то, чтобы «петь» Ермаку «с товарыщи» вечную память в главном храме сибирской столицы.
Составление синодика по инициативе Киприана, если не им самим, и наличие в этом синодике оригинальных черт (подчас данное произведение принималось за краткую летопись, реже - повесть), позволяло многим историкам и филологам говорить о причастности «Старорушанина» к зарождению сибирской летописной традиции, полнокровно развивавшейся свыше столетия. Некоторые исследователи указывают на создание Киприаном летописца (летописчика) либо даже свода, отразившего перипетии похода Ермака против «Кучумова» ханства; это сочинение иногда признавалось протографом Есиповской и Строгановской летописей, а его возникновение связывалось со стремлением «Старорушанина» прославить новообразованную епархию в целях упрочения позиций христианской веры в Зауралье. Данные суждения, однако, носят гипотетический характер и не подкреплены текстологически, как и вывод о том, что по казачьему «написанию» либо также синодику «ермаковым казаком» в бытность
Киприана в Тобольске там появилась некая повесть о «Ермаковом взятии» Сибирского «юрта», возможно, «Краткое описание о Сибирской земле и о похождении атамана Ермака» или его протограф, оказавшие воздействие на «сибирские» статьи общерусских летописей. Возможно (принимая во внимание и кратковременность пребывания Киприана на тобольской кафедре), при «Старорушанине» зародилась лишь мысль о необходимости составить местную летопись, но такое произведение начало вестись только при сменившем его в сибирской столице Макарии (как порой считает Е.И. Дергачева-Скоп).
Высказано и допущение о принадлежности Киприану ранней редакции повести, посвященной Словену и Русу. Доводы в пользу такого мнения (например, А.В. Лаврентьева) затруднительно признать обоснованными. Тем более, что данная гипотеза исходит из мысли о своеобразном обосновании в повести о ранней истории Руси и права Новгорода на самостоятельное существование (что якобы приобрело актуальность в Смутное время), и наличии в сказании, подчас принимаемом за новгородскую легенду, сибирских «мотивов».
Еще одно произведение, атрибутируемое Киприану, - Новый летописец - крупнейший памятник официального летописания конца патриаршества Филарета. Аргументы Л.Е. Морозовой на этот счет, как представляется, не подкрепляют данный вывод. В частности, и открывающие «Книгу, глаголемую Новый летописец» две статьи о «Сибирском взятии», и рассказ о судьбе Киприана во время шведской оккупации Новгорода, и статья о «Христовой срачице», едва ли стоит приписывать «Старорушанину», как и находить, что он мог сочинить многие «новгородские» статьи НЛ, а к работе над ним приступил, еще будучи в Тобольске.
Не выходит из круга гипотез, причем маловероятных, мнение о том, что знакомый Киприану князь С.И. Шаховской по заказу тобольского архиепископа, сочинил какую-то сибирскую летопись, которая могла явиться протографом для СЛ, а также ЕЛ.
Зато с должными основаниями можно полагать, что в окружении «Старорушанина», когда он возглавлял новгородский Софийский дом, сложился обширный свод, содержащий обильные новгородские, псковские, соловецкие известия. Свод 1630 г, относящийся к разряду общерусских провинциальных летописей, включает многочисленные статьи о новгородских владыках (вплоть до Киприана), сообщения за последние годы, в том числе появлении в Москве Ризы Христовой (опять таки с упоминанием о Киприане). Учитывая, что, по крайней мере, с конца XVI в. летописание в Новгороде не велось, «Старорушанину» можно приписать заслугу возрождения там старинной культурной традиции.
Киприан и в бытность архимандритом Спасо-Хутынского монастыря, и в последующие годы был владельцем многих богослужебных книг и рукописей либо изданий богословских сочинений; многие из них он дал вкладом в Тобольский архиерейский дом (куда подарил и немало церковной утвари).
Приведенные сведения позволяют считать «Старорушанина» видным деятелем русской книжной культуры - и в Сибири, и в Москве, и, наконец, в Новгороде Великом. Создание по инициативе или при участии Киприана синодика «ермаковым казаком», службы на положение Ризы Христовой, Софийского свода (по определению В.В. Яковлева, Новгородско-псковской летописи) 1630 г, возможно, сибирской летописи (или, что вероятнее, инициатива ее составления), собирание книг, хотя и достаточно привычного репертуара, - все это вполне вписывается в русло культурных начинаний «великого государя» Филарета и служит дополнительным аргументом для причисления видного представителя церковной иерархии к патриаршему кружку, во многом определявшему политику московского правительства в культурной сфере.
Вместе с тем нельзя утверждать, что деятельность Киприана в последние полтора десятилетия его жизни целиком определялась установками всемогущего патриарха. Если верить (на что есть веские основания) доносу новгородских дьяков на владыку, последний не признавал авторитета патриарха в канонических вопросах. Тот же документ позволяет присоединиться к мнению Д.С. Лихачева о том, что Киприан являлся приверженцем старинной новгородской доктрины о превосходстве духовной власти над светской (будучи в этом отношении своеобразным предшественником Никона, до поставления на патриаршество занимавшего, как известно, новгородскую митрополию). Этой доктрине «Старорушанин» во многом следовал в Сибири, но при поддержке «великих государей», что объясняется специфическими условиями края русской колонизации и становления владычного дома, да и натянутыми отношениями с главным воеводой (до приезда боярина Ю.Я. Сулешова).
Таким образом, церковно-административная деятельность Киприана весьма продолжительна и насыщена. В течение первой трети XVIIb. он поочередно являлся настоятелем олонецкого Клементьевского и новгородского Спасо-Хутынского монастырей, затем возглавлял новообразованную сибирскую архиепископию, был митрополитом Крутицким, наконец, Новгородским. Напряженная церковно-административная деятельность порой сочеталась с политической, главным образом в последние годы шведской оккупации Новгорода, когда Киприан являлся вначале сторонником шведской кандидатуры на новгородский престол, а потом деятельно ратовал за признание новгородцами власти нового московского государя. Политический «подтекст» имела и административная деятельность Киприана в Тобольске, где он осуществлял контроль, порой даже открыто, за светской властью, войдя в конфликт с воеводой М.М. Годуновым. Велика роль «Старорушанина» в становлении хозяйства Сибирского архиерейского дома, формировании его административного аппарата, духовного суда в зауральских уездах. Деятельность Киприана в последние годы жизни свидетельствует в пользу мнения о нем как стороннике давней новгородской теории превосходства церковной власти над светской.
С именем Киприана связывают многие культурные начинания того времени. Он, бесспорно, был причастен к составлению синодика «ермаковым казаком», послужившего едва ли не основным источником ранних сибирских летописей. Однако мысль о создании Киприаном какой-то сибирской летописи или возникновении при нем свода, отразившего события начального этапа присоединения Сибири к России, думается, не подкреплена достаточно убедительной аргументацией. Можно лишь допустить, что прославление «ермаковых казаков» в бытность Киприана сибирским владыкой не ограничилось только составлением синодика, который некоторые исследователи склоны отнести к летописному жанру. Быть может, Киприану принадлежит замысел сибирской летописи и даже первые шаги по его реализации. Такая летопись могла явиться общим протографом Есиповской и Строгановской исторических повестей. Поскольку, однако, эта летопись остается не найденной, приведенная точка зрения сугубо гипотетична. Некоторые исследователи атрибутируют Киприану и HJ1, «Повесть о Словене и Русе», однако такой вывод пока нельзя признать должным образом обоснованным, как и мысль о том, что из-под пера Киприана вышло так называемое «Документальное» сказание о Ризе Христовой, служба которой была напечатана к началу 1626г. Вслед за В.В. Яковлевым можно думать, что Киприан, занимая новгородскую митрополичью кафедру, был причастен к ведению местного летописания, в частности, к созданию Софийского свода. Сохранилось и немало сведений о книгах, которые принадлежали «Старорушанину», что также свидетельствует о нем как видном деятеле русской книжной культуры первой трети XVII в.
Хотя многообразная деятельность Киприана - церковная, административная, книжная - не во всем отвечала целям «устроения» страны в понимании царя и патриарха, прежде всего в годы, когда он являлся митрополитом Новгородским, «Старорушанин», бесспорно, - одна из наиболее ярких фигур в истории Русской православной церкви своего времени, - истории, которая, особенно в «послесмутный» период, остается изученной явно недостаточно. Исследование неординарной судьбы Киприана - политика, администратора, церковного иерарха, книжника - позволяет глубже и разностороннее, чем прежде, представить пути развития церкви в России первой трети XVII в, судить о месте церковной организации в жизни страны в этот, во многом переломный, этап ее истории.
Следовательно, Киприан может быть отнесен к числу наиболее крупных церковных деятелей Московского государства Смутного времени и двух последующих десятилетий1. Однако до настоящего времени при наличии многочисленных работ, где о Киприане зачастую говорится попутно, или трудов справочного типа, не существует монографического исследования о нем как администраторе, публицисте, родоначальнике сибирского владычного дома. Выполненная нами работа, как можно надеяться, хотя бы отчасти восполнит данный пробел, что будет содействовать дальнейшему изучению судеб русской православной церкви в первой трети «бунташного века» и истории отечественной книжной культуры того времени.
Эта оценка получает признание лишь в последнее время. См.: Миллер Г.Ф. история Сибири. Т.2. С. 686. Примеч. к §15.
Список научной литературыАрхипова, Марина Дмитриевна, диссертация по теме "Отечественная история"
1. Арсеньевские шведские бумаги. I. 1611 1615 гг. // Сб. НОЛД. Новгород, 1911. Вып. 5;
2. Актовые источники по истории России и Сибири XVI XVIII вв. в фонде Г.Ф. Миллера: Описи копийных книг: В 2-х т. Новосибирск, 1995. Т.2; Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией имп. Академии наук. СПб, 1841. Т.З;
3. Бовина-Лебедева В.Г. Новый летописец с продолжением до 1645г. // In Memoriam: Сб. памяти Я.С. Лурье. СПб, 1997;
4. Видекинд Юхан. История десятилетней шведско-московитской войны. М, 2000;
5. Володихин Д.М. Наиболее ранняя часть архива Приказа книгопечатного дела // Русское средневековье: Книжная культура: 1998г. М, 1998. Вып.1; Вотчины Тобольского Софийского Дома в XVII в. Тюмень, 2001; Временник Ивана Тимофеева. М.; Л, 1951;
6. Гухман С.Н. «Документальное» сказание о даре шаха Аббаса России // ТОДРЛ. Л, 1974. Т.28;
7. Древнерусские княжеские уставы XI-XVbb. / Изд. подг. Я.Н. Щапов. М, 1976; Дополнения к актам историческим, собранные и изданные имп. Археографическою комиссиею. СПб, 1846. Т.2;
8. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции / Собрал и издал А. Попов. М, 1869;
9. Корецкий В.И. Соловецкий летописец конца XVI в. // Летописи и хроники:1980 г. М., 1981;1. ЛП. Новосибирск, 2001;
10. Макарий. Описание Новгородского архиерейского дома. СПб, 1857; Миллер Г.Ф. История Сибири. М.; Л, 1941. Т.2; Новгородские летописи. СПб, 1879;
11. ПЛДР: Конец XVI начало XVII веков. М, 1987; XVII век. М, 1989. Кн. 2; Повесть о победах Московского государства / Изд. подг. Г.П. Енин. Л, 1982; Поздеева И.В, Ерофеева В.И, Шитова Г.М. Кириллические издания: XVI век - 1641 год. М, 2000;
12. Посольская книга по связям России с Англией 1613-1614 гг. М, 1979; Правда Русская. М.; Л, 1940. Т.1;