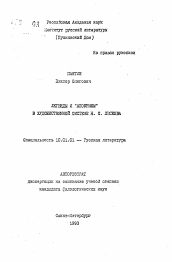автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Легенды и "Апокрифы" в художественной системе Н.С. Лескова
Полный текст автореферата диссертации по теме "Легенды и "Апокрифы" в художественной системе Н.С. Лескова"
1 , 2 (] л Российская Академия наук Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
На правах рукописи
ПАНТШ Виктор Олегович
ЛЕГЩЦЫ И .."АПОКРИФЫ" В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ Н. С. ЛЕСКОВА
Специальность 10.01.01 — Русская литература
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Санкт-Пэтербург ' 1993
Работа выполнена в Отделе новой русской литературы Института руоокой литературы (Пушкинский Дом) РАН
Научный руководитель —" доктор филологических наук
В. А. ТУ1ШАНОВ
Официальные оппоненты — доктор филологических наук
И. В; СТОЛЯРОВА кандидат филологических наук ДО
Л.-С. Пушкаре в а
Ведущая организация — С.-Петербургский Государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Защита диссертаод» состоится " фг^МсиХ^^ г. в /'часов на заседании Специализированного совэта Д.С02.43.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук при ¡Института русской литература (Пушкинский Дом) РАН по адресу: 199164, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
Автореферат разослан и" ^¿/¿^^'1994 г.
Ученый секретарь специализированного совета — кандидат филологических наук
В. К. П2ГЛ0В
Проблемы поэтики занимают центральное место в новейиих ис~ . вдованаях о Н. С.- Лескове. Приче« намечаются принципы анализа, ' точки зрения исторически изменяющейся системы мыслительных эдпорилок познания и культуры, преимущественно, — законов родной культур« (В. А. Тунимачов, А. А. Горзлоз, Б. С. Дыха-, за, 3. В. Гушечкяна а др.). 3 отом эоть своя закономерность: словам Д. С. Лихачева, "Лесков как бы хочет одэлать вид, что
0 произведения написаны "так" — между делом, написаны в "мах формах , принадлежат к низшему роду литературы ... Делая рму своих произведений как Он "чутой", он стремятся передо--гь ответственность за них на рассказчика, на документ, кото-И он приводит".1 Здесь встает актуальная в творчестве Лескова эблсгла взаакоотногюндя факта и вимксла з художестрэаноЛ струк-рэ текста, поставленная еще з 2С-е годн А. И. Белецким, но
1 рабатьгваемая лишь в коввчшлх работах 3. А, 'Гуниманова, А. В, хановского, 0. В. Звдоккмовол, 0. В. Аакудшовой.
В сгт-здиа-тьми литературе указявалось па своеобразие ясто-теского мышления писателя, который историографии предпочита-лсточнлки, стремится запечатлеть явление, увидев его "глаза-той именно среды", где это явление действовало.^ Опираясь в адом случав на авторитет.Л. Н. Толстого, Лесков считает, что зтинно не то, что есть я было, а то, что могло быть по свойст-дупа человзческок".3 В истории, по Лескову, есть нечто, "со-анкв'Еееся только в одних преданиях" (7, 466), Поэтому естество , что для него "проследить, как складызается легенда не-1ео интересно, чем проникать, с<как делается историям" (6, 159). гобствэняоУ терминологии писателя приходится признать его от-ленио к истории "апокрифическим": "3 течение многих лет, — ает он в предисловии к "Иняенерач-бэсс ребреникам"'''» — я со-ал изрядное число записей о разных-историях а разных лицах ,,»' их числе. — З.П.) есть такие, которые не представляют собою
^ Лихачев Д. С. Литература —. реальность — литература.. , 1934, С. 139—14С.
2 Афанасьев Э. А. Лесков и русская литература 1В в. // зков а русская литература. М., 1988. С. 14С, 143.
3 Лесков II. С. Слбр. соч.: В 11 т. У,., 1956—1958. Т. 11. 4С4. Далее ссылки на это изд. — а тексте.
настоящей исторической благонадежности, а некоторые дат,е кр® противоречат тому, что известно из других источников. Поэтому я не выдаю предлагаемые рассказы за верное, а лучше хочу считать их апокрифами- ... (из которых. — B.1J.) мо-кно' почерпну довольно верное понятие о вкусе и направлении мысли самих 00х-. нителэй, а это, феэ сомнения, характеризует дух времен;:" (в, 588, 589 ). ■
Лесков широко обращался к произволениям ранчехрпсттанскс и средневековой литаоатуры, в то« число к некаконизиропачным памятникам: вдокри&ичоскт/м евангелиям, кнтаягл, легендам и ске заниям. В классическом апокрифа для писателя важно то, что од дополняет и развавазт кенояичвсялй текст (библейский или еваа гельский), васпринимаяоь при этом неотделимо от него, то оси представляет собой вариант авторитетнейшего сведетэльст ла." 1 авторитетность, которой апэкри$ы пользуются в среде вэрукуд:«, зкядется на свидетельствах •( чале всего это радения ) очсзидосе событий Сзяиенной истории ала Олкзкйг к ним ллц,~ Философская сущность понятия определяется лох соотнесении с учения:.!:: г:гас ч'Ическях релз^аозно-фкяосо&скжс сект и состоит з более деталь ном к обоснованном толкован::;: библейских и евангельских событий, приближенном к конкретно-фактическому уровню коллективно го менталитета верующ:«.
Писатель в понятие "апокриф" вкладывает раскирителгное значение. Для него вто правднскй, но часто но подтверждаемый документами фак.т, живая клеточка истории: свидетельство о событиях, имеющее конкретного или коллективного автора, восприн мающего его как соответствующее реальности, кетин;.ое. Собирание и художестгелку» обработку таких '»апокрифов" Лесков счита ет одной из важнейшие задач литератора. "Апокрифы писать лучше, чс-А прукитьоя над ледащими вымыслами", — признается он в письма к А. С. Суворину (11, 362).
Легенда,.понимаемая как sarip фольклора или средневековой
1 См.. напр.! Лесков Н. С, Хития как литературный источник; Соваотвие во ад. Апокоиа-ичэское сказание,
о *
См., напр.: Свенцкцкая И, С, .Возникновение оаннехоисти ачехой литетзатугж //• Ааохрити-древних христиан.,. ь'и, liid9-. С. 6—32.. . * *
етературы, предъявляет к тексту некоторые непременные ^рзбова- • я, а именно: она-есть повествование о ообытия якобы имевшем зсто з дойотзнтельнооти; з ней, тем не менее, обязательны мо-..
-^обыкновенного, сверхъестественного. Обязательна личная »двлнутость героя из ряда обыденных персонажей; экзотична об-?ановка действия: ■ для современности я среды, Передающей леген-лросвзтляицяй, дидактического значения конец зачастую соедй-;Н с всоразрешающим вмешательством внсшей сншг-.^ При кэазмен->м интересе к легенде как таково:!, к которой Леонова влекла :а особенность художнического дар;ванкя, которая заставляла гсателя постоянно уклоняться с пути сухого следования фактам I путь свободной их аранжировки я толкования з свете "прамыс-1В" красочного млйотворчества "фантазяроэатих" современна-•в, лябикпих догсхязаться до окрнтых причанних связей между •стоя-агцйи. от нхх лицами и событиями",^-"легенда" для Лескова юто эквивалентна "басне" я "скаске" по обцв'ду осков-
■ку признаку иамсла. понимаемого своеобразно и не равному 3 древне"! легенде писателя интересуют, прээда всего, ее •лческач и эстетическая сторона, з "легендах нового сложенля"— ¿га ткань, структура, замысловатый процесс ее развития к ста-•алэ:пи э народном сознании.^ Исследование легенды всегда про-длт з ряиках творчества писателя, что приводи к созданию ее до^естззнно:; астерия. Лесков сам становится творцом современ-х легенд, причем легенд, уже изначально существующих в форме докестзеаннх произведена:! д потому от этой .Тормн неотделимых, огньок .читали овязаннпх не только с фольклором н древней книж-Л -■ультурзй, но а с произведениями бользой и мало Л литерату-от аптпчной до современной писатели. 3 ксследэзаник, такт? образом, принципы легендарности и ■ окр::^::чноот:: рассматриваются как базовые категории творческого
* Шов ?. Легенда // Литературная энциклопедия. X, 19?2. 6, С. 14С—144. . '
^ Горелов А. А. Н. С. Лесков л наводная культуга. "Л.,
83._ с» 273. •• ;
3 См..: Сухачев Н. Л.,' Тунхманов 3. А. Развитие легенда У скова //• — фоллиор — литература. Л., 1978. С. 114—115. .
датода писателя.
Актуальность темы определяется, таким образом, сачим пред метом исследования.
Пау^ЗД .новтагз теоретической проблематика состоит в анализе -художественно:; система Лескова с применением методики иэу чения менгшгышх структур, предложенной французским структурализмом (Р. Барт, М. П, Фуко) л яоввйзей §,шюоофаи>й. герменевтикой (X, Г. Гсдамэр).
Нгакгпчэскол ц?:~ноотъ исследования определятся, преете всего, иагерюцоу. а именно: введением в научный оборот малоизвестных '.1 впервые атрибутируемых мною текстов Лескова, ассле доЕШШйм кзмуарко-поторлческкх источников творчества писателя о широки-,! привлеченном архивных документов РО ШЛА, ЕРШ и библиотеки А. С, Лескоза з Орло;' а также результата:/'/ работы по восстановления .литературно-исторического и философского кон текста конкретных произведений писателя. Полученные наблюдения и выводы могут Сыть использованы (и у?.е начинают использоваться) при подготовка научных изданий произведений Лескова, а так гни при составлении зузовэких опецкурсов, посвященных его творчеству.
Апробация работы проводилась з :ор..;в докладов на научных конференциях» Молодых ученых и специалистов (с.-Петербург, йЫ 1992); "Старорусских чтениях" 1992 г.; "Евангельский текст в русской литературе ХУШ—XX веков" (Петрозаводск, 1393), а такж на-заседаниях отдела Ново'2 литературы ЛРЛИ. и семинарах кафедры Историк фклосоани РАН. По ггег.(о диссертации опубликовано 4 ста тьи. 2 статьи находятся в печати,
Стр^чг/т и объом пйОотд. Диссертация объемом страниц тайнописного текста состоит из введения, двух глав, каждая из которых включает три раздела, заключения и двух пр:шо~ женпй, содержащих атрибутивные зачетки к дэу;л анонк"чы?/! статья не учтенным в с^лествуххцих биСдпограсгичеоких работах, а также подготовленные к научной публикации тёксты этих произведений.
Зо рраде.уьи дается краткий аналитический обзор современного состояния науки о Лескове, ооосковывазтся выбор темы, ощ дэляетоя методика,-предмет, цели и задачи исследования.
ь ДЛШ& Д3,РН,?в ,г Еабо.тз над:
всточнзкауи С битовые и, иутораческае "гртоктяфаМ фэкус исследо-
шил сосредоточен на анализе произведений писателя кз 'круга )Х, для которых возможно сопоставление с конкретными мамуар->-историчеоки'ля, а также историческими а лмвр&тураами текста-;
1, несомненно послужквшмк здесь источниками»
При изучении вопроса о соотяохэ.таи факта и вымысла э Твор-;стве Лескова ярко проступает очевидное противоречие. С одной сорэны, неоспоримо стремление писателя к опоре На факты через гочнеиие эмпирических даягшх, к уаксгкатаной адекватности их мврпрвтнагл. С другой, — фактическая неточность4 чраззмай-\я вольность в отбор'з и :массмфигции сведений становится уе * )8чш пршашои з ого работе над источниками, Рьчь идет не так называемом щкглрованяа "по памяти" (21 потому неточном); ряде случаов возможно' доказать умааиенноо» изггепопий, шз-эннкх в текст оригинала. Тал, в экземпляре тома сочинений . X. Толстого 7,3 личной библиотеки Лескова-1' э тексте поэт 1оани Лсыаскпн" югзктся внесенные его рукою изменения: ънчерк-П цопай ряд стахоз (С. 2С4, 2С6), исправлено личное местошю-'.з. В раздета "Еалладн к притчи" рукою Лескова однаады зачеркан зйвсшшке са«ггл исправления: явно в поясках лучшего ва<-ганта текста (С. 174). При цитации поочы "Иош» Да'ласкин" в юсказе и:С1?ареснЕ9 .•¿ужчхнн" (1(383) обнаруживаются зипологи-эск:: сдо/лнв разночтения с эрпгдналом (8, 28).
3 разделе ■Бпогря,~о-"апокр1:л'СТ5Схце1' очерку рассматривают-ч лу&тицчстачзсгке продздздзлля Лзскоза, содержание йзогрзЗк-эскпз сведения о различна пстор:чес:с1х деятелях •— как соврэ-знлнках писателя, та!: и о его предшественниках, как о собрать-с до перу, так я ясдях "государственных". Имеется яоках> мел-лх газатних очерков, заметок, ротик, опубликованных с целью рояснену.я обстоятельств "-,иьли знаменитых Людей и ради восста-эилзния "доку\"ентальнУх" пактов, В подобных произведениях пц-атель с дотэсностъ» краканаляста анализирует неосновательные вхдотольстза "очезидцез" \'.о:лентов из жизни выдающихся дичнос-зй, стремясь опровергнуть эдсзлпке из-под ах "вдохновенного" зра "басни" и "скаскп". "^'а-.-ять таких людей',- как Гоголь и Кос-э;,"аров, — утверждает пуЗлацпот, — без сомнения, стоит того, тобы и з мелочах на чих не наводили ничего' напрасного." (и, 208)..;
1 Стихотворения А. К. Толстого. СПб,, 1867 // ¿¡узеЗ Н. С. ескова в г. Орле. й 610/182.
Как автор подобных произведений Лесков представляется лоброо< вэстазЯшям биографом, с предельной трезвостью относящимся к поступающим в его распоряжение овздэнкям.
.Однако в большинстве случав уличеаио-свидетелеа в хроч: логической неточ-остк -- лшь способ остаться в'ромбах попе;,?] ческих форм. Лесковым как правило- не учитывается некоторые д; цыег которые —. при действие льном стремлении к обгэктивпост: доданы бы ак причащаться во вчаианке, Так, в "Ческлапицо.о ,3л голе и Костомарове" (1891) критике подвергнут "исторически.» раоскзз" о том, как один помепкк "отравти Гоголю жизнь ' cbooi яклеткоэ" (И, 210}, "бархатной, б красных муяках по тамно-зс лгдому пол».,/' (11, 209); этот "анекдот" показался Лоскозу "лживым с начала и до конца и во всех подробностях" (11, 490^ Между те--:, в энрлшитих"Записках.д. А, йу.тала, прекрасно известных писателю, почтенный биограф стает,'что в молодости "он был йрант моэду своими-соучениками" я, в частности, носи: "светло-коричневый сыртук, которого полы подбиты были какохм красною материей, а больких клетках, Такая подкладка почлталас тогда i-ec. ft^s uetrü. молодого щегольства". Далее П. А, дул;и упоминает, что а "в Петербурге некоторые помнят его щеголем". Несомненно, названная склонность 1оголя проявилась и в aro xj дожествепном творчестве: в описаниях траков Чичикова, "малина вого цнэта с нсрою" и "н&варикского дыма с пламенем". То ест Лескова не удовлетворило изображение Гоголя в качества Гранта так как зто качество не вязалось с тем образом Гоголя эпохи "Зибр&няых мест../', который существовал в сознании Лескова, Это не спор о мелочах, но борьба противоположных концепций.
В очерке "Лутнмец. Из апокрифических рассказов о Гоголе" (1683) Ласков приводит рассказ, слизанный им якобы в Киева "и пятых уст" в 5С-х годах. В этом "предании" "чувствуется что-т живое, .что-то во всяком случае не совсем зндумандс '* (ll, 45) Но на позерку единственным "сочинителем" этого "апокрифа" ока зывается сам Лесков, заимствуя весь центральный эпизод с Пути цем из романа !£. Н. Загосхяна "Юрий Мклослазскай".2 В очерке
1 К/.таа П. А. Запаска о жизни К. В. Гоголя..,: В 2 т. СП 1856. Т. Г. С,'51—52,
2 С«.: Загоскин Й. К..Соч.: Б ? т. СПб., 1889. Т. 1. С. • 133. -
образ молодого Гоголя насквозь ремянясцвнтен по отношении к его- • творчеству п идеализирован с точки зрелая христианского житийного канона; ему присупа статичность, снимаю-дал напряженную динамику творческого пути Гоголя от "Вечеров..." к "Забранным местам..."
К "апокрифическим" материалам принадлежит также анекдот из нкзнп Достоевского в очерке "О ку^е^ьном мутако и пгхэч. Наметки по поводу'кекотошх отзывов о Д. Толстом" (1336). Во вступление — в доказательство верности описаний карт;« смерти в "Золке и мире" и др.. — критик намечает горизонты развития этой темы; он приводит "подлинные" примеры, подтверждающие реальность самих фактов действительности, - леязднх з оснозэ подобных описаний, хногочасленнкз ссылки на книгу пастора Розенштрау-ха,~ из которой можно почерпнуть "реально, но но с медицинской точки зрения сделанные описания умираний" (11, 141), не находят прямого соответствия в оригинале, при той что у Рэзенитрауха, действительно,приведен одга (а не три) случай, где он наблюдал, "что попадание или сознание может продолжаться долее того, когда ушравдкй представляется уке для всех окружают !х трупом" (ll, 143). 3 книге пастора присутствует .мистический naíce, причудливо гкп«зрболизнрозаяяый Лесковым; в закаленной подмене фачгоз нет надобности. Лесков здесь невольно жертвует "буквой" источника в пользу "духа", подкрепленного впечатлением от прочтения "Смерти Лзаяа Ильича".
Критикуя "правосланизм" Достоевского, Лесков приводит эпизод, когда в светском саяоне писатель посылает образованных людей учиться у своих кухонных мужиков, приче;? слова Достоевского получают расширительный и "про^этекий" смысл. 3 обществе "белой кости" "мужика" воспринимают как предостережение я со стра- • хаи ожидают его "пришествия", скорее в спиритическом, чем в политическом смысле. В действительности предвезвет,энный Доетневским кухонный муетк является з гениальной повести Толстого: именно как учитель великосветского общества. Лесков пользуется обильными слухачи, группировавшимися в светских кругах вокруг основного вопроса эпохи народничества (о грядуцей роли в обцест-
1 У одра умирающих, из записок покойного Розенп/ттуха / Пер. с нем. СПб., 1SS3. ■
а
венной жизни "мукика"), и через разбор "Смерти Ивана Ильича" соединяет их о "апокрифическим" образом Достоевского. Так не-слиянные голоса двух великих писателей звучат объединенные в рамках единой,петербургской легенды, выросшей из сочиненного (или пересочиненного) Лесковым характерного анекдота.
В разделе анализируются также цикл 'критических очерков "Герои Отечественной войны по гр. JI. Н. Толстому" и "Популярные русокие люди". В результате, можно утверждать, что в своих биографо-"апокрифических" очерках Лесков создает образы героев под воздействием своеобразной "одеряшости" тем или иным литературным источником ("Выбранные места.,.", "Война и мир", "Смерть Ивана Ильича")» его высоким духом и стилем. При этом он основывается на "каноническом" подтексте, которым слунат общеизвестные вехи биографии и творческого пути выдающихся писателей, объединяя .их с "апокрифическими" фактами. То что биографии знаменитых людей переступают границы обыденности и перехог дят в легенду, кажется Лескову вполне соответствующим их 'лшзни и творчеству.
В разделе Кадетский никд С^о.воспоминаниям "старых кадетов" ) анализируется отчасти растерянный в периодике неоформленный цикл рассказов и.заметок о наставниках, воспитанниках и выпускниках 1 Кадетского корпуса и Главного йнженерного училищ;
1. Фэрфяюхтер-бал в рижском Карясбаде (PencUnt к ревель-ской сухопутно-морской стычка) (1879);1
2. Кадетский монастырь (1880); 3. веский демократ в Польц (188$;4- Привидение в Инженерном замке (йз кадетских воспомина-кий) (1832)}
5. Один из трех праведников (К портрету А. П, Боброва) (1885);2
6. Кадетский малолеток в староста (К истории "Кадетского монастыря") (1885);
7. Инженеры-бессребреники. Из истории трех праведников (Бытовые апокрафц) (1887);
1 3 приложении 1 дана моя атрибуция этого текста Лескову,
2 В позднейшей редакции: "Прибавление к рассказу о Кадетском монастыре" (188Э).
8, 0 находке настоящего портрета Боброва (Письмо в\редан- ' цшо)(1В89).
В основу создания цикла Лесков кладет идею о том, что в • 30-а и 40-е гг. 19 в. в некоторых закрытых военно-учебных заведениях, насаждался а процветал дух праведничаства, бессрзбрени-чества, высшего самопожертвования и благочестия. "Сила и дух армии" — и шире — всего русского образованного общества, "хранились именно в этих, частлга смешных, чаотию яалких "бестактных идеалистах", которые на вся жизнь так и оставались "собаками на соломе" — ни сами не крали и ворующим мешали".1 Такие люди, по Лескову, "сильнее других делают историк?" (6, 347). В процессе постепенного создания цикла Лесков использовал несколько мемуарно-исторических источников (в т. ч. рукописных):
1. Фермор П. Ф. Воспоминания. РГАЛИ, Ф. 275. Зд. хр. 357;
Z-. Пахитонов Г. Д. Мои воспоминания в 1 Кадетском корпусе. Там яе. Зд. хр. 351;
3. Зисковатоз А. Краткая история 1 Кадетского корпуса. СПб., 1832;
4. жизнеописание епископа Игнатия Брянчанинова. СПб., 1881;
5. Наставление к образованию воспитанников военно-учебных заведений. СПб., 1849. идя.
Эти, а также некоторые литературные источники рассматриваются в отношении фактических, стилистических и идейно-художественных сдвигов, которые обнаруживаются при их сопоставлении с текстами Лескова.
В "Кадетском монастыре" развитие воспоминаний "апокрифического" "вахного сановника" (Г. Д. Пахитонова) идет в нескольких направлениях в соответствии с соотношением объемов текстов '4/l). Это 1) стилизация под устный рассказ; 2).домысливание "недостающих" и устранение "излишних" сгаетно-психологических деталей; 3) расширение "сферы влияния" факта; 4) повышение умственного и морального ценза героев. Кроме того, если у Га-китонова удивительный факт приводится сразу, то Лесков тщатель-ío готовит его преподнесение; так что в момент разгадки'"тайны" ракт уже заранее описан по всем параметрам, подобно надостак-цим элементам таблицы Менделеева. Высокий сан "праведника" за-
1 Исторический вестник. 1885. Т. -20. С. 128—130.
дает героям косткие стереотипы поведения п типовых ситуациях. Но лесковскпй канон далек от штатного: ото "апокрифический" рассказ о жизни и делах хороших людей с их - большими дэстогшст-вами и трогательными недостатка ли, которые в структура канона становятся достоинствами (неряшество Боброва, зубои.чикы Зелаа-ского). Однако не только Цэрекий, Бобров, Зол:с:сх::Л и архимандрит подкягшыз герои рассказа; в контексте цикла :г~о такле зшя нутый в себе праводнпчзский кадетский мир. 3 цеятрз оказывается нраве-jTjGHHue следствия деяний "старцев" монастыря: становление типичного праведника кадета (Брянчанааоз, <?ер.:ор, аразДскл« офицеры из выпускников корпуса).
3 "Катетском мапотстка..." Лескова антересует нпзнь кадетов "а кпру", где осуществлению высоких идеалов Кадзтства препятствуют диаметрально.противоположные армейские законы.
В "' toe не sax-б? сс ш 6 ран иках ". Лесков концептуально переосмысливает матерная воспоминаний П. Фермера в соответствии с-духом конкретных литературных зсточн-чов. Душевная болезнь Н, Оермора, вопреки медицинской точке зрения мемуариста, рассматривается в контексте художественных биографий героя романа Ф. М. Толстого "Болезни ^оли"и осмысляется в рамках герценов-ской идеологии высок!ix "гражданских болезней" ("Записки доктора Крупова"), а также в сопоставлении с фигурой щедринского "уединенного nor ж>нца" Андрея Курганова ("Пошехонские рассказа"). К. Фермор "чувдыа пришелец" в езете, в который он входит со своим "монастырским" уставом. Нго духовная генеалогия восходит к примеру Бряняакинова, подвиг которого, вопреки достоверному "¿:изнеописанш.трактуется ь духе свободного Нравственного выбора.
В повести представлены два антогонистических равноправных "монастырских" мира» "секта" Брянчанинове. и варшавская "иняене-рия". Монастырь "инженерный" побеждает! вне стен о:.лота Хадет-ства торжествуют .идеалы лки и стяжательства. Потому смысл заглавия получает полярную коннотации через название раздела "Пошехонских рассказов" "Городничие-бессребреники" Система героев-миров здесь амбивалентна: "Из одного дерева и икона и лопата",-'
* Исторический ьестник. 1835. Т. ¿"0. С, 128.
Б следующем разделе анализируется цикл "Втачные истории ридцатых годов. По запискам синодального секретаря" (1883), плотную пркмккагций к циклу статеЛ Лескова, по священны:;: брач-эму допросу з России.^ "Апокрифическим" достоверным "схазите-эм" здесь выступает мегдуаряст Ф. Ф. Исмайяов, большой знаток
п
усского канонического права, Материал воспоминаний разделен зсковым на "".ат;ты и "резонерство" Ксмайдова "на каждый отмечен-ай случай"Причем если факты определяют все сгаетные лянии лкла, то мнения и"сма1лоза превращается в характеристику этого обопытнейшего героя эпоха.
Тема цикла требует, по Лескову, такой степени свободы, коброй пользовалась в 30-е годы российская печать в отношении ара-хепия "не слишком целомудренных" понятий, что роднит ее с штатной европейской литературой 18 в. Лучшими авторами писавши "в стиле директории" оказываются Л. Стерн с его "Тристра-)м Шендк" и А. С. Пушкин как автор эротической сказки "Царь жита и сорок его дочерей".
В рассказе ."Лчелка" писатель шутя исследует феномен воз-гПствия литературного вымысла (пушкинский сдает) на действительность 30-х гг. (случаи, описанный йсмаллозым), используя 'ернланский прием рэтардированного "эротического острачеяия" 'ерм:а В. В. Шкловского).
3 миниатюре "Зтопза и Абеляр" Лесков окружает историю ле-пдарннм ореолом, причем эротически переосмысливает известное, ©зввда французского философа II. Беранже: "бесполый" вместо рудяга". Различия в биографиях гтсма&товского и легендарно-торического "Абеляров" для писателя несущественны — ваадн шь физиологический феномен. Лесков выводит двух "бесполых" роев Лсмайтова (одного "мука" и одну "дену") в подтверждение ояической формулы Стерна "В природе все возможно".
Однако эротические вопросы писатель проектирует на важные
1 В приложении 2 я даю атрибуцию неизвестной статьи из ого цикла: "Чертова помощь",
2 Рукопись Ф. Ф. Лсмайяова "Еизнь в доме ген. от артилле-и П. М. Капцевича" (ЕГАЛИ. Ф. 275. 35д. хр. 365-а ) . ,
3 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1989. Т. 6. С, 396.
для него дидактические проблемы. Он возобновляет здесь свою раннюю полемику с утверждением Белинского, что "только прекрасные стороны бытия должны быть открыты ее (женщины. -- 3.11.) ведению, а обо всем прочем она -должна оставаться в милом, простодушии незнании":* ("Пчелка").
"Шаловливые дамы" ("Распашная У.ессадина", "Очаровательная смолянка"). описанные Комаровым в их природной простоте и "невоздеяанности", у Лескова получают черты нравственной утонченности. Не соглашаясь с разрешением проблемы адюльтера с точки зрения еивотннх инстинктов, Лесков анализирует характеры на уровне античных (Мессалина) и библейских (кена Нотифара) параллелей. Причем образ Мессалины раскрывается в духе толкования проф. П. Н, Кудрявцева, который считает, что "в груд:: ее Оалосг таюхе к горячее сердце способное к лаовн и.лреданностл"."
Сам Исмайлов предстает з цикле как"драктйческяи йылософ". За шутливым определением его "стоического" отношения к смерти -как "скалозубовского" для Лескова мо^пт стоять также один из вамных выводов философии Шопеягяуэра—Канта, восходящий к био-градячесхому дафу о Сократе,^ Б другом своем сочинении лсмай-лов утверждает, что "все зиждется воюй как силою творящею , и то, что (ею) создано, не мечта и не одна возможность, а вместе и действительность".^
Итак, "ацог мифические" мемуарно-исторические свидетельств« разэиваютоя Лесковым за счет привлечения различного рода бэллв" ристических интерпретаций сюжетов, кажущихся писателю типологически сходными или генетически восходящими к сюжетам источников. В результате, повнгазтся умственный и моральный ценз героев, которые объединяются в группы по принципу расширительной идеологической циклизации. Лесковское ретроспективное повест-вованг.-э приобретает оттенок многоголосого вариативного повторения темы на разных стилистических уровнях, Цикю лв темы рас-
1 Белинский В. Г. Собр. соч.; В 3 т. ;;!., 1976. Т. 1. С. 4(
о
* Кудрявцев П. Н. Римские аенщины. Исторические рассказы по Тациту 7/ Лекции. Сочинения (.Избранное) . М. ,1991. С. 236.
3 См. пометы Лескова в кн.: Гелленб^с Л. Человек, его станость и значение с точки звания индивидуализма. СПб., 1885. (Орел, X' 610/186),
4 Нсмаплов О. О. Взгляд на собственную проаедпув хнзнь... М..;18б0. е.,164. •
ширяются до метаснкетов, вбирая высокие художественные, исторические или "гражданские" интерпретации. Вокруг метасюкетов формируются замшутые герои-чиры с их незыблемыми законами, как б" "не знающие" о существовании друг друга. Двухлагерный военный универсум ничем не связан с миром великосветских' салонов, где литературные дамы борются с "чуждыми пришельцами" писателями, оба они не имеют отнопения к особому "конжугалъному"' миру, населенному несчастливыми семейными парами и их духовными судьямл ьн. Попадая в с^еру влияния законов героя-мира, мемуарно-псторические йакты мимикрируют, "приспосабливаясь" .. ни. Они открываются навстречу другим (внешне часто несходным),' укрупняются, сливаясь с- последними и образуют в' совокупности' 1 правдоподобию эстетическую "легендарную" картину данной эпохи и среди.
Во второй главе Лесков к спиритуализм (генезис и структура легенд-0 фокус исследования сосредоточен на выяснении роли литературных, литературно-исторических и собственно легендарных источников в Формировании лескозской легенды, ТО' есть источников, априори не претендующих на фактическую достоверность; между тем, многие вызывают к себе уважение и доверие со стороны исторических субъектов. Лесков-писатель обращается к ним как к красивому, авторитетно:,!1/ (овеянному многовековою верой дли литературно;; славой) правдоподобному допущению. -
В творчестве Лескова вэтна рецепция русской романтической повести, а также позднеромантическои немецкой фантастики, когда умы романтиков (Гофман, Брентано), по определению 3. М. Жирмунского, были охвачены глубоким мистицизмом и крайним спиритуализмом. ~ речь идет о религиозном отречении от земного, которое становится невкгло и даке нереально, а действительность и вековечность полагаются в мистическом единении о абсолютом. Для многих деятелей эпохи спиритуализм в этом значения ста-га-вится квинтэссенцией религиозного отношения к бытию в противовес материалистическому. Сам Лесков считает "спиритуалистами" А. К. Толстого и Л. Н. Толстого (1С, 144—145); в полемика со Страховым, причисляющим последнего к реалистам, напоминает, что
^ Жирмунский В. 1. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.,"1914. С. 178, 181, 183.
Толстой "видит в смерти «пробуждение от сна жизни»"г имея в в. ду "размышления князя Андрея перед возрождающимся дубом" и сц ну его кончины (10, 89).
Существовало также более узкое понимание "спиритуализма" как религиозно-философского течения, называемого та"че "спиритизм", доктрина которого строилась на положениях Э. Сведенбор га, Э. Дх. Дэвиса и др., а в России — А. Н. Аксакова. Владея литературой вопроса, Лесков .очно указывает принципиальную дл: "спиритов" дефиниции: спиритизм "опытный" и "философский". По Лескову, философский С. есть "совершенствование духа" на пути естественных человеческих добродетелей, то есть "независимая нравственность", а также религиозная толерантность.1 Не остался Лесков равнодушен и к опытной сторона С., прежде всего, к феномену духовядства. У писателя был длительный "роман jo спиритизмом" (конец-60-х - сер. 80-х гг.).
В разделе Фельетоны и очерки о спиритизме рассматривается отношение Лескова к феномену духо^идства на уровне публицж тического творчества. Писатель считает, что отвергающие сущес вование духов вместе с тем отвергают и христианство с библейскими оказаниями о тени рамуила и пр., а также "общеизвестные неослариваемые случаи с бликайяими к нам людьми" (1С, 8?). В ряде произведении Лесков азторитетно свидетельствует с зиденн! '¡явлениях!1: 'Медиумический сеанс 13 февраля" (1876*); "йзлечие ду. Открытое письмо спириту" (1678);"Честное слово. Этюд из культа мертвых. (К матеглалам "Петербургского Декамерона")"(1879); "Русские демокоманы" (1880).
Анализ творческой истории "Явления духа" показывает, что сам Лесков невольно стремился вызвать к жизни сверхъестествен-низ явления. В дело идут на очевидные факты, но "апокрифические", уогшне быть.
В очерке "Русские демонзмаин" (очевидно, в щ тивопостав-ленае узкой,-"медицинской" точки зрения К. Риле ^Лесков показывает "неразгаданные силы", которыми несошшнно наделены нею
^ Лесков Н. С. Модный враг церкви // Биржевые вед. 18о9. » 172.
Рпще К, Демониаки (с зсноватые) нашего времени. Демониаа прежних времен // Еженедельное новое время. 1880. Т. б.
торне из народных колдунов, Лесков выводит оригинального заклинателя бесов отца Боголепа, который обладает подобной силой. Ручательства в том бесспорны: колдун показывает бесов любому желающему. Мистические веяния, господствующие в народно"! среде и близкородственные' Феноменам великосветского (опытного) спиритизма, в глазах Лескова имеют дьявольскую природу, но оттого становятся привлекательны вдвойне,
3 отзыва о "спиритической" повести Тургенева "Странная история" (1869) писатель предлагает программу некого спиритического рассказа на данный, ему в деталях известный сюжет. При доведении до читателя "сверхъестественного момента" должен соблюдаться "порядок": ретардация событий ("задержечка"); в основу должно быть положено достоверное свидетельство; в сюжете должны использоваться также "приснащенныа" молвой подробности (1С, 8586). £дя Лескова, который убежден в существовании феноменов ду-ховидства, важным оказывается не само по себе сверхъестественное ярление, а то, как этот "апокрифический" факт рассказан, преподнесен.
3 спиритических писаниях Лескова особенно раздражает именно неискусность изложения, соединенная с наивностью и утилитарностью религис лаге представлений. За это Лесков высмеивает родственного спиритизму лорда Рэдстока и А. Кардека, "главу европейских спиритов", который "ничтоже сумняшеся передает всерьез" басни и выдумки, отвечающие доктрине.1 Однако результаты сопоставления с на&цвннш мною французским оригиналом фельетона показывают, что писатель напрасно инкриминирует Кардеку излишнюю доверчивость к содержанию присылаемых в редакцию его журнала рукописен, так как там разбирается философский роман, "в котором большинство вопросов, которые ныне волнуют умы, рассмотрены в оригинальной и драматической форме".^ 3 переводе Лескова оригинал беллетризирован, ощущениям героя-рассказчика придан оттенок фантастичности и сверхъестественности.
1 Лесков Н. С. Аллая Кардек... // Биржевые вед. 1369. > 156; Великие мира в будущем их существовании. Фантастический полк на г/арсе (Спиритское откровение) // Бирж. вед. 1869. % 213.
2 L.C rí,,.,ntut {aivLft.fiiaufe par Vi.tl.or "taiu.r// Rerue Sfcu-iif. 186Й. Sept iv,. ¿<\--¿V2 иг
Зажнейнлм достижением в гзльетонно-иронической разработке теми явился "Дух г-ка, 1'вндис" (1881). Это остроумная легкая пародия на жанр "спиритической репортицы", а, по сути, блестящий русский фельетон поры его расцвета как периферийного художественного жанра. Особенностью структуры этой "безделки" является соблюдение "порядка" з изложении, где фельетонист просит "еще минуту терпения, прежде ч:м довести дело до сверхъестественного момента" (7, 82). Подчеркивается "простая" форма рассказа в противопоставление сатирической. Еоталивый фольетоккст, обладатель "легковерной и впечатлительной натуры", а таксе "от природы немпозко суеверны:!" (V, 31, 82), обкгрывагт слово "дух" в его спиритическом и "риторическом" значениях; причем прослеживаются 2 пересекающиеся «сметные линии: спиритическая и дидактическая, обе в иронической трактовке. Так или иначе, но остроумный "литературный дух" является, чтобы наказать чванливуа глупость. Признавая возможность подобных "явлений", Лесков, в отличие от экзальтированных светских дам, не преклоняется перед "бесплотными духами", а используот их как великолепный материал для художественного разрешения в легкой, игровой форме фельетона важных моральных проблем.
Художественная разработка Лесковым проблематики опытного спиритизма рассматривается в разделе "Святочнн'л рассказ" Лескова и традиция мистической юзелдн о приведениями.
Ряд лучших "диккенсовских" святочных рассказов Лескова ("Зверь", "Пугаао", "Фигура"...), в которых "причудтквоз и загадочное ... истекает из свойств русского духа и тех общественных веяний, в которюс заключается значительная доля странного к удивительного",2" тесно связаны с празедничссними циклами; фантастическое в них имеет лквь аллегорическое значение и, практически, лииено мистического содержания.
3 "Привидении в Инженерномзамке" Лесков исследует процесс создания фантастического образа привидения в настроенном к восприятию необычного — преимущественно, детском — сознании; причем с самого начала ясно и в итоге подтверждается, что в рассказе не будет фактов, которые бы не могли быть объяснены естест-
1 Лесков И. С. Полн. собр. соч.: В 36 т. СПб., 1902—1903. Т. 18. 0. 5.
веянвди причинами. При этом внешне свкет выстраивается на ходо«-вых мотивах святочных рассказов о мертвецах и явлениях духов. Действие представления, идущего в наэлектризованном страдными рассказами сознании маленьких героев, развивается по своим впут-реиним законам, имеющим тишь косвенное отношение к эмпирической реальности. Процесс становления легенды оказывается аналогичен этому язленпп з насквозь мистифицированной простонародной среде. После исчезновения из замка "подделывателя привидения", его образ превращается в мистическую легенду через соотнесение со святочным мотивом мести мертвеца и библейским преданном о царе Сауле, ¡Ляйологизяруется образ лютого генерала Ламнозского, слизатэтиЗся после его смерти с Лигуро!! таинственного "серого человека", или "совести", которая для детей отнюдь не аллегория, но вновь видоизменившееся привидение, 3 конце концов, им оказывается вдова покойного генерала, и повествование переводится в концовке в рамки этических категорий: в йодтзерздение своего "рождественского" характера. Важно, одначто именно благодаря "натуральному" объяснении таинственного сознании рассказчика это происшествие остается исполненным глубоко мистического христианского духа; бесовщина сменяется явлеЯзйгУ ангела-хранителя, По духу 'Привидение..." следует отнести к" ''диккексспским" святочным рассказам; по внутренней структуре — ото целы! сводный каталог намеченных, но не развитых мистических сюкетоз, по качве которых создается лесковская демонологическая легенда со светлым "рождественским" финалом.
3 центре исследования в разделе стоит маленький шедевр "Белы;-: осел" (1880), рассказ загадочный и "коварный". В борьбе исследовательских мнений наиболее удовлетворительно принадлежащее В. Бенжамину, который считает, что Лесков приводит здесь историю, "свободную от всяких объяснений ... Уз ряда зон выходящее, чудесное рассказано с величайшей точность.", 'тщательностью, причем психологическое объяснение событий не навязывается читателю, Ему самому представляется объяснить дело, как он его понимает"} Рассказ традиционно рассматривается в ряду "святочных". Однако при последней прижизненной публикации он не во-
л
х &»]:><»-/,«. V £гЦ\.ги.<\.д. и;рг1£
шел в одноименный раздел собрания сочинений ('1889) и получил новый подзаголовок "фантастический рассказ". Это позволяет рассматривать его в другой связи.
Во вступлении Лесков приводит расхолсий стих из "Гамлета", который он любит цитировать в доказательство возможности явления человеку призраков уде с 60-х гг.: ЧЗсть веян на свете, которые не снились мудреца Начало рассказа: "Зсть вечга на свете». С этого обыкновенно у нас принято начинать подобные рассказы, чтобы прикрыться Шекспиром от стрел остроумия, которому нет ничего неизвестного. Я, впрочем, все-таки думаю, что«есть вещи» очень странные и непонятные, которые иногда называют сверхъестественными..." (7, 5). За полтора года до опубликования "Белого орла" в "Колом времени" печатался большой художественный никл Г. II. Данилевского под названием "Очарованны'! :ляр или Петербургски!: Декамерон (рассказы во время эетлялско'Л чумы 1879)"1 представлявший собой ряд обрамленных литературными беседами фантастических рассказов. Лесков знал этот цикл и деже написал к нему своеобразный " ¡кпАйги "Честное олово. Отюд из культа мертвых. (К материалам Петербургского Декамерона)" (1879), где он рассказал случай явления духа из собственных воспоминаний, ¡эпиграфом к .циклу выбран тот ае стих из "Гамлета". Более того, обстановка литературных вечеров, описанная в "Балом орле", в деталях совпадает с представленной во вступительной новелле "П.Д.": запрещено говорить о политике, упоминать большие имена, темой бесед выбирается все "(Тантастичесхее": похождения "бесплотных духов" и Т. п. Лесков называет этот петербургский кружок спиритическим. Наконец, известно, что писатель неоднократно посещал спиритические сеансы в доме Л. И. Аксакова, который прямо упоминается в "Честном слове" как тот, кому принято сообщать обо всех феноменах духовидства. Поэтому не только очевидно, что Лесков под "подобными" "Белому орлу" рассказами имеет в виду- Именно произведения, родственные вошедшим в "П.Д.", но, возможно, что сами вечера, на которых в разное время присутствовали Лесков и Данилевский, проходили в до-
* Апрель-май 1879: Ш112Р, 1129, 1131, 1136, 1147, 1150, 1152, 1154. В сильном сокращены-! перепечатано в: Данилевский ГЛ. Поли. собр. соч.: В 24 т.-СПб.,. 1902, Т. 19. С. 5—54,.
т Л, Н. Аксакова (персол&ч А. И. Асшова в "Й.Д.", "хозяина дома" в "Болом орле").
При напкбачян цикла Даниловский открыто"ориентируется на "Ээчэр на Хопое" М» Н. Загоскина (1834) и "Вечер на кавказских водах в 1824 году" А. А. Вестумева-:.<:арл:иского (1830), повести ,' представляющие собой циклы фантастических нбвелл, не подходящих под определение "святочных рассказов". Оаи восходят к мистическим новеллам с привидениями позднего немецкого романтизма, прежде всего, к вошедзкм в "СераглоНэвы братья" Гочмана, (произведение, близкое по жанру к "декамерону")..К указанной жалоовой традиции, значит, принадлеккт и "Беля?! орел".
3 казнь несчастного урода-мечтателя, сзопм видом внушающего ужас, вторгается совершенный красавец, счастливый и всеми любимый. В дуке Галактиона рождается "пэдполшая" зависть? Белый орел для него — ото полная противоположность,' недостижимый идеал; молодой чиновник ниспослал неудачливому ревизору вместо слукэбноЗ награды ( ".Мне орден следует Бея'ы.1 орел, а не Иван Петрович"; 7, 13). и вот Галактион — "поэт" и "мачтатоль4-невольно питается примерить на себя э-У.г чу;».Ив к обольстительные "коканка р-зы", обладание козоричСи сделало бы его счастливил.
Зажнуэ функция в рассказе вийв&юе? прием введения шекспировского "театра в театре". В "жизый картинах" на балу у губернатора Иван должен исполнить вое три йедущиэ роли.в интерпретации библейского скжета "Саул у волшебницы аэндорской"'» Первая — роль грешного, промятого Богом царя, осужденного на смерть. Вторая — тень пророка Самуила в савана. Третья — роль волшебницы: "никакого столбнякового ул:аса, ки ломки, ни кривляний, но вы увидите лицо, которое знает го, что не. снилось мудрецам, Вы увидите, как страшно говорить о. выходцем из могила" (?, 16).
То есть, Белы:' орел, олицетворение земной радости и света, готовится воплотиться в образы потустороннего мира. Галактион, "живой мертвец", жалкое воплощение этого последнего, влечется к счастью на земле. Противоположности стремятся к противоположно:.^. Белый орзл Енезапно умирает; на Галактиона ложится тень народной молвы о сглаза.
Героя преследует призрак покойного, хотя явления его об-
ставлены комически. "Легкомысленный дух" более не обладает гармонией его земного хозяина и мстит за свою смерть как мелкий бес. Он заражает Галактиона фамильярностью обращения и лакейской развязностью; исчезает на три года; наконец, возвращается в последний раз с глупой песенкой на устах, чтобы вручить долгожданный орден Белого орла, приобретший уже мистическое зна чение: в знак завершения искупительных мытарств героя. Рок отступает, Галактион перестает быть всеобщим пугалом и превращается в простого доброго человека ("Особенность® наружности Галактиона Ильича было то, что в молодости он был гораздо страшнее, а к старости становился лучше, так что его можно было перекосить боз ужаса"— 7, 7) . В финале тон повествования спокоен и уверен, к нет противопоставления голосов автора и рассказчика. ато юмористически оркестрованный K&f>end, где сказывается "святочная" природа рассказа.
В остальном, "Белый орел" существует в рамках традиции мис тической новеллы с привидеш'чми, с ее подчеркнутым вниманием к структуре повествования и дозированным привкусом Фельетона о спиритических явлениях. При любом читательском восприятии явления духа Белого орла в отношении верности земной реальности, в художественном целом мистической легенды приходится учитывать этот феномен как специфически лесковский "апокрифический" (Такт.
В разделе о 'Jucoяогизацин легенды в творчестве Лескова проблема рассматривается с точки зрения использования писателем литературных и легрчдарно-ксторических источников.
Сентиментально-романтическая сюжетная канва рассказа "кн-тепесные мужчины" (1835) абсолютно оанальна. Благородны:! юноша защищающий честь любимой женщины вынужден пожертвовать своим добрым именем. Не в силах вынести мысли о позоре (обвинение в краже), он застреливается. Затем его отпевают под горестные причитания толпы. Мистический колорит создается при помощи цитат из "Гамлета" и "Иоанна Дамаскина" А. К. Толстого, через фигуру вестника рока и переклички с лермонтовским "Фаталистом"., Тяготеющее на покойном обвинение снимается не в результате фактических доказательств, а через мифологизацию его истории в сознании "средних ладей с скрытою теплотой глубоких вод". При зрелище торжественного отпевания под звуки мистического гимна все прибегает под сень Идеала, которым задается определенный
сценарий; по налу я должно развиваться действие. Зсли юноша лишил себя низня, то "за благородство", "за милое сердце", а если он во гробэ, то надо о нем плакать "как о лучшем друге, как о собственном возлюбленном"; хотя собравшиеся в церкви женщины "не ахти какие" а героя они "совсем нэ знали, монет быть ни разу нз видалп и, покапуЛ, может быть совсем ни за что и не полюбили бн его, когда бы знали его со всем, что в нем было хорошего " дурного" (8, 97). Представления среды об идеальном течении событий здесь провоцируют события стаетныэ. Представления яе эти соответствуют классическому*канону мещанской драмы или сентиментальной повести.
Разработка известной легенды о живописце' Лукасе Кванвхв в романе "Чертовы куклы" очевидно литературна — через рецепцию традиционных мистических (романтических) мотивов. Неизданная "Повесть о безголовой наяде", которая рассматривается в ряду подготовительных материалов к роману, позволяет' сопоставить легенду с романовской темой романтика-безумца з мирй филистеров. Лэсковский Кранах оказывается рыцарем божественной красоты, а его крылатый дракон одним из воплощений сатаны, который играет людскими судьбами в куклы. Дьявольские силы вторгаются в дело любви и губят .ового героя Фебуфиса, посягнувшего сравняться о легендарным Хранахом. Художественная легенда здесь полностью . лишается своей биографической основы и при поддержке мистических мотивов перерастает свой легендарно-исторический протосижэт.
3 письме к Лескову по поводу "Соборян" глайа- русского философского спиритуализма А. Н. Аксаков называет сцену молитвы Пизонского "богодухновенной" и подтверждающей "один из коренных . догматов современного спиритуализма" о "непрестанном открове--нии, избранничестве каздого".^ В хронике немало сцен, исполнен-» ных духа трепетно-мистического отношения к бытию, которые составляют оскозу художественного совершенства "Собор."н": утршн нее купание в Турица, сцены в доме Савелия и особенно знаменитая гроза. Весь пэизаж, связанный с легендой о. возникновений источника — предзести^; пробуждения "очарованного богатыря" Савелия на подвиг вэры, преддверие ощущения в нем новой божест-
1 К) ИИМ. Ф. 2. Оп. 6. зд. то. 157. Пис. от 12.07,1872. Опубликовано вг Исторический вестник. 1916. Т. 143, март. С. 791—792.
ванной яизни. Падэкяз .молнии с чистого небосклона, пред. ниц простершимся rei"jOM, соотносит образ о ап, Павлом, К учению апостола в проповодч Савелия восходит противопоставление мотивов "служения по закону" и "блукения по совести". Именно это положение становится знаменем русского спиритуализма эпохи, корреспондируя с принципом "духовных соответствий" 3. Сведекберга и далее со спиритуалистическими уклонениями философов Александрийской школы. Так,' Ориген "защищает положенно о трех смыслах Нового Завета: буквальном, то есть историческом, нравственном и, наконец, духовном, иначе мистическом. "Ь'я мокем подняться от текста истории до идеи, котору» он заключает, чтобы таким образом открыть смыол мистичесг&й и аллегорический" ("Против Цельса"). Вслед за Оригеном Сзедзнборг за конкретными свидетельствами Священной истории улавливает да духовные соответствия. По А. Н. Аксакову,. это наука о духе Слова, о примирении внешнего.с внутренним, частного со всеобщим, конечного с бесконечным: "лпи свете этого слагала буква исчезает, остается один дух ез".^ Лесков знал и читал всех трех' философов. Писатель пропускает народную легенду об источнике сквозь де;:_ релпгпозно-йилосо^схях ассоциаций, превращая опоэтизированный предание;.! улар молнкх В' аллегорий — символ мгновенного духовного преобр&кения героя. Савелий становится избранным"из числа тысяч великим пророком, будящим сердца навстречу соту Откровения. При этом воззрения православного протопопа соотносимы с ключевыми положениями философии оратйков спиритуалистического толка.
В Пово-'тя "Гпгч" (хЗЭС) Лесков перерабатывает смет о "златокузн-зце" из русского Пролога УЛ1 в. (Ч ноября). Аз всех проложных лег'енд писателя в ней наиболее широко используются литературные И апокрифические версии родственных по духу сюжетов; плодотворно сравнение двух редакций произведения (см. "Проложите характеры"). Сопоставляя проложи-!;'; си?.ет с библейской Легендой об Иосифе Прекрасном, писатель переосмысляет его в духе страстной версии сцены соблазнения, представленной в Коране' (Сура 12) и поэме Фирдоуси. Развитие темы идет по мотива« "йги-
^ Аксаков А. К. (Предисловие) // Сззденборг Э. Пять глав Евангелия от Иоанна с издожени. л и толкованием их духовного смысла по науке соответствий. Лейпциг, 1834. С. X.
петскнх ночей" Пушкина. Набора воспринимаетсяоквозь образ Клеопатры, через трагедию любви гордой и властной женщины, Эротическая трактозка обусловливает коллизию между жестокой страстью Печоры л глубокой к чисто! верой любящего госпожу -Зенона. Лз ' Корана или родственных мусульманских вэроаЯ легенды об Иосифе берет исток мотнз соперничества в красоте между дамами Александрия к эпизод дамского приема у жены Потяфара. Эпилог повести, где Злона и духовно преобразившуюся Но$ору сзязиваю? чистка узы брака, восходит к поэтическим .мусудьманско-персидскпм по-рзработкам легенды, где Лосиф женится на своей бывшей соблазнительнице после смерти Поти^ара. Лесков переплавляет несколько родственных легендарных сюжетов (в том числе литературных) з едины;"; мифологизированный case? "Горк", причем оопостазчекие легенды о "златокузиеце" о иными Литературными, апокрифическими а нехристианскими источниками проводится целенаправленно. Легенда утрачивает свои временные и другие конкретно-исторические измерения, претфещаясь з позэЬть-миф, парез который история повествует ухо на о событиях, а, по олову Майна, о себе самой.
'.'так, з составе лесковских художественна- легенд с почти обязательным постоянством присутствуют мяООзРвШЖй мотива как знаки литературных я культурных традиций, йыотулахт не-"
посредственно. Это могут быть произведения романтизма,
отчеты о спиритических сеансах» догматы фаяосо$35Ш5> ел-иркт/а»« лазу», народные поверья о нечистой сале, легенды" Cáv Йисан'ня 9 прщ/цкаяшимл к ним апокрифическими я агиографический сюжетами и пр, Неколебимая вера Лескова в возлояность сзерхъосгос?-» венных явлений а природе ведай позволло? ему увидеть за кей&о'Я из традиций свою, заслуживающую уважения к доверия, правду. Попадая з область явлений и проблем, "подведомственных" то:<у для ино;г/ из мистических течений, Л'зскоз-художкик .-.-дает ж "изнутри", с точки зрения "гпокрифичесхогс'1 ■ восприятия адептами направления, критика которых у него более чем милосердна по сути, Он вживается з Ллбее из них при помощи виртуозной стилизации, смело сополагая явления, входящие в сферу интересов каждого. Б. глазу угла Лесков ставит принцип ля$ературно~художеат« венной ассоциативности, позволяющий открыть между явлениямй связи, закрытые ввиду со циально-леториче оно2 ограниченности на-
пра®л«няЙ. Потому сопоставимы оказываются легенды различных времен и Народов и литературные Схжетк. .Отношение Лескова к Культурному факту корреспондирует о его восприятием факта эмпирического! интересны варианты культурного факта (артефакта) , объединяемые единством литературно-художественного мотиза. Легендарные факты,' теряя в конкретно-историческом, выигрывают здесь в идейно-философском содержании. Можно говорить о сг.ири-туализации культурного факта в поэтике Лескова, то есть о расширении его конкретно-исторического контекста а пользу идеального слияния с религиозным нравственным абсолютом в образах положительных героев.
В г*б¡ш^екии, подыдятся итога и намечается перспективы исследования. Уважение к эмпирическом/ факту одно из важнейших звеньев, связующих Лескова с его литературной эпохой, источник творческой мбки великого писателя "золотого века" российской литературы, ¡/.йрашрии подвергается в его творчестве детальному анализу, вступая во взаимодействие с областью фактов культурных (артефактов"; как важнайаей составляющей того онтологического фона, на котором существуют е.с герои и произведения в селом. Кулкуру в ее этическом и эстетическом аспектах и повторяемости ферм и явлений Лесков осознает кьк самостоятельную движущую силу истории". Как неотъемлемая часть онтологической картины мира писателем воспринимаются распространенные мотивы фольклорных и легендарных сюжетов, мир образоз мирозой литературы, Сн понимает силу непосредственного воздействия культурных фактор на повседневную жизнь через формирование структур коллективной ментальности той или мой эпохи и среды, для Лескова в мире эмпирии не остается сметой, которые бы не были уже не раз еиисакы и опоУ/.зкрованы в искусстве или народном сознании .и представлены, таким образом, через сеть мкегсчисленных интерпретаций.
Спираясь на наблюдения исследователей Н, Расина, ?. Бьрт пишет, что образы и поэтические приемы драматурга "по большей части принадлежат как бы,к фольклору той эпохи, тс есть к общему коду, служившему риторическим языком всего общества".А Лесков в качестве подобных кодов воспринимает легендарно-художественные мотивы, образы и приемы литератур интересующих его эпох.
........"г............. »■-'■■■-" *
Барт Р. Избр. раб. 1 Семиотика. Поэтика. С. 291.
Еарт, разрабатывая теорию "письма" (текста & широком'понимании/ как бессознательного глубинного пласта культуры нового времени, считает, что "если о чем-то рассказывается'ради самого рассказа, а не рад« прямого воздействия на действительность, то голос отрывается от своего, источника, для автора Обступает смерть, и здесь-то начинается письмо". Для Лескова в отношении захвативших его воображение текстов "становится невозможным определить", кем и с какой целью написан (произнесен?) текст; то есть проблема литературного авторства и исторического контекста может оказаться несущественной. За легендарными и литературными вымыслами, за "апокрифическими" фактами, вошедшими в сознание исторических субъектов и в этой форме сушествуташи», для Лескова открывается возможность их расширительного толкования по принципу "духснных соответствий". В художественном представлении онтологическою процесса езжны оказываются "мелочи", живые клеточки эпохи. Анализ психологической структуры гслосов "апокрифических" свидетелей и художественной структуры легендарных вымыслов приведи? писателя к сбсбкаюаим выводам о духе а характере эпохи,
С современной течки зрения нужно гевор.ть о герменевтическом характере исторического мышления Лескова. Пройдя тот отал своего развития, кегдг она была искусством толкования библейских и исторических текстов,-е состзёствии с теорией "археологии знания" М. П. Фуко — герменевтика предстает в философий X, Г, Гадемера как "свериение бытия", когда история исследуете®;? одновременно творится на урезке "смешения горизонтов": диахройй'огс взаимодействия мэ.*ду неповторимыми сущностями интерпретатора и интерпретируемого, История, по Гадамеру, подобно произведению искусства, есть своеобразная игра в стихии языка. Здесь может найтись удовлетворительное объяснение и принципиальной неточности, Допускаемой Лесковым при цитировании и пересказе источников, и назначения его многообразных игровых стншгэций, я, пожалуй, тайнЛ его "коварного" сказа.
Повествование Лескова отмежевывается от литературного вымысла в обычном пониманг-, стремясь окружить себя ореолом достоверности. Сходные для него по духу исторические* бытовые, легендарные, фольклорные, беллетристические сюжеты становятся "апокрифическими" .часто игровыми) варйвят&ми неких общекультурных метасю-жетов, Свои интерпретации таких матаоюжетов писатель создает, высвобождая в каждом варианте его идеологическую энергию. Много и
справедливо пишут о десковских "антиках", чудаках и "праведниках'.' И асе же редхо возникает ощущение удивления пред тем или иным в самом деле неординарным поступком героя, 0 необычном рассказываете ся в лаконичной, ретроспективной манере, "кстати" и "в связи" с другими, сходными по духу, событиями, которые; будучи экстраординарны по сути, здесь типизируются, кажутся болей обыденны и, следовательно , правдоподобны. Принцип "кстати" распространяется далеко за пределы одноименного цикла расоказов, выходит за рамки собственно бытовых сюжетов, включает культурные ассоциации на разных уровнях: от элементов стиля.до философско-идеологического. Так создаются замкнутые герои-миры с их особенными аакоками и жесткой обусловленностью действий героев и развития событий вообще; так рождается лесксвская расширительная идеологическая циклизация.
3 частности, такая циклизация всего сверхъестественною, подлежащего ведению самых различных "направлений",, приводит к ощущению его обыденности и часто несомненности. Здесь включаются легкие игровые интерпретации, отнюдь не отменяющие ни действенности, ни действительности сверхъестественного в художественной структуре произведений, 3 своих "праведниках" Льсков стремится открыть то, что "возвышается над чертою простой нравственности", возвы-снет их до идеального, определяемого в категориях религии. Таким образом, исследование подводит, к неизученной проблеме рэлигиозно-филого£скях основ творчества Л.С.Лескова.
По тема диссертации опубликовано и сдано в печать:
1."Апокрифы" Лескова о писателях а полководцах // ?ус. лит. XI— XX вв. Пробл. изуч, СПб.,1992. С. 22—23 (0,1 п.л.).
2.Биографический ''апокрифы" Лескова // Русская литература. СПб., 1992. * 3. С. 1,30—140( 1 П.л.).
3.0 роли легенды в творчестве Лескова и Достоевского // Достоевский и современность. Выступления на Старорусских чтениях 19й2 хода. Ч. 2. Новгород, 1893. С, 103—10В (р,25 п.л.).
4.Кадетский цикл К.С. Лескова // Российский литературоведческий журнал. (199<$. К З, (1 а,л,, в производстве).
5.Н.С.Лесков. Чертова помощь (атрибуция, вступит, зам., публикация) // Лит» наследство. 1.102,(0,75 а.д., а производстве)..
6,0 переработке легенды об Иосифе Прекрасном Н. Лесковым к Т. Манном // Проблемы взаимовлияния ..итератур: Методология, история, эстетика. Мат. межвуз. научн. конф. Ставрополь, 1993. С. 92—94. (0,2 п.л.)