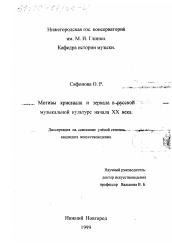автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.02
диссертация на тему: Мотивы кристалла и зеркала в русской музыкальной культуре начала ХХ века
Полный текст автореферата диссертации по теме "Мотивы кристалла и зеркала в русской музыкальной культуре начала ХХ века"
На правах рукописи
рге од
Сафонова Ольга Рафаиловна ? 5 СЕН 7ППП
Мотивы кристалла и зеркала в русской музыкальной культуре начала XX века.
Специальность 17.00.02. - Музыкальное искусство.
Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения.
Москва 2000
Работа выполнена на кафедре истории музыки Нижегородской государственной консерватории имени Глинки.
Научный руководитель -
доктор искусствоведения, профессор В.Б.ВАЛЬКОВА.
Официальные оппоненты:
доктор искусствоведения, профессор Е.И.ЧИГАРЕВА кандидат искусствоведения, доцент Т.Ю.МАСЛОВСКАЯ Ведущая организация -
Ростовская государственная консерватория имени Рахманинова.
заседании диссертационного совета К.092.17.07 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата искусствоведения при Российской академии музыки имени Гнесиных по адресу: 121069, Москва. у.ч.Поварская, д. 30/36.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российской академии музыки имени Гнесиных.
Защита состоится
на
Автореферат разоаан
2000 года.
Ученый секретарь искусствоведения
диссертационного
совета, кандидат И.П.СУСИДКО.
Актуальность работы. Эпоха «русского культурного ренессанса» -один из излюбленных предметов искусствоведческого исследования. При всей, казалось бы, достаточно полной и многоплановой освещённости она продолжает привлекать пристальное внимание своими непознанными глубинами и скрытыми смыслами. Особенно актуальным кажется обращение к «серебряному веку» сейчас, в кризисный период, когда память о беспримерном взлёте национального духа так остро необходима.
Особый интерес в последнее время вызывает тенденция осмысления эпохи через характерные символы, метафоры, сквозные образные мотивы. Привлечение метафоры в качестве средства постижения общекультурных закономерностей, начиная с К. Юнга и К. Леви-Стросса и кончая А. В. Михайловым и Г. Кнабе, всегда приносит ощутимые плоды, высвечивая в эпохе новые грани и по-новому расставляя акценты.
Выбранная нами тема исследования лежит именно в этом русле. На роль эпохальных репрезентантов начала XX века мы предлагаем кристалл и зеркало. Эти два образа-символа, на наш взгляд, способны выступить инструментами проникновения в суть сложной и многоликой культурной эпохи. Основанием к такому выбору послужил их поистине исключительный универсализм. Без этих двух метафор художественное творчество и иные области духовной деятельности представителей эпохи и вся картина мироощущения утратили бы нечто весьма существенное и во многих отношениях перестали бы быть сами собой.
Более того, за этой парой метафор просматривается и весь XX век с его саморефлексирующей культурой, всё время как бы глядящейся в «мозаику зеркал» (Г. Орлов) и воспринимающей мир не непосредственно, но как бы «сквозь призму», сквозь некий «магический кристалл». Отражения, грани, пересечения, соответствия, разломы составляют существо постмодернистского сознания конца столетия.
Таким образом, можно утверждать, что и кристалличность, и зеркальность были унаследованы современностью от «серебряного века» и вросли в плоть и кровь художественной культуры наших дней.
Целью работы является осмысление образно-символической и конструктивной сторон мотивов кристалла и зеркала и их роли в музыкальной культуре России начала XX века. Среди главных задач исследования - представить «кристалл» и «зеркало» как ведущие культурные универсалии начала столетия и через их посредство - всю художественную картину эпохи, а также исследовать на примере конкретных музыкальных произведений проявления пары мотивов как образных доминант и как симметрийных моделей эпохи.
Методологическую основу работы составляет синтез музыкально-исторических и музыкально-теоретических методов исследования с общегуманитарными, статистическими и культурно-контекстными.
Научная новизна. Два указанных художественных образа впервые подвергаются специальному исследованию. Производится попытка рассмотрения их в качестве культурных универсалий эпохи.
Относительно нов взгляд на избранный целостный культурный период сквозь призму ключевых образов-символов. Выявляются ранее не отмеченные культурные связи и параллели.
Апробации работы. Основные идеи диссертации прозвучали на двух международных научных конференциях в рамках фестиваля «Русское искусство и мир» (Нижний Новгород, 1993 и 1994), на международной конференции «Искусство XX века: диалог эпох и поколений» (Нижний Новгород, 1998), а также на всероссийской научно-практической конференции «Проблемы художественной интерпретации в XX веке» (Астрахань, 1995). Основные положения работы изложены в научных публикациях. Работа обсуждалась на кафедрах теории и истории музыки Нижегородской государственной консерватории.
Структура. Диссертация состоит из 2-х глав, Введения и Заключения, а также списка литературы (включающего более 200 названий), и приложения, куда входят нотные примеры, схемы, репродукции.
Практическая значимость работы. Материалы диссертации могут быть использованы в курсах истории музыки, анализа истории критики и в спецкурсах. Кроме того, они могут включаться в курсы лекций по истории русской художественной культуры.
Основной содержание диссертации.
Во ВиеОении («"Кристалл" и "зеркало" как инструменты анализа») обосновывается научно-методологическое значение избранных в работе метафор. Делается обзор литературы, содержащей отдельные исходные данные для настоящей работы. Доказывается универсализм пары исследуемых образов в системе художественных направлений и в разных видах высокого и массового искусства начала века.
Название первой главы - «Кристалл и зеркало: образно-символическое прочтение» - вполне отражает ее проблематику. В первом разделе устанавливаются основные константы семантической сферы мотива кристалла. В искусстве «серебряного века» образы минерального царства зазвучали с небывалой ранее яркостью и многоликостью. Поднятые на щит мастерами символизма - модерна, они почитаемы поборниками «прекрасной ясности» и отнюдь не отвергаются первопроходцами раннего русского авангарда. Драгоценный камень, - а именно таковым, прежде всего, представляется кристалл, - притягивает взоры и поэта, и художника, и композитора. Его образ влечёт балетмейстера, архитектора, дизайнера. Однако честь открытия неизведанных глубин и небывалых красот этой образности принадлежит литературе, где происходили осмысление, отбор и проверка основных пунктов семантики кристалла. Учитывая высокую роль художественного и художественно-критического слова, а также авторской рефлексии в культуре «серебряного века», в главе уделяется специальное внимание словесному творчеству эпохи, тем более, что и музыкальные потенции этого мотива были первоначально осознаны именно в литературе.
Обзор художественной литературы начала столетия позволил составить представление о широком круге явлений, связанных с использованием символики кристалла. Литература того времени ввела в обиход произведения, озаглавленные царственным именем драгоценного кристалла, названием ювелирного украшения или сакрального атрибута, тем самым возводя кристалл в ранг специальной темы творчества. Под «минерально-ювелирным грифом» выходит в свет разножанровая проза и поэзия, шедевры и массовая беллетристика.
Другая сторона вопроса - осмысление мотива кристалла как метафоры, иносказания, символа, происходившее «среди текста». Начало ему было положено авторами символистского круга. С протеической неуловимостью он принимает облик то роскошно декоративных россыпей, то, - чудесно увеличившись - одинокого «магического кристалла», то - некоей космической первоматерии, порой - модели макромира. Иногда он осмысливается как природный, органический, иногда - как рукотворный. На первый план в нём выходят то светозарность, то острота и твёрдость, то хрупкость, то - совершенство формы, симметрия. Литература символизма окутывает образ кристалла обширной и таинственной семантической «аурой», охватывающей бездну значений, их сочетаний и оттенков, и выдвигает его на статус некоего «гиперсимвола». Та многогранность, таинственность и неуловимость, которую культивировал символизм в образе кристалла, во многом определила «качество звучания» топоса на всём культурном пространстве «серебряного века».
На материале поэтического творчества эпохи выводятся узловые моменты символики кристалла. Это «эстетизирующая» декоративность, «сакрализующая» тайнодейственность (с разной этической окраской - от лучезарно-райской до инфернальной), космологические представления, креативная и симметрийная символика.
В поэзии «серебряного века» лейтмотивом проходят своего рода вариации на тему «кристалл и звук», «кристалл и музыка», «музыка кристаллов» и прочие, которые раскрывают синтезирующую аудиовизуальную природу этого образа. Поэтический «слух» эпохи, как известно, отличала необыкновенная чуткость к музыкальному началу во всех его проявлениях, и в литературном творчестве оно представлено весьма широко - от философствований о музыке до попыток воплощения в стихе музыкальных ритмов, тембров, структур и т.д. Поэзия «серебряного века» передаёт тонкое ощущение музыкальности кристалла. Камень окружается целым ореолом звуков, и кристаллические метафоры широко и разнообразно применяются к образам музыки.
В разделе рассматриваются особенности музыкального воплощения образа кристалличности. Поэзия «серебряного века» послужила серьёзным «трамплином» для музыкальной «кристаллистики». Часто сам выбор поэтического текста или слово, иным образом включённое в орбиту музыкального творчества, свидетельствуют о внимании музыкантов к этому образному кругу. Среди камерно-
вокальных опусов наиболее «кристаллическими» мы назовём танеевские «Сталактиты» (Сюлли-Прюдом - Эллис), а также «Снежинки» из 2-й тетради «Фейных сказок» Черепнина - Бальмонта.
В романсе Танеева налицо и ледяная застылость, идущая от гармонической краски (пустоватой уменьшенной звучности с обнажённым тритоном), и прозрачность рассредоточенной музыкальной материи, и странная колкость отрывистых широких интервалов, и даже житийная символика кристалла-слезы.
В черепнинской зарисовке эфемерная красота природных кристалликов у|ередана импрессионистически тонкими штрихами -ажурной, дышащей паузами фактурой, ломко звенящими в верхнем регистре диатоническими септаккордами и ювелирным блеском фортепианных узоров. Сама структура «Снежинок», расколотая на предельно миниатюрные (до одного аккорда) детали, подобно кристаллической, мелькает и сверкает всё новыми гранями образа.
Та же хрупкость, колкость звучания и таинственное свечение, та же холодноватая красота присущи «Аметистам» Ан.Александрова из музыки к пьесе М.Метерлинка «Ариана и Синяя Борода». Тембровое решение «кристальности» дают Н.Римский-Корсаков (в песенке чудесной белки из города Леденца) и А.Лядов (в покачиваниях «хрустальчатой колыбельки» Кикиморы). Кристаллическими мотивами изобилует либретто оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». Л.Серебрякова усматривает оттенки священных самоцветов апокалиптического райского града в цветовой гамме Небесного Китежа: «что бело, а что лазорево, индеж будто заалелося». Библейская и апокрифическая «кристаллистика» является в образах «неба хрустального» и построек небесного града. Параллель внушает и прозрачная аналогия Небесного Китежа с Небесным Иерусалимом -Градом-Кристаллом совершенных очертаний. Интересное музыкальное решение кристаллической топики даёт композитор в сцене сумасшествия Кутерьмы. Напомним, что несчастный одержимый, пытаясь укрыться за Февронией от беса, вдруг замечает, что «душа-то девичья, Что в оконнице слюда светла, - Неприязнь насквозь мне видима». Символом прозрачной
- хрустальной - души Февронии звучит краткий, хрупкий хорал, который выстроен по законам симметрии. Кроме того, подобно волшебной призме, он сфокусировал на предельно малом пространстве важнейшие мотивы оперы.
Отдавая должное роли слова в проникновении кристаллической топики в музыку «серебряного века», не будем всё же утверждать, что это
- её единственный путь. Нельзя упустить из виду и определённое воздействие на музыку изобразительного искусства, сказавшееся как в конкретных явлениях параллелизма (например, Врубель - Римский-Корсаков), так и в общей тенденции графизма музыкальной ткани, породившей аудио-визуальные феномены волнообразных, стеблеподобных, кристалловидных мелодических орнаментов. Кроме того, невозможно забыть о собственно музыкальных корнях
кристаллической образности, адресующих нас к русскому музыкальному наследию позднего XIX века. Это три феи последних балетов Чайковского - фея Драже с «хрустальным» соло челесты, фея Бриллиантов и фея Сапфиров (пятидольный метр вариации которой, по словам М.Петипа, отражал пятигранную форму камня). У Римского-Корсакова это - фрагменты партий Снегурочки, Волховы, вступление к «Ночи перед Рождеством». К 1894 году относится лядовский замысел симфонической сюиты по сказочным мотивам, включавшей картину «Хрустальный дворец».
В музыке «серебряного века» черты, составляющие внутреннюю основу образа кристалличности - статика, холодноватая хрупкость, утончённо-прозрачный колорит, обострённость, особая лучезарность -получили как бы второе дыхание, ибо соприкоснулись с самыми заветными сторонами звуко- и миросозерцания эпохи. Пример тому -творчество А.Скрябина, где слово и музыка связаны обратной связью: слово диктуется музыкой, исходит всецело от звуковых ощущений. Это -уникальные скрябинские ремарки, достойные быть предметом специального исследования. Трижды в его поздних сочинениях возникает ремарка "crisíallin" - в Поэме-ноктюрне, Прометее и 10 сонате. Кроме того, аксиоматика кристалличности передаётся ремарками "¡impide" (чисто, ясно, прозрачно), "риг" (чисто, ясно, прозрачно, правильно), "elincelanf' (сверкающе, искристо), "eclat" (блеск), "'fragüe" (хрупко, ломко). Небезынтересно, что мыслимая твёрдость, сверхпрочность, неразрушимость кристалла в чертогах музыкального искусства оборачивается своей противоположностью - эфемерностью, хрупкостью, утончённостью, - качествами, вне которых музыкальный кристалл не существует. Это - отголосок романтического века с его тоской по Красоте, умирающей на глазах, недостижимой, как мираж.
Кристаллические звукокомплексы воздвигаются и в раннем творчестве Скрябина - их легко распознать и при отсутствии названных ремарок. Это всё те же светоносные регистровые краски, ломкая некантиленная мелодика, воздушная прерывность ткани, прозрачная фактура (порой - строгая хоральная, иногда - основанная на движении широкими интервалами или на одноголосии), диссонантность особого рода - острая, но разреженная и ясная (иногда - сочетание остроты с пустотностью), различные полиэффекты, соответствующие многогранной сущности образа, обязательный момент статики, бесстрастия, ладовая индифферентность, порой стаккатное звукоизвлечение. В неодинаковой мере подобная кристалличность свойственна прелюдиям op.l 1, № 17 и ор. 16 № 2, поэме ор. 32 № 1, теме звезды из Четвёртой сонаты, пьесам «Хрупкость», «Энигма» и некоторым другим скрябинским опусам.
Попутно затрагиваются вопросы живописного и пластического отражения образа кристалличности, а кроме того - его преломление в пародийных и китчевых текстах эпохи. Намечаются исторические перспективы в судьбе мотива - тенденция к утере символистской влекущей глубины и эзотеризма и обретения сциентистской окраски.
Второй раздел отдан другой художественной парадигме - зеркалу. В культуре «серебряного века» с его страстью к мистификации, с
бесконечным карнавалом, когда не узнать, кто подлинный, кто - маска или отражение. с антиномичностыо сознания, в котором противоположности конфликтуют, сосуществуют и переливаются друг в друга, с тягой к Иным Бытиям - зеркало стало одним из излюбленных образов. В семантике этого образа выделены как основные параметры ситуация двойничества, нарциссизм, мистическая, креативная и симметрийная символика. Как и кристалл, зеркало прежде всего апробируется в литературе эпохи, и анализ этой топики во втором разделе происходит по тем же «вехам», что и анализ мотива кристалличности в первом разделе. Несколько подробнее рассматривается вопрос о пластическом претворении мотива зеркальности в двух ракурсах -портрет с зеркалом и пейзаж с зеркальным водоёмом. Последний из них приближается к музыкальной интерпретации зеркальной топики
Зеркальность в музыке на образном уровне исследуется как производное от образов тихих вод, культивируемых в жанре баркаролы. В разделе даётся несколько музыкально-аналитических этюдов. Сравнивая судьбы кристалличности и зеркальности как музыкальных образов, мы видим, что пути двух «собратьев» в царстве музыкальной образности расходятся, и это связано с индивидуальными особенностями каждого из них. В то время как образ кристалла, как уже отмечено, буквально окутан дымкой звуковых ассоциаций, зеркало не только таковых не порождает, но кажется совершенно чуждым всякому звукообразу. Более того, если кристалл обладает таким обликом, составляющие которого с лёгкостью находят себе позитивные звуковые аналоги (прозрачность, многогранность, острота, хрупкость, холодность, блеск, красочность...), то зеркало - не воплощение красоты и совершенства, а лишь «медиум». Вместе с тем, зеркальность неотъемлема от природы музыки, только она облекается не в тембровые, гармонические и фактурные краски, а в музыкально-конструктивные категории.
В образной системе русской музыки начала нового столетия развитие зеркальной топики немало стимулировалось словом. Излюбленным «водным» мотивом музыкантов «серебряного века» представляются озеро или пруд, неподвижная поверхность которых располагает к созерцанию отражения. Романсовая лирика начала XX века изобилует озёрными пейзажами с «зеркальным акцентом».
В основу трёх романсов - А.Гречанинова, Н.Черепнина и Ан. Александрова - лёг один и тот же текст гафизического стихотворения Фета «О, если б озером был я ночным». Насыщенный томной восточной эротикой ряд цветистых параллелизмов, иллюстрирующих оттенки любви от созерцания до страстного порыва, открывается парой «озеро -отражённая в нём луна». Музыкальное решение этого аллегорического ландшафта во всех трёх случаях обнаруживает сходство. Каждый раз это стилизованный наигрыш некоего ориентального инструмента на фоне
длительно выдержанного аккорда (Гречанинов), квинты (Александров) или аккордовой фактуры с остинатным элементом (Черепнин). В романсах Черепнина и Александрова, кроме того, мелодический рисунок фортепианной «заставки» - наигрыш-орнамент - относится к вокальной теме как её имитация в ритмическом уменьшении (своеобразный аналог искажённого отражения в воде!). В романсе Александрова возникает мимолётный намёк на баркарольный комплекс «глади волн» («колышущаяся» квинта в басу). У Черепнина на столь же краткий миг рождается и истаивает «зеркально» противодвижущинся подголосок. Полифоническая деталь есть и у Гречанинова: каноноподобная перекличка голоса н фортепиано на скользящей хроматизированной теме в духе глазуновского Адажио из «Раймонды». Если же продолжить аудиовизуальные аналогии, то романтически-страстный опус Гречанинова видится неким подобием живописного портрета в пейзаже, изысканные повторяющиеся линии романса Черепнина - выверенным графическим листом или орнаментом, а роскошно колорированный романс Александрова - миниатюрным декоративным тетраптихом.
На один и тот же верленовский текст в разных переводах -В.Брюсова и Ст.Митусова - написаны, соответственно, вокальные миниатюры Р.Глиэра «Из Поля Верлена» и И.Стравинского «Где в лунном свете». Ощущение глубокого покоя и гармонии, излучаемое этой ночной идиллией, окрашенной любовным восторгом и нежностью, сконцентрировано в образе зеркального пруда. Глиэр живописует его с помощью вокально-фортепианных имитирующих перекличек - однако, не эхообразных, а, скорее, «вопросно-ответных», что можно считать удачной и интересной находкой композитора. Иначе у Стравинского. Здесь последовательно проводится идея противодвижения голосов -«музыкального зеркала» - и в этом контексте зеркало пруда, устремлённые к луне леса и нисходящий навстречу' им небесный покой -суть части картины всеобщего равновесия, взаимопритяжения верха и низа. Кроме того, есть и собственно звукописный момент - аккордовое, словно стынущее остинато и эфемерная эхо-имитация .
Дважды появляется символ зеркальной воды в «Иммортелях» Танеева. Ужас и тоска отражённого, немого бытия, плена отражений с единственным выходом - в смерть - воплощены в метерлинковских «Отсветах». Колеблющийся баркарольный «комплекс зеркальной глади» приобретает у Танеева, благодаря регистровой краске, черты роковые и зловещие. Это не просто отражение в воде - за зеркалом зияет глубь пожирающая.
Комплекс «зеркальной глади», представленный в весьма широком круге музыкальных произведений, принял в начале XX века вполне чёткие очертания, будучи отточен и отшлифован композиторской практикой. Он устоялся в смысловом отношении, сконцентрировав в себе семантику сна, многозначительной тишины, наполненной благостью Божественного света или дыханием смерти, неволи, томительного балансирования на грани двух миров, зыбкого равновесия. За образами
водного зеркала закрепляются языковые характеристики, перечисленные нами выше, обогащенные полифоническими приёмами (имитации, инверсии, преобразования, связанные с увеличением и уменьшением), перекличками голосов. Естественно, что, прежде всего данный комплекс отражает внешне-изобразительный аспект образного мотива.
Обобщение внешних, наиболее очевидных моментов ведёт к образованию музыкального символа. И хотя к их числу образ «зеркальной влаги» отнести, на наш взгляд, нельзя, ибо самостоятельной жизни без участия внемузыкальных стимулов, - таких, как стихотворный текст, программный заголовок или сценическое действие, - он не получил, всё же шаг в направлении музыкальной символизации этого образа был сделан.
Более подробно анализируются соответствующие фрагменты оперы Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный» и балета Аре. Корещенко «Волшебное зеркало».
Отмечены некоторые параллели в семантике и судьбе двух мотивов.
Вторая глава работы - «Кристалл и зеркало: апология симметрию) - фокусирует внимание на вопросах, связанных с конструктивной (симметрийной) стороной в семантике кристалла и зеркала.
В главе даётся исторический обзор явлений кристаллической и зеркальной симметрии. Начало XX века - эпоха ряда величайших открытий в области симметрологии, время философско-эстетического осмысления проблемы симметрии и симметрийных изысканий в стихосложении, пластических искусствах, теории искусства, в том числе и музыкального. Всё это способствовало повышенному вниманию к вопросам симметрии в художественном творчестве «серебряного века». Существенно дополняет общую картину отражение симметрийных мотивов в пародийных текстах и моде того времени на «зеркальные» игры, псевдонимы и загадки.
В главе даётся обзор музыковедческой литературы по проблемам симметрии и отбор приемлемой в данном случае методологической основы, представленной в трудах С.Гончаренко, Л.Серебряковой, Ю.Векслер и других исследователей, использующих культурно-контекстный подход в большей мере, нежели точно-научный.
Ряд музыкально-аналитических этюдов на тему «зеркальная и кристаллическая симметрия в музыке» открывается анализом трёх «макроопусов» с многоуровневым, практически тотальным, претворением идеи симметрии, начиная от общеконцепционного уровня и заканчивая симметричными темами и гармониями. В качестве классических «музыкальных кристаллов» представлены «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова, «Нарцисс» Черепнина и Девятая соната Скрябина. В процессе анализа выявлена сложная иерархия явлений симметрии в каждом из трёх сочинений и отмечено их образно-конструктивное единство под знаком
исследуемой пары топосов. Раскрывается различное происхождение «пансимметрии»: ритуализация в «Китеже», орнаментальность - в «Нарциссе» и мистицизм - в скрябинской сонате.
Первым из подобных звуковых «кристаллов» по грандиозности замысла и совершенству исполнения предстаёт «Сказание о Невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова. Это именно тот случай, когда зеркальная симметрия изначально задана как самим сюжетом, так и жанровым решением: «опера-обряд», «опера-мистерия» полностью отвечает ритуализирующим и мифологизирующим устремлениям в искусстве эпохи, выведенным исследователями в качестве этнокультурных моделей обратимости.
По складу дарования склонный к симметрии, теснейшим образом соединив сакральную символику с конструктивным элементом, Рнмский-Корсаков возводит в «Китеже» этот принцип в превосходную степень. Это некая неслыханная ранее «пансимметрия».
В I главе, рассуждая об этическом «двоемирин» оперы, мы приводили и конкретные, рождённые им, этические оппозиции. Кроме того, существуют и «диполи», претворённые в жанрово-интонационном строе «Китежа». Это два «колокольных звона» - звон-кара, «каинова печать» Гришки и благостный звон спасения, а также две противонаправленных «похвалы», вторая из которых - безумная пляска Гришки перед змием - переинтонирует молитвенную «похвалу пустыни».
Этическое «зеркало» дополняется в опере провиденциальным «зеркалом» - отражением во времени. Эту обратимость создают столь частые в опере пророчества и «невольные» предсказания ряда персонажей, в дальнейшем сбывающихся. Так, и Гришке, и Февронии словно заранее известно, что их судьбы роковым образом скрестятся. Вещания Февронии о «кринах райских» (I д.) и «белой хартии, слезами омытой» (IV д., I к.); князя Юрия о «пристанище благоутишном» (III д.), нищей братии о «земле ерусалимской» (II д.) сбываются в «райском» финале (IV д. II к.). События II и III действий предсказаны словами Княжича о наступлении «тёмных потёмок» (I д.), пророчеством Гусляра о «пагубе Китежу» (II д.) и песней Гришки о «горе лютом завистливом». Песня нищей братии о бражнике (II д.) предрекает безумие Гришки (IV д., I к.). Наконец, видение Небесного Китежа в водах озера подготовлено ещё во II действии в сцене медвежьей забавы (образ невесты, глядящейся в зеркальце). Так временному отражению подвергается и сам образный мотив зеркала - своеобразное «зеркало в зеркале».
Ещё один аспект симметрии в «Китеже» - это его нумерология. Апофеозом троичности, глубоко обоснованным в контексте оперы -мистерии представляется система троекратных повторов, широко используемых композитором в структуре сцен и отдельных номеров.
Обращает на себя внимание и функция числа 5, также несущего в себе идею симметрии. Оно связано с образами воинов и к тому же утроено (пятикуплетная структура воспроизводится трижды в «воинских» номерах оперы: в песне стрельцов из I д., в диалоге китежан и Поярка и в
песне дружины из III д.). Возможно, «китежская» пятеричность содержит некий намёк на апокалиптическую символику пяти - пятую печать, за которой скрыты души мучеников и пятую трубу архангела, вызвавшую полчища саранчи. Оба эти мотива могут иметь отношение к «китежскому» воинству: недаром его противник недвусмысленно сравнивается с апокалиптической ратью бездны, а самой дружине суждено принять мученические венцы.
Семантика числа 5 раскрывается в опере и ещё с одной стороны. Речь о том пятизвучном фанфароподобном мотиве, который возникает впервые в I действии в партии Княжича (на словах «Стрелся я с медведем заблудившись»), затем вольно вплетается в партию Февронии, в «Сечу при Керженце» и исчезает только в финале оперы. Этот лейтмотив, безусловно, не относится к числу наиболее заметных в опере в силу своей краткости и «внеситуационности»: он не связан однозначно с конкретным персонажем или ситуацией. Однако, он достаточно выразителен, релевантен и несёт в себе некий устойчивый смысл. Можно условно определить содержательную сферу этого мотива как «земные тяготы», «земное послушание», а именно - рана Княжича, труд древолаза, керженское побоище, наконец, наказ Гришке нести по земле весть о Небесном Китеже. Ещё одно косвенное подтверждение «земной» природы этого мотива - интонационная близость его теме Китежа в её нижней, «земной» части. Так симметричное число 5 выбрасывает здесь ещё один неочевидный, но изящный росток.
Необычайно стройным выглядит и общий сюжетно-композиционный план оперы, подобный некоей почти идеальной аркаде. Обрамляют композицию эпизоды райской гармонии сущего - пустыни, часто сравниваемой с Эдемским садом, и Небесного Китежа. Более конкретные переклички - преломление бестиалыюй тематики: соответственно, кроткие ручные животные Февронии и райские птицы и единороги Небесного Китежа. Арку образуют также эпизоды причащения (принятие Княжичем мёда в I д. и Февронией - небесного хлеба в IV д.). При этом любопытно, что в первом из них Феврония представляется Княжичу «наваждением», «лесным чудищем», иначе говоря, призраком, во втором же, наоборот - как в зеркале - они меняются местами: Февронии является Призрак Княжича.
Драматургически важные узлы оперы - начало и конец ((страстного пути» - отмечены апокалиптической тембровой символикой: звучанием «трубного гласа» (стрелецкие рога в I д.) и, на другом полюсе симметрии, - колоколов (IV д.). Систему арок выстраивают, кроме того, эпизоды, развивающие тему ipexa: Малый Китеж как логово греха (II д.) - и, с другой стороны, грех предательства Кутерьмы (III д.). Такую же роль играют и эпизоды вторжения и «расточения» враждебной силы - татар, соответствующие друг другу даже в частностях и окаймляющие собой центральное событие - молитву, мученичество и спасение китежан.
Наконец, представлен широкий спектр музыкальных тем оперы, имеющих симметричное «устройство» или содержащих элемент симметрии.
Во-первых, это темы, имеющие мелодический рисунок симметричных очертаний, то есть представляющие «зеркальность по горизонтали». В их числе - хрестоматийно известные образцы симметричных мелодий: лейтмотивы леса и Февронии. Тема леса сочетает микроинверсию на субмотивном уровне (fis g fis h a Ii) и возвратное движение от оси а. Тема Февронии, родственная «лесной» и, подобно ей связанная с символикой креста, демонстрирует красивейшую мотивную инверсию, словно составляющую два креста вместе .
Обе темы отмечены воистину кристаллической цельностью и законченностью. Столь же монолитны темы райских птиц, в которых симметрия претворена с меньшей наглядностью и точностью, но все же достаточно ощутима, особенно в теме Сирина, ограниченной разнонаправленными квартами и имеющей очертания некоего терема или башни. Сложнее выявить симметрию в теме Алконоста. Это симметрия вращения, воплощённая на интервальном уровне. Центр темы оформлен в виде трезвучия, охваченного секундами, а края «загибаются» в разные стороны подобно орнаменту типа меандра.
Помимо тем, отличающихся высокой внутренней цельностью, где ось симметрии проходит через некий центральный звук (каковы названные выше темы Февронии, леса. Алконоста и Сирина), в опере есть ряд симметричных тем, организованных иначе. В них ось приходится на интервал между инверсируемычи участками и рассекает мелодическое построение на два зеркальных «антипода». Этого рода темам свойственна более наглядная, подчёркнутая обратимость. Такова «выпрямленная» и симметризованная композитором цитата песни про татарский полон, полуфразы которой соотносятся как исходный мотив и его транспонированный ракоход. Зеркальность в этой (подчеркнём -фольклорной, хотя и изменённой) мелодии казалась бы случайной, если бы не нашла подтверждения в «Сече при Керженце». Заключительную фазу симфонической картины - скорбное умиротворение - венчает один из вариантов темы полона. Он имеет уже полностью «выпрямленный» контур, образуя вместе со своим точным нисходящим ракоходом характерные симметричные рельефы.
Неоднократно возникают в опере и симметрипные отношения типа «мотив - антимотив», то есть дистантно-симметричные пары отчётливо релевантных «антиподов». Таковы тема Алконоста со своим обращением в IV д., непосредственно сопоставленные или, точнее, составленные в орнамент, «раппортом» которого служит ранее экспонированный лейтмотив (например, в I д.). Такова же тема «малинового звона» со своим неточным, но наглядным обращением. Отношения «мотив -антимотив» на расстоянии представлены соответствующими модификациями темы горя китежан в III д. и в финале оперы. Учитывая, что этот мотив произволен от темы «малиновых колоколов»,
инверсированне колокольного мотива уже в I д. можно счесть своеобразным предвестием будущей зеркальной трансформации и другой темы.
Во второй главе рассматривается также ряд других музыкальных тем «Китежа» с горизонтальной, вертикальной и комплексной горизонтально-вертикальной симметрией.
Многоуровневая зеркальная симметрия, подобно некоему стержню, объединяет собою музыкальный организм совсем иного плана, жанра, наконец, ранга - одноактный балет Н. Черепнина «Нарцисс и Эхо». В первой главе уже шёл разговор о героях этого исключительно распространённого в начале века сюжета, служившего воплощением двух типов симметрии, зеркальной и переносной. Своей устоявшейся связью с этими двумя ликами симметрии герои балета уже как бы изначально заявляют о соответствующих структурных особенностях сочинения. Симметрия черепнинского балета вдохновлена мирискусническим декоративизмом и вызывает ассоциации с симметричностью художественного полотна, где в обрамлении изысканного флорального орнамента и в окружении живописных беотийцев и беотиек, вакханок, нимф и лесных духов запечатлена изящная и печальная античная реминисценция.
Правильностью и красотой декоративного панно пленяет система сюжетно-ситуационных связей произведения. В «зелёную кайму» балета - сцены пробуждения и засыпания-оцепенения леса погружены два эпизода, связанных с превращениями: метаморфоза Нарцисса и, как её отдалённое предвестие - флейта Сильвена, недвусмысленно напоминающая о нимфе Сиринкс и её превращении. Так в зеркале одной метаморфозы словно заранее видится другая. Центр балета, конденсирующий всё действие - явление главных героев, ревность и интрига нимф, месть Эхо - симметрично окружён двумя соло Нарцисса.
Музыкальная архитектоника произведения также отмечена «знаком Нарцисса». Исследователи указывали на обрамляющую симметрию «лесных» прелюдии и постлюдии, написанных одной тональной краской As dur, расцветающей из вибрации As и в неё же «развоплощающейся».
Своеобразной аркадой представляется система эхо-эффектов в балете. Наружную арку образуют хоровые «эхо» вступления, с одной стороны, и заключительного эпизода созерцания метаморфозы, с другой. Есть здесь и внутренняя арка - на одном полюсе по-берлиозовски решённые вокальное эхо явления героев (дуэт), на другом - сольное, безответное «анти-эхо» ухода Нарцисса. Центром этой аркады видится сцена испытания Нарциссом Эхо, где эхо-эффекты созданы оркестровыми средствами.
Источником симметрии является также упомянутый выше тематический комплекс флейты Сильвена. Наделённый важной смысловой функцией (предвосхищение основной коллизии), он излучает множественную - «кристаллическую» - симметрию, простирая грани к последующим сценам. Кроме того, в симметрийных отношениях
находятся изысканно-томные «ленты» параллелизмов в хоровом звучании. Центр их представлен «Любовной поэмой» (одной из центральных сцен сочинения), «периферия» же вновь уходит в «лесные» прелюдию и постлюдию.
Токами симметрии пронизан - и порой «облагорожен» -своеобразный музыкальный тематизм балета, не отличающийся, может быть, интонационной характерностью, но весьма искусно сотканный из кратких, графически чётких мотивов и словно стилизованный в духе орнаментов модерна.
Композитор проявляет незаурядную изобретательность в области микросимметрии. Иногда симметрия исподволь обнаруживается в тематических образованиях, на первый взгляд, совершенно чуждых всякой «исчисленности» и внешне элементарно простых. Таков лесной мотив-зов (ц. 2), подобный гибкому побегу в своём взлёте через две октавы. Под подчёркнутой асимметрией очертаний этого мотива оказывается завуалирован правильный палиндром. Тем самым «растительный узор» в каком-то отношении преображается в «кристаллический». Последняя метафора справедлива и для других тематических образований балета, тем более что и в общей холодноватой ясности, бесстрастии, прозрачности колорита музыки Черепнина можно также усмотреть аксиоматику кристалличности.
Некоторые тематические построения основаны на элементарной инверсии - прямом и возвратном движении (ходе, пассаже) и ведут своё происхождение от фортепианных экзерсисов.
Весьма характерной для композитора фигурой симметрии видится скрещивающийся или расходящийся гаммообразный пассаж в терцовом удвоении, плод изощрённой фантазии виртуозного пианизма, встречающийся в фортепианной литературе не часто. В балете Черепнина он появляется в танце Нарцисса и в эпизоде мольбы Эхо. При этом, - что очень показательно для черепнинского стиля - подобный пассаж бывает выстроен так, что из однотипных терций (больших или малых) образуются по вертикали симметричные четырёхзвучия.
Справедливость требует добавить, что не только «нарциссическая» зеркальная, но и «эхорождённая» переносная симметрия со всей свойственной Черепнину декоративной щедростью представлена в тематизме балета - в виде разнообразных параллелизмов (например, в «Любовной поэме»), секвентных цепей, остинато (в музыке леса, открывающей балет) и тембровых перекличек (собственно «эхо»).
Итак, иерархия симметрийных отношений Нарцисса и Эхо» (конечно же, несравненно более «облегчённая», нежели в «Китеже») также затрагивает все структурные уровни произведения. Не случайно балет снискал сравнение с гобеленом, панно, виньеткой - или, добавим мы, витражом - по сути, плоскостным квазикристаллическим рисунком.
Цикл аналитических этюдов завершает раздел, посвященный преломлению симметрии в чисто музыкальном опусе, без участия сюжета, слова или изобразительного ряда. Это Девятая соната Скрябина,
создание творца, отнюдь не равнодушного к музыкальной «кристаллографии».
Сама по себе позднескрябинская сонатность с отличающим её диктатом данности над процессуальностью, склонна ассоциироваться с игрою граней отшлифованного кристалла. На уровне формообразования соната обнаруживает строгую симметрию масштабных соотношений частей. Опираясь на метротектонические исчисления, произведенные в одном из исследований скрябинской эзотерической символики (К.Барас), автор совершает подсчёт тактовых пропорций этого сочинения. Согласно этому подсчёту, ровно пополам делится экспозиция, каждая из тем которой занимает по 34 такта; а разработочный и репризный разделы выстроены - каждый - по зеркальному принципу. Обрамляющая сонату тема занимает и в начале, и в конце но 7 тактов. Побочная партия в экспозиции «опоясана» тематически эквивалентными связующей и заключительной партиями (обе по 10 тактов), будучи при этом сама симметрично организована (8+8+8). Симметричен и репризный вариант побочной партии: 4+4+6+4+4. Что касается разработки, то она членится следующим образом: 18+18+14+18+18. При этом крайние разделы и центр составляют её -архитектоническую опору в ситу своей функционально-драматургической определённости.
Затем рассматривается симметрия на уровне тематизма. Весь тематический материал сонаты отмечен тем или иным родом симметрии. Симметрия здесь порой явная, подчёркнутая даже графически, как в начальной теме с её красноречивыми имитациями или в палиндромическом взлёте - ниспадании связующей партии, к тому же имеющей интервальную симметрию (1-4-4-1). «Потайная» зеркальность темы побочной партии открывается в принадлежности её к специфическому скрябинскому зеркально-симметричному звукоряду, производному от «постпрометеевской» разновидности шестизвучия (с малой ноной). Эго случай воистину эзотерической зеркальности, запрятанной в глубине звукообраза.
Интереснейший пример преломления обратимости представляют скрябинские мотивы-антиподы. Один из них - элемент "misterieiisement murmure" главной партии, инверсируемый в разработке и коде и приобретающий инфернальную окраску. Судьба другого мотива-палиндрома сложнее, так как инверсирование здесь происходит на двух уровнях - высотном и ритмическом, и к тому же «переворачиванию» подвергаются два тематических образования, объединяясь в коде в один «перевертыш». Речь о том взвинченном синкопированном двухголосном ходе в басу, которым отмечены метрические акценты эпизода '"Alla тагскГ. Его интервальное строение - «негатив» начального хода другой двухголосной же темы, открывающей сонату (63 - мб и мб - 63); кроме того, здесь противопоставлены сакральные «вверх» и «вниз». Обратно-пунктирный ритм этого мотива произведён от пунктира главной партии. Таким образом, перед нами - уникальный «двойной перевертыш»!
Два рассмотренных нами мотива-энантиоморфа и структурируют всю разработку. Явлением первого из них ознаменованы первые её 18 тактов, в центральном разделе возникает второй «антимотив», заключительные 18 тактов синтезируют разработочные перипетии и возвращают звучание первого элемента главной партии, который, наряду с мотивами-палиндромами объединяет три опорных раздела разработки.
Соната содержит симметрию и ещё на одном уровне. Это, пожалуй, самый сложный и «эзотерический» слой симметрии - зеркальность в гармонии. Проблеме вертикальной симметрии в работе уделяется специальное внимание.
Особенно ярко проявляется это редкое свойство в гармонии Скрябина и рассматривается подробно на материале его поздних сочинений. В процессе анализа вырисовывается «лестница» точности, сложности и «зашифрованное™» зеркально-симметричных вертикалей и звукорядов. Скрябин обращается как к «конденсатам» симметрии, таким, как двутерцовое четырёхзвучие или малый вариант прометеева шестизвучия, так и к «мнимым кристаллам», и к аккордам с частичной или скрытой симметрией. Исследуется специфика «симметрийной драматургии» сочинения на примере прелюдии № 4 ор. 74.
В главе также затронуты вопросы преломления снммегринных исканий в творчестве авторов «околосимволистского» круга или испытавших в то время влияние этого течения со свойственными ему особенностями трактовки симметрии. В связи с этим анализируются сочинения С.Прокофьева, Н.Мясковского, Ан.Александрова, А.Стаичинского.
В Заключении («"Кристалл" и "зеркало": на переломе») на материале музыкального творчества России 1910-х - 1920-х гг. показано, как семантика мотивов кристалла и зеркала подвергалась переосмысленшо под влиянием смены эстетических ориентиров. Распад символистского мироощущения и формирование раннего русского авангарда повлекли за собой и соответствующие изменения п облике дк\ч исследуемых мотивов. В новом культурном контексте кристалл и зеркало лишаются уже «сверхсублимации», освобождаются от ореола тайны и сакралыюсти, обретая плотность, вещность. порой некоторое «наукообразие» и отчасти пародийное снижение. «Переинтонируется» мастерами авангарда и идея симметрии, в которой «скрещиваются лучи» от обоих образов-символов. Рассматриваются, в частности, феномен разрыва между трактовкой красоты на уровне языка и образности и красотой конструкции, пародирование характерных символистских приёмов, сдвиг категории симметрии из области сакрума в область игры.
Диалог двух поколений о симметрии слышен, в частности, в области организации музыкального целого. Блестящим образцом многоуровневого претворения принципа симметрии стала в «новом искусстве» первая опера Шостаковича. Представляется симптомом времени, что симметрийные искания «серебряного века»
сконцентрировались в «высоком» жанре («Китеж» традиционно рассматривают как оперу-мистерию, «литургическую оперу», «оперу-обряд»), тогда как авангардный эксперимент с симметрией нашёл выход в жанре фарса. Причину следует искать в различном подходе к симметрии - как к атрибуту священнодействия и как к орудию игры - в этом сказывается общая тенденция снижения образов симметрии.
Обильные поводы к симметрийным изыскам в «Носе» даёт сам гоголевский сюжет с его карнавальной атмосферой, с системой перевертышей и отражений (одно из них скрыто в названии: как известно, повесть первоначально называлась «Сон»), Так же, как и в «Китеже», здесь сюжет может быть эмблематизирован в виде зеркальной ситуации. Это и собственно разглядывание майором Ковалёвым в зеркале своей обезносевшей физиономии, и столкновение главного героя с Носом (в некотором смысле, своим двойником), и «встречное» чтение писем Ковалёва и Подточиной, и два «противонаправленных» гротескных нагромождения (в 7 картине, ведущее к нахождению Носа, и в Интермедии, вновь уводящее в неопределённость).
В подтверждение новой трактовки симметрии у Шостаковича приводится подробный анализ сюжетики, архитектоники, тематизма и мотивно-гармонических структур оперы.
Таким образом, со сменой поколений трансформировался и облик симметрии. Зримая простота и броскость симметрийных приёмов пришла взамен тонкости и сложности, крупный мазок - вместо детальной проработки, выпуклость элементов симметрии как пародии на порядок посреди хаоса - на смену слитности и гармонии целого. Суггестию и одухотворённость заместило игровое начало. В этом суть диалога о симметрии двух сменивших друг друга умонастроений первой трети XX века.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Сафонова О. Р. Всюду отражения... - ОгасЗиБ ас! РатаБвит. Сборник статей молодых музыковедов. Нижний Новгород, 1998.
2. Сафонова О. Р. «Кристаллография» позднего творчества Скрябина как историко-культурный феномен. - Русское искусство и мир. Тезисы докладов участников I международной научной конференции. Нижний Новгород, 1993.
3. Сафонова О. Р. Магия отражений (об одном образном истоке энантиоморфных открытий в русской музыке начала XX века). -Русское искусство и мир. Тезисы докладов участников II международной научной конференции. Нижний Новгород, 1994.
4. Сафонова О. Р. Об интерпретации двух древних символов в русской музыке начала XX века. - Проблемы художественной интерпретации в XX веке. Тезисы всероссийской научно-практической конференции. Астрахань, 1995.
5. Сафонова О. Р. Музыкальная симметрия: таинство и конструкция (диалог поколений в русском искусстве начала XX века). - Искусство XX века: диалог эпох и поколений. Тезисы докладов участников международной конференции. Нижний Новгород, 1999.
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата искусствоведения Сафонова, Ольга Рафаиловна
Введение.
Глава!
Кристалл и зеркало: образно-символическое прочтение.
Глава И
Кристалл и зеркало: апология симметрии.
Введение диссертации1999 год, автореферат по искусствоведению, Сафонова, Ольга Рафаиловна
КРИСТАЛЛ» И «ЗЕРКАЛО» КАК ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА
Музыкальное искусство России начала XX века представляет собой неисчерпаемую тему для исследовательской мысли. Его изучению посвящена обширная научная литература. В фокус музыковедческого внимания попадают различные аспекты композиторского творчества эпохи: его содержательная и жанровая специфика (труды Б.Асафьева, А.Бандуры, И.Вершининой, Л.Дейкун, Б.Егоровой, И.Мыльниковой, Р.Розенберг, Е.Ручьевской, Л.Серебряковой и др.1). Вопросы синтеза искусств рассматривают В.Адаменко, И. Вершинина, Т.Левая, А.В.Михайлов, Е.Ручьевская, В.Чинаев и др.2 Особенности языка и его отдельных компонентов исследуются М.Арановским, Б.Асафьевым,
A.Бандурой, Н.Гуляницкой, В.Задерацким, Ю.Коном, Т.Левой, Л.Мазелем, Ю.Паисовым, А.Порфирьевой, С.Савенко, Ю.Холоповым и др.3 В ряде работ затрагиваются проблемы музыкальной драматургии и формообразования (Дж.Бейкер, В.Бобровский, С.Гончаренко, М.Друскин,
B.Каратыгин, Ю.Конюс, ЛСеребрякова и др.4), контекстного существования музыкальных явлений и разнообразных культурных параллелей ( А.Бандура, Дж.Бейкер, Р.Биркан, В.Варунц, А.Вермайер, Л.Михайленко, Б.Егорова, К.Зенкин, Т.Левая, Н.Поспелова, С.Савенко, Ю.Холопов и др.5).
Среди потока трудов о музыке «серебряного века» выделяется как масштабностью и «стереоскопичностью» взгляда, так и глубиной исследования монография Т. Н. Левой «Русская музыка начала XX века
1 См.: 15,21-24,54,71,75; 127,146,150,161,162 в списке литературы.
2 См.: 6,54,105,106, 107,123,132,150,190.
3 См.: 12,17,24,46,69,77,94,95,96,105,115,131,136,154,181.
4 См.: 29, 37,63,64,65,74, 88,100, 102, Щ.
5 См.: 6,21,22,23,24,29,35,47,53,54,78,103,104,105,137,153,181. в художественном контексте эпохи» (105). Этот ценный и ёмкий труд содержит ряд важнейших обобщений относительно системы художественных направлений и стилистических тенденций начала века, межвидовых контактов, вопросов эстетики и стиля, социально-психологических корней культуры и исторических судеб «серебряного века». Впервые всесторонне рассматривается проблема причастности музыки к^шно|Щме^<измов>> начал^вща и с этих позиций оценивается творчество ведущих представителей русской композиторской школы. Книга даёт серьёзную методологическую базу для комплексного анализа эпохи и в этом плане не имеет прецедентов в отечественном музыкознании.
При всей достаточно, казалось бы, полной и многоплановой освещённости, эпоха «русского культурного ренессанса» продолжает оставаться одной из излюбленных тем для исследователя, привлекая пристальное внимание своими доселе непознанными глубинами и скрытыми смыслами. Особенно актуальным кажется обращение к «серебряному веку» сейчас, в кризисный период, когда память о беспримерном взлёте национального духа так остро необходима.
Специальный интерес вызывают попытки осмысления духа эпохи через характерные символы, метафоры, сквозные образные мотивы. Подобный взгляд на культурную общность посредством метафоры в искусствознании - не новость. Порой и сам он становится предметом рефлексии. Толчком к таким исследованиям послужила отчасти юнговская теория архетипов, отчасти - структуралистские изыскания в области знаково-символического инструментария культуры (см. труды К.Леви-Стросса, Р.Барта, Ж.Лакана, Ж.Деррида, Р.Якобсона). Сложившаяся в философии и эстетике структурализма установка на устойчивые мифологемы, знаки, образы как средства познания культуры, как её объяснительный принцип получила в отечественном искусствознании весьма сильный резонанс.
О «мифологическом образе как средстве поэтического анализа жизни» размышляет в своих историко-культурных исследованиях Л. В. Михаилов, применяя также в связи с этим термин «ключевые слова культуры» (см. 124). Г. С. Кнабе выдвигает в качестве универсального инструмента анализа культурной эпохи понятие «внутренней формы культуры» (93), достаточно сложное, «вместительное» и, очевидно, не случайно прижившееся в музыкознании (см., например, работы И. Барсовой, В. Вальковой.).
Одновременно идёт и практическое освоение анализа через метафору. Шаги по этому пути уже сделаны рядом исследователей -причём, в первую очередь, не музыковедов. Объектами таких исследований становится не только «серебряный век», но самые разные культурные периоды. Так, привлекательна попытка Л. Кириллиной, рассмотреть романтическую оперную культуру сквозь призму образа русалки (89). Для Б. Егоровой такого рода ключом к культуре модерна служит мотив острова (75). Исследуя символику «серебряного века», этим же подходом пользуется Т. Левая, говоря о цветовых, звуковых, геометрических и иных символах. К посредству образных парадигм эпизодически прибегают в трудах об эпохе барокко - М. Лобанова (110), о византийском искусстве, а также о русском символизме - С. Аверинцев (2 - 5), о европейском модерне - Д. Сарабьянов (158), о древнерусском искусстве Г. Вагнер (45), о классицизме Моцарта -В. Медушевский(117). Любопытен исследовательский этюд Г. Вдовина о претворении темы "homo bulla" («человек - мыльный пузырь») в искусстве «галантного века» (48). Нельзя не назвать и работы Д. Лихачёва, А. В. Михайлова, Г. Стернина, В. Топорова, Ю. Лотмана, Т: Цивьян, Р. Тименчика (109, ИЗ, 124, 168, 171, 186) и других учёных, перечислить все имена которых не представляется возможным. Привлечение метафоры для постижения общекультурных закономерностей приносит весьма ощутимые плоды, всегда высвечивая в эпохе новые грани и по-новому расставляя акценты, открывая незамеченные ранее культурные параллели и взаимодействия. Кроме того, за стихийными обращениями к стержневой метафоре как квинтэссенции особенностей культурного периода нам видится определённая и очень продуктивная методологическая тенденция, которая, безусловно, заслуживает осмысления и разработки.
Выбранная нами тема исследования лежит именно в этом русле. На роль эпохальных репрезентантов начала XX века мы собираемся предложить кристалл и зеркало - два образа-символа, на наш взгляд, способные выступить «мерой всех вещей», инструментами проникновения в самую суть сложной и многоликой культурной эпохи. Основанием к такому выбору послужил их поистине исключительный универсализм. В самом деле, без этих образов-символов немыслимо не только художественное творчество, но и другие области духовной деятельности представителей эпохи. Без них невозможно вообразить литературную, научную и салонно-бытовую речь той поры. Без них картина мироощущения начала века утратила бы нечто весьма существенное и во многих отношениях перестала бы быть самой собой.
Более того, за этой парой метафор просматривается и весь XX век с его саморефлексирующей культурой, всё время как бы глядящей в «мозаику зеркал» (Г.Орлов, 130) и воспринимающей мир не непосредственно, но словно бы «сквозь призму», через некий «магический кристалл». Отражения, грани, пересечения, соответствия, разломы (часто опасные, «травматичные») составляют существо постмодернистского сознания конца столетия. Таким образом, можно утверждать, что и кристалличность, и зеркальность были унаследованы современностью от «серебряного века» и вросли в плоть и кровь художественной культуры наших дней.
И кристалл (понимаемый, прежде всего, как «драгоценный камень», «самоцвет»), и зеркало - метафоры с давним прошлым. Корни этой образности уходят в глубокую древность. Исследователи указывают на распространённость «минеральных» мифопоэтических мотивов в неевропейских древних культурах - в том числе древнекитайской, древнеиранской (172), «зеркальных» - в японской (культ Аматэрасу), этрусской (118). Обе метафоры никогда не уходили из художественной культуры и за века своей истории «обросли» обширной и сложной семантической аурой.
Упоминания, описания, отдельные наблюдения, связанные с метафорами кристалла и зеркала встречаются в научных трудах, посвященных самым разным эпохам. Так, символики кристалла, так или иначе, касались А. Я. Гуревич - в контексте средневековой культуры, упоминая о самоцвете - символе слезы святого (70); М. Лобанова - в исследованиях о барокко, толкуя излюбленный барочный мотив хрустальной сферы в связи с символикой вечности, света, чистоты как атрибутов Бога, а также с магическими способностями прозревать будущее (110). Автор затрагивает и барочную эмблематику зеркала, включающую мотив УстНая (суета) с одной стороны, с другой же -мотивы единства, самопознания, неизбежности смерти. Мотив зеркала удостоился даже монографического сборника тартусских семиологов (173), где он многосторонне рассматривается в самом широком культурном контексте - от ренессансных представлений о зеркальности (Ю. Лотман) до «зеркальных рефлексий» XX века: в «Орфее» Ж. Кокто (Р. Тименчик), у Р. Рильке, С. Дали (Л. Столович), Набокова и Борхеса (Ю. Левин). В статьях сборника тема предстаёт в самых неожиданных поворотах: исследуются символика телефона как звукового зеркала (Р. Тименчик), зеркальные приёмы в киноискусстве (М. Ямпольский), символика говорящего зеркала (С. Золян) и др. аспекты семиотики зеркальности. В статьях Л. Столовича и Ю. Левина даются обобщающие взгляды на зеркало, с позиций заложенных в нём семиотических потенций и с точки зрения его возможностей как семиотической, гносеологической и аксиологической модели.
Тема зеркала звучит и в череде работ других учёных. Так, С. Аверинцев и В. Бычков затрагивают проблему значения топоса зеркала в средневековой культуре, А. Морозов, Л. Софронова,
B. Чубинская, М. Лобанова - в эпоху барокко. Мысли об этой образности мелькают и на страницах трудов о культуре Возрождения, романтизма, XX века.
Особую группу литературы об этих образных мотивах составляют всевозможные популярные брошюры и справочники, в которых содержится самая пёстрая информация относительно происхождения, магических свойств самоцветов и зеркал и их оккультной символики. Не представляя серьёзного научного интереса, эти работы всё же свидетельствуют о «высоком рейтинге» мотивов кристалла и зеркала в самых широких кругах.
Однако, возвращаясь к искусствоведческим изысканиям, признаём, что пальму первенства в изучении двух этих метафор держат исследователи культуры XX века и в том числе - эпохи «серебряного века». Такая «расстановка сил» представляется нам не случайной, но вполне естественной. Именно «русскому культурному ренессансу» принадлежит честь раскрытия всего ассоциативного богатства мотивов кристалла и зеркала. В начале XX века мир увидел всю радугу заложенных в них смыслов, всю юру их оттенков, осознал их глубину и многогранность. Отсюда и приоритетное положение исследований эпохи «серебряного века» в литературе об этих двух топосах.
Рассуждения о мотиве кристалла в поэтике И. Анненского находим у А. Аникина (11). Немалое внимание этому мотиву уделяет
C. Аверинцев, исследуя образную систему Вяч. Иванова (2, 4). Вслед за А. Белым учёный пишет о привилегированном месте кристаллической образности в творчестве Иванова, для которого «кристалл. -нормальное состояние вещества, поэтому даже льющийся ручей назван "расплавленным"». Метафорический образ камня, по меткому замечанию Аверинцева, всегда стоит у Иванова в тесном соседстве с чувственно-конкретным образом настоящего камня, тем самым, возвращая стёршимся «ювелирным» сравнениям свежесть, плотность и тяжесть.
Л. Спроге рассматривает эзотеризм русского символизма через призму эзотерической интерпретации драгоценного камня в цикле Вяч. Иванова «Царство Прозрачности», усматривая в оккультной символике камней один из ключей, проясняющих полизнаковость ивановского текста (166).
Статья 3. Минца и Г. ОбатНина в упомянутом выше сборнике тартусского университета посвящена символике зеркала в ранних поэтических циклах Вяч. Иванова как одной из образных доминант в картине мира, создаваемой поэтом (120). Авторы подвергают ивановскую зеркальность тщательному семиотическому анализу и приходят на его основе к серии важных культурно-исторических параллелей как внутри «серебряного века» (зеркальность у Вл. Соловьёва, Бальмонта, Белого, Блока и др.), так и межэпохальных (тютчевская трактовка зеркальности). Обширен и сложен, согласно наблюдениям авторов, круг смыслов, очерченный вокруг этого рода топики у Иванова - это и воплощение двух обликов Единого, и-метафора зрения, и зеркало души, и расколотое символистское «я», и механизм уничтожения пространства и времени, и андрогинность, и модель гармонизации мира. На мысли, высказанные в этой статье, мы будем опираться в первой главе нашей работы.
Д. Сарабьянов называет мир кристаллов в числе иконографических источников стиля модерн (158, с.232). Интересные наблюдения над преломлением метафоры зеркала у Сомова содержатся в статье М. Алленова (8). Автор утверждает, что зеркальность служит одним из способов «остранения» в сомовских портретах, создаёт эффект самозамкнутости модели, придавая ей черты маски, так что концепция портрета у художника приобретает вид: «Я в зеркале», но не «Я в мире». Д. Лихачёв анализирует блоковское стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека.» с позиций фольклорной опрокинутости «бытия в смерти» (109). По мнению учёного, трактовка смерти как отражённой, карикатурной жизни сближает стихотворение Блока с совсем, казалось бы, чуждым ему «Тёркиным на том свете» Твардовского.
Как видим, в трудах, посвященных искусству «серебряного века», метафоры кристалла и зеркала - отнюдь не «забытые мотивы». Вместе с тем, то немногое, что представлено в музыковедческой литературе на эту <> , тему, несопоставимо с результатами исследований в иных областях искусствознания. Проблемы претворения мотивов кристалличности у ^ ^Скрябина -у в частности, в его гармонической вертикали - касаются ^ )/ Т. Левая ^ТоЗ)^ а также А. Бандура (24) и Л. Михайленко (125). Мотав V зеркала проскальзывает в работах Ж. Пановой (132) - применительно к театрально-музыкальному синтезу в творчестве И. Саца, Л. Михайленко - в ходе размышлений о символике модерна (125), С. Гончаренко - в трудах о зеркальной симметрии (63 - 65). При том, что разговор об интересующих нас топосах возникает с поразительной регулярностью, он формируется, как правило, из «попутных» замечаний, частных наблюдений и отдельных выразительных штрихов. Дело практически не доходит до специальных исследований с широкими обобщениями, и столь значительные метафоры никогда не выдвигаются в качестве инструментов анализа. Вместе с тем, для этого есть все основания, так как и в музыке образы кристалла и зеркала имели столь же богатую судьбу. Без включения музыки в контекст всей художественной практики «серебряного века» общая картина выглядит неполной, фрагментарной и требует самой тщательной и всесторонней проработки.
Целью нашей работы является попытка доказать исключительную роль мотивов кристалличности и зеркальности в русской музыкальной культуре начала XX века и воспользоваться ими как своего рода призмой для целостного взгляда на эпоху.
Кристалличность и зеркальность нашли преломление во всём «многоукладном» (Т .Левая, 103) искусстве России начала столетия, прослаивая собой все ведущие направления той поры. Ни одно из них не прошло мимо этой пары образов, высветив при этом в них наиболее близкие своей эстетической платформе содержательные стороны. Поскольку, как известно, эпоха носила весомую печать «литературности» на это указывают многие исследователи), мы будем вынуждены в работе широко обращаться к примерам из литературы (преимущественно -поэзии), чтобы полнее раскрыть затем весь музыкально-семантический спектр образов кристалла и зеркала.
Так, модерну и старшему поколению символистов эти образы обязаны первоначальным пробуждением интереса к себе. Под знаменем всеобщего «бессознательного тяготения человеческой психики к антиповседневности и красоте (какие бы формы они ни принимали)» (Т. Левая, 101, с.23) впервые осознаны большие выразительные возможности кристалла и зеркала как поэтических символов. Происходило это не без влияния русской предсимволистской лирики и веяний западной культуры (прежде всего, французской, а также -кэрролловской «Алисы в Зазеркалье», которая появилась в 1896 году и отпечатлелась в художественном сознании всего XX века). Наметились основные пути, по которым в дальнейшем должна была «расширяться художественная впечатлительность» (Мережковский), заключённая в этих двух образах.
Младосимволизм» сублимировал «красивые предметы», призвал их служить теургическим чаяниям, почти совсем освободив кристалл и зеркало от уз предметности. Внутри течения трактовка образов колеблется от расширительной «синтагматической», вмещающей почти все аспекты бытия (как у Вяч. Иванова), до сверхинтенсивной «семантической»6, отчасти уклоняющейся в экспрессионизм (как у А. Белого).
Реставрационные тенденции эпохи, оформленные в неоклассицизм, акмеизм и родственные явления, сказались в коннотации зеркала как отражения давно ушедших времён, хранителя культурной памяти, и кристалла как воплощённого совершенства формы.
Импрессионистскими токами, пронизывающими эпоху, порождён вкус к живописанию изысканных внешних примет кристалла и зеркала
6 Термины заимствованы из статьи 3. Минца и Г. Обатннна. (см 120) как того прекрасного, которое «должно несколько удивлять, казаться неожиданным и редким» (Мережковский).
Охранительное движение», ни на миг не угасавшее в искусстве начала века, примыкало в этом отношении то к импрессионистическому, то к модерно-символистскому истолкованию, а порой ассимилировало влияния с обеих сторон.
Наконец, в кубофутуристической картине мира кристалл и зеркало - носители исчисленности, геометризма пространства, его разумной организации и симметрии.
Естественно, что в художественной практике трудно дифференцировать все семантические аспекты этих представлений, однозначно «привязав» каждый к определённому художественному направлению. Чаще всего смысловое целое выступает в виде сплава - так же, как во взаимодействии находятся и сами направления.
В предлагаемой работе эти смысловые аспекты рассматриваются именно как постоянно пересекающиеся, движущиеся, в сочетаниях, соприкосновениях и отблесках. Такой панорамный взгляд и составляет одну из основных задач работы.
Универсализм этих образов проявляется и в том, что в них обоих заключён как пластический, так и звуковой выразительный потенциал. Не случайно и кристалл, и зеркало приобрели актуальное звучание во всех видах искусства. Кроме того, сочетанием эзотерического «багажа», накопленного с древности, с определённой экзотерикой общеизвестности обусловлено проникновение указанных топосов в равной мере и в элитарное искусство, и в китч.
Исходяиз цели настоящей работы, её структура сложилась в две главы с Введением и Заключением. Первая глава посвящена образно-символическому преломлению мотивов кристалла и зеркала в искусстве начала века и, соответственно, делится на два раздела - о кристалличности и о зеркальности. Пара образов рассматривается в самом широком культурном контексте времени.
12
Вторая глава призвана дать целостную картину конструктивного претворения кристалличности и зеркальности в музыке эпохи. В главе анализируются симметрийные явления на материале произведений Римского-Корсакова, Черепнина, Скрябина, Стравинского, Ребикова, Мясковского, Ан. Александрова, Прокофьева, Станчинского и других.
В Заключении работы намечается историческая перспектива симметрийных явлений в последующие десятилетия XX века.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Мотивы кристалла и зеркала в русской музыкальной культуре начала ХХ века"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ «КРИСТАЛЛ» И «ЗЕРКАЛО»: НА ПЕРЕЛОМЕ.
В 1 главе нам уже приходилось бросать беглые взгляды за пределы «серебряного века» и отмечать некоторые перспективы в развитии исследуемой топики. Настала пора, подводя итоги всего исследования, рассмотреть их более детально. Нам представляется удобным сделать это, сопоставив культуру начала века и период 1910-х - 20-х гг., - эпохи, находящиеся в непосредственной хронологической близости и, вместе с тем, отмеченные крупной «сменой вех» в культурной ситуации. Символистское мироощущение, вознесшее кристалл и зеркало на небывалую высоту, переживает энтропию. Ранний русский авангард - и в первую очередь, футуризм - отмежёвывается от опыта символистов, но в то же время, как известно, во многом наследует его. Создаётся картина более сложная, чем только лишь коренная ломка ориентиров. И, тем не менее - с большой долей условности - мы всё же будем говорить о наступающем новом отношении к интересующей нас образной паре в искусстве нового художественного поколения.
Выдвинутая Брюсовым тема города-кристалла с его мертвящим порядком преобразуется в новом контексте в картины своеобразного футуристического рая. Такими «архитектурными кристаллами» представляются В. Хлебникову города Будущего с их стеклянными дворцами, прозрачными рядами покоев, с конструкциями, подобными сетям, сотам, ячейкам, «прямоугольникам, чурбанам из стекла», где пересекаются плоскости, образуя изломы и углы. Архитектор-супрематист Иван Леонидов строит свой утопический Город Солнца из зданий-кристаллов, празднично светоносных, гранёных, лёгких и хрупких.
Художники кубофутуристического движения стали преемниками Врубеля в плане кристаллической дробности, расколотости живописного пространства на агоналъные светозарные структуры. Назовём по-разному воплотивших живописную кристалличность М. Ларионова и Н. Гончарову, А. Лентулова, П. Филонова, Н. Альтмана, Л. Попову, М. Матюшина, И. Юнона, К. Малевича и других мастеров, преображавших реалии мира в кристаллические массы или видевшие мир словно сквозь кристалл. Однако насколько отличается «кристаллография» Врубеля - загадочная и неоднозначная, завораживающая своей глубиной, - от таковой же, скажем, у Филонова, с его «сделанным» пространством, подчёркнуто геометрическим, подобным сложнейшему чертежу! У Врубеля таким образом совершается мистический прорыв в Иное Бытие с его рафинированно прекрасными формами, и отсюда -пленительная неясность контуров, неуловимое переплетение реалий со сквозящими за ними духовными «монадами». Филонов же словно творит идеально организованное пространство собственным волевым усилием из «подручных средств» - наиболее совершенных форм реального мира.
Как видим, смысловой центр в трактовке метафоры кристалличности перемещается в сторону космизма, утверждения разумного порядка и новой красоты кристалла как апологии этого порядка.
Ювелирная, эстетская трактовка мотива кристалла глубоко чужда образному миру футуризма.45 «Никаких хрусталей и ананасов.а если стекло, то толчёное и со щебёнкой», - провозглашает Д. Бур люк. «Кристаллическая» метафорика избегается или маскируется, а порой сильно остраняется и переосмысливается.
Игра полуденных лучей и рёбер в стихотворении Пастернака «Ландыши» с урбанистической грубоватостью уподобляется.нет, не кристаллу, а «стекольному ящику», а «алмаз» здесь - всего лишь инструмент для резки стекла.
О. Розанова в своей эксцентричной колыбельной «Сон ли то.», начав панораму фантастических видений традиционными образами
45 Исключение - эгофутуризм, поэтика которого в значительной мере опирается на символистскую, поэтому мы не выделяем его специально. хрустального фонаря» и «рубинового света», приходит к уже совершенно новаторскому «хрустально-малому атому», прощающему и ранящему, как жало.
Слово, которое правоверный символист произносил не иначе как с благоговением - «хрусталь» - А. Введенский в поэме «Полотёрам или Онанистам» безжалостно рассекает на две фонологемы - «хруст» и «аааль». Так, то включая «святая святых» символизма в сугубо бытовой контекст, то сциентифицируя метафору или до неузнаваемости её трансформируя, художники авангардной волны снижают образ кристалла. Тем самым он лишается уже губительной «сверхсублимации», освобождается от ореола тайны и сакральности, обретая плотность, вещность и возвращая себе актуальность звучания.
Определённому «заземлению» подвергается и мотив зеркала, разделяя в этом судьбу своего «собрата». В I главе мы называли в связи с этой тенденцией, в частности, зеркальную мистерию Хлебникова «Скуфья скифа», где наряду с тайнодейственной символикой зеркало несёт и идеи числа, математики. Пройдя сквозь него, человек попадает в мир корней, дробей, цифр, в государство времени. В поэме «Ночной обыск» мотив зеркала-предвестника беды - Хлебников помещает в сложные условия, соединяя и грубоватую пословичную аллегорию («Криво стекло, косая рожа»), и травестийное сражение с зеркальным двойником, и мистику Божьего присутствия, которая словно прорывается сквозь кровавый бытовизм ситуации. Так возникает диалогическое общение художественных поколений.
Идеи зеркального отражения, обращённости, перевёрнутости пространства и времени в творчестве мастеров раннеавангардных школ лишены декоративного изящества модерна. Они поражают вселенским масштабом звучания, участвуя в космологических построениях Хлебникова («Мирсконца»), теории «Зорвед» Матюшина («зеркальное видение»), Малевича («Супрематическое зеркало»), в эсхатологических концепциях Введенского («Гость на коне», «Кругом возможно Бог»).
Интереснейшую звукопнсную интерпретацию зеркала предлагает Хлебников в коде «Скуфьи скифа» с её каскадами «з». Кстати, декларируя основы заумного языка, поэт закрепляет за фонемой «з» графический знак «вроде упавшего К, зеркало и луч», утверждая, что ощущение «з» как «отражения движущейся точки от черты зеркала под углом, равным углу падения» - универсально для всех языков мира.
Переосмысленной в процессе обозначенного мировоззренческого сдвига оказывается и категория симметрии, куда сходятся «лучи» от обоих образов-символов. Если выходы в мир симметрии у символистов всегда сопряжены с проникновением в область чудесного, просверком совершенного Бытия, видимым не всеми и не сразу, но читаемым в глубине явления, сквозь дымку тайны, - у мастеров раннеавангардной волны симметрия отнюдь не вуалируется, напротив, она подаётся демонстративно, подчёркнуто. Громогласно манифестированное футуристами строительство «Новой Грядущей Красоты» вызвало новое видение художественной формы. Коренным образом меняется семантическая функция симметрии. Отныне она мыслится своеобразным архитектурным проектом, по образу которого моделируется новая действительность. Красота симметрии и красота художественного материала предстают теперь уже не в том органическом единстве, что мы наблюдали, например, в символистской поэзии или в «Китеже» Римского-Корсакова, но в виде чётко двупланового симбиоза. Симметрия наделяется собственной семантической окраской и вступает в контраст с семантикой, идущей от языка, сюжета и т.д. Эффект разрыва происходит от сочетания, казалось бы, несочетаемого: нарочито сниженной, дисгармоничной, шероховатой или «галантерейной» лексики - и тщательно продуманной, сложной, гармоничной структуры стиха, его симметрии. Таковы палиндромы Хлебникова и Туфанова, обратные рифмы раннего Маяковского и другие симметрийные приёмы, не требующие для своего обнаружения специальных эвристических операций. Это симметрия, вдохновлённая духом рационализма, стимулируемая культом науки и ремесла и проникнутая трезвостью и холодком лабораторного исследованиями, напри мер, с/ему 9) ,
Аналогичным образом решается проблема истолкования симметрии и в музыкальном искусстве. Явления микросимметрии даются здесь как бы в рафинированном виде, часто - интонационно нейтральные. Благодаря этому на первый план выдвигается конструктивное начало. Так происходит, например, в «Окарине» и «Протяжной» А. Лурье из вокального цикла «Чётки» (пример 92). В обоих случаях чёткость, ясность и точность геометрически выверенных линий превыше всего, и в обоих случаях образуется отточенный, заострённый рисунок с подчёркнутой симметрией.
Любопытно, что в фортепианной пьесе Прокофьева «Пейзаж», созданной уже в 1934г., но несущей отблеск эстетики урбанизма 1920-х гг., есть подобная же звуковая конструкция, звучащая совсем «по-хиндемитовски» (пример 93, - имеется в виду стиль зрелого Хиндемита, автора симметричных Интерлюдий в полифоническом цикле).
Столь же жёстко структурирован и оригинальный палиндроматический пассаж в виртуозной пьесе Вл. Дешевова «Рельсы» - резко политональная, совсем в «петрушечном» духе пробежка правой руки по белым, а левой - по чёрным клавишам снизу вверх и абсолютно тем же путём назад (пример 94).
Поиски раннеавангардных музыкантов в области гармонической симметрии вызывают к жизни аккорды, подобные конструктивистским построениям в своей жёсткой определённости и остроте. Таковы, например, симметричные созвучия А. Лурье, составленные из кварт и секунд, не дающие слуху возможности углубиться в аналогии с традиционной гармонией и отвлечься от созерцания чистой симметрии (пример 95).
Диалог двух поколений о симметрии слышен и в области организации музыкального целого. Блестящим образцом многоуровнего претворения принципа симметрии стала в «новом искусстве» первая опера Шостаковича. Представляется симптомом времени, что симметрийные искания «серебряного века» сконцентрировались в высоком жанре («Китеж» традиционно рассматривают как оперу-мистерию, «литургическую оперу», «оперу-обряд»), тогда как авангардный эксперимент с симметрией нашёл выход в комедии. Причину следует искать в различном подходе к симметрии - как к атрибуту священнодействия и как к орудию игры. Вновь сказывается общая тенденция снижения образов симметрии!
Обильные поводы к симметрийным изыскам в «Носе» даёт сам гоголевский сюжет с его карнавальной атмосферой, с системой перевёртышей и отражений. Как известно, и повесть первоначально называлась «Сон». Так же, как и в «Китеже», здесь сюжет может быть эмблематизирован в виде зеркальной ситуации. Это и собственно разглядывание майором Ковалёвым в зеркале своей обезносевшей физиономии, и столкновение главного героя с Носом (в некотором смысле, своим двойником), и «встречное» чтение писем Ковалёва и Подточиной, и два «противонаправленных» гротескных нагромождения (имеются в виду - в 7 картине, ведущее к нахождению Носа, и в Интермедии, вновь уводящее в неопределённость).
Зеркальны по отношению друг к другу и два «утра»: цирюльника, нашедшего Нос и пытающегося от него избавиться - и Ковалёва, потерявшего нос и гоняющегося за ним. Броской рамкой событиям оперы » служит почти буквально повторённая сцена бритья, которая возвращает сюжет к исходному положению.
Элемент своеобразной симметрии ощутим в «кривозеркальном» выворачивании наизнанку стереотипов высокого стиля. Таковы антилирика романса Подточиной, анти-величие Квартального, анти-пафос клятвы Ковалёва и др.
О симметрии в структуре «Носа» написано немало.46 Отметим, вслед за авторами работ, арочное соответствие - помимо уже названных
46 Среди авторов - Л. Бретаницкая, Л Бубенникова, Г. Григорьева, Т. Чернышева и др. сцен бритья - между Антрактом ударных и Интермедией как двумя апогеями кошмара; между двумя темами собора - в 4 и 6 картинах. Центром схождения линий хаоса и порядка видится знаменитый Октет дворников, где друг другу противостоят высшая стройность и симметрия музыки (четыре голоса имитируют тему в прямом изложении, четыре - в обратном; к тому же, в музыке Октета используются некоторые законы додекафонного письма, как указывает Т. Чернышева, см. 189) - и полнейшая неразбериха словесного текста.
В «Носе» можно усмотреть и повышенное внимание к симметричному числу 3. По наблюдению Л. Бретаницкой, большинству номеров оперы присуща триадностъ строения, порой - с чертами репризности(41). Добавим к этому тройственность в сюжетно-ситуационном плане: три встречи с Носом в человеческом облике (4,7 картины, Интермедия), три пассажа о нюхании табака (первый -глумливо-сочувственное приглашение Чиновника понюхать табачку; второй и третий - песня полицейских и беседа двух из них в 7 картине.); три явления Квартального; три продолжительных оьйпсЛо («вон!» Прасковьи Осиповны в 1 картине, оьИпаЮ в 7 картине и в Интермедии).
Что касается симметрии на уровне звуковой организации, то в общем стремительном потоке тем, эпизодов, мотивов, построений, событий она бы просто затерялась, будь она применена с символистской «ювелирной» тонкостью. Однако Шостакович использует лишь наиболее выпуклые, бросающиеся в глаза симметрийные приёмы.
Таковы, например, разбегающиеся гаммы, которые иллюстрируют пропажу Носа. Они подобны известному жесту разведённых рук и отмечены глубокомысленным «гм!» Газетного Экспедитора (пример 96). Мотив фанфары, разлетающийся в разные стороны, громогласно «скрепляет» клятву Ковалёва (пример 97). Разъезжается, как занавес, противодвижение голосов, разнесённых по крайним регистрам в момент, когда извозчик, повинуясь Ковалёву, поворачивает в Газетную Экспедицию (цример 98). Простейшее - до глупого «туда-сюда»
133 симметричное «метание» кратких терцовых мотивов Майора, упустившего Нос, возникает в конце 4 картины (пример 99), вновь замыкая злоключения страдальца в кошмарный »руг. В 7-й картине инфернальные толки полицейских сопровождает длительное симметричное сползание-расползание квартовых лент, опять же раскиданных по крайним регистрам (пример 100). Характерный приём символистской симметрийной тайнописи здесь пародируется, будучи помещён в бытовые обстоятельства.
Так, и микросимметрия у Шостаковича выглядит сильным средством, ярко выделяясь в общем калейдоскопе, подобно крупному театральному жесту и привлекая к себе особое внимание.
Таким образом, со сменой поколений трансформировался и облик симметрии. Зримая простота и броскость симметрийных приёмов пришла взамен тонкости и сложности, крупный мазок - вместо детальной проработки, выпуклость элементов симметрии как дародии на порядок посреди хаоса - на смену слитности и гармонии целого. Суггестию и одухотворённость заместило игровое начало. В этом суть диалога о симметрии двух сменивших друг друга умонастроений первой трети XX века.
134
Итак, перед нашим взором прошла панорама музыкальной культуры России начала столетия, представшая здесь под знаком метафор кристалла и зеркала как двух генерализующих образно-символических универсалий эпохи. Мы наблюдали, как мотивы кристалличности и зеркальности, скрепив собой весь свод художественных направлений того времени и затронув все виды искусства, определили ведущие содержательные общности «серебряного века». Особенно заметной была их роль в развитии симметрийных представлений.
Выбранный аспект исследования, конечно, не претендует на освещение всех особенностей эпохи. Мы лишь попытались выделить здесь некоторые существенные смысловые константы, раскрывающие дополнительные перспективы в понимании феномена «серебряного века».
Список научной литературыСафонова, Ольга Рафаиловна, диссертация по теме "Музыкальное искусство"
1. Абрамян А. Взаимодействие симметрии и асимметрии в музыке. Автореферат канд. дисс. - Ереван, 1988.
2. Аверинцев С. С. Вступительная статья к сборнику стихов Вяч. Иванова. Л., 1978.
3. Аверинцев С. С. Византия и Русь // Новый мир, 1988 № 7,8,9.
4. Аверинцев С. С. Системность символов в поэзии Вяч. Иванова //Контекст- 89. М., 1988.
5. Аверинцев С. С. У истоков поэтической образности византийского искусства // Древнерусское искусство М., 1977.
6. Адаменко В. Стравинский и Хлебников: мифологизм как свойство художественного мышления в начале XX века // Ник. Рославец и его время.- Брянск, 1990.
7. Александрова Л. Порядок и симметрия в музыкальном искусстве: логико-исторический аспект. Автореферат докт. дисс. Новосибирск, 1995.
8. Алленов М. Портретная концепция Сомова // Советское искусствознание, 1981, № 1.
9. Алпатов М. Югендстиль в России // Этюды по всеобщей истории искусств. М., 1972.
10. Андреев Д. Роза Мира. М., 1992.
11. Аникин А. Е. Из наблюдений над поэтикой Ин. Анненского //
12. Серебряный век в России. М., 1993.
13. Арановский М. Г. Мелодика Прокофьева.- Л., 1969.
14. Асафьев Б. Вокальные миниатюры А. Гречанинова // Музыкальный современник,1916,№3.
15. Асафьев Б. «Жар-птица» и «Петрушка» Стравинского.- Л., 1963.
16. Асафьев Б. О балете. Л., 1974.
17. Асафьев Б. О музыке XX века.-М., 1982.
18. Асафьев Б. Процесс оформления звучащего вещества // De música. -Пг.,1923.
19. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1982.
20. Бальмонт К. Завет воли: А. Теннисон // Избранное.- М., 1991.
21. Бальмонт К. Светозвук в природе и световая симфония Скрябина. -М., 1919.
22. Бандура А. Мистический опыт Скрябина // Русская музыкальная культура XIX нач. XX века. - М., 1994.
23. Бандура А. Скрябин и новая научная парадигма XX века // Музыкальная академия, 1993, № 4.
24. Бандура А. Тайна Скрябина // Учёные записки гос. мемориального музея им. Скрябина, вып. 1. М., 1993.
25. Бандура А. Творческая вселенная Скрябина. Канд. диссертация.- М., 1992.
26. Баранова И. О функциях симметрии в музыке // Методология теоретического музыкознания.- М., 1987.
27. Барас К. Эзотерические аспекты позднего творчества Скрябина. Дипломная работа. Н.Н., 1995,
28. Барсова И. А. Опыт этимологического анализа // Советская музыка,1985, №9.
29. Барсова И. А. Специфика языка музыки в создании картины мира // Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения.- Л.,1986.
30. Бейкер Дж. Музыка Скрябина: формальная структура как призма мистической философии // Учёные записки.музея им. Скрябина,вып. 1,-М., 1993.
31. Белоусова В. Симметрия в музыке (теоретический и исторический аспекты). Автореф. .канд. дисс. М., 1995.
32. Белый А. Между двух революций.- М., 1990.
33. Белый А. Окно в вечность // Весы, 1904, № 12.
34. Белый А. Поэзия слова. Пушкин, Тютчев, Баратынский, Вяч. Иванов, Блок.- Пг., 1922.
35. Бенуа А. Возобновление «Бориса» // Речь, 1911,№ 8,9 января.
36. Биркан Р. Творчество Н. Рославца и пути развития сов. искусства 1920-х гг. // Н. Рославец и его время. Брянск, 1990.
37. Бирюков С. Зевгма. Русская поэзия.- М., 1995.
38. Бобровский В. П. О драматургии скрябинских сочинений. Роль симметрии в процессе формообразования Шостаковича // Статьи и исследования,- М., 1990.
39. Богатырев С. С. Обратимый контрапункт.- М., 1960.
40. Богомолов Н. Петербургские гафизиты // Серебряный век в России. -М., 1993.
41. Борисова Г., Стернин Г. Русский модерн.- М., 1990.
42. Бретаницкая Л. О музыкальной драматургии оперы «Нос» // Советская музыка, 1974, № 9.
43. Бубенникова Л. Мейерхольд и Шостакович // Советская музыка, 1973,№3.43. . Бычков В. В. Зарождение средневековой эстетики числа и ритма //Философия искусства в прошлом и настоящем. -М., 1981.
44. Бычков В. В. Эстетика Византии-М., 1977.
45. Вагнер Г., Владышевская Т. Искусство древней Руси. М., 1993.
46. В алькова В. Б. Музыкальный тематизм мышление - культура. -Н.Н., 1992.
47. ВарунцВ. Музыкальный неоклассицизм.- М., 1990.
48. Вдовин Г. «Дым без огня» или «Воздух суеты» // Вопросы искусствознания, 1997, № 1.
49. Вейль Г. Симметрия. М., 1968.
50. Векслер Ю. Апокалипсис духа. Библейская символика в опере А. Берга «Воццек» // Музыкальная академия, 1997, № 3.
51. Векслер Ю. За гранью музыкального И Музыкальная академия, 1997,№2.
52. Векслер Ю. Символика в музыке А. Берга. Канд. дисс. М., 1998.
53. Вермайер А. Континуум, звук и двенадцатизвучне // Музыкальная академия, 1992, № 2.
54. Вершинина И. Бальмонт и Стравинский // Музыкальная академия,1992, №4.
55. Вжозек В. Историография как игра метафор: судьбы «новой исторической науки» // Одиссей. Человек в истории. М., 1991.
56. Вигнер Е. Этюды о симметрии. М., 1971.
57. Волошин М. Х.Англада//Весы, 1904, № 10.
58. Волошин М. Мария Якунчикова //Весы, 1905, № 1.
59. Вульф Г. В. Симметрия и её проявление в природе. М., 1908.
60. Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. М., 1984.
61. Гегузин Я. Е. Живой кристалл. М., 1987.
62. Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реальности. Л., 1987.
63. Гончаренко С. С. Зеркальная симметрия в музыке. Новосибирск,1993.
64. Гончаренко С. С. Музыкальные формы XX века. Новосибирск, 1989.
65. Гончаренко С. С. Вопросы музыкального формообразования в творчестве композиторов XX века. Новосибирск, 1997.
66. Грабарь И. Д.Сегантини //Мир искусства, 1900, № 4.
67. Гришакова М. Ф. Семантика отражения в поэзии Г. Р. Державина // Труды по знаковым системам, т. 23. Тарту, 1989.
68. Григорьева Г. Первая опера Шостаковича «Нос» // Музыка и современность, в. 3. - М., 1965.
69. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. М., 1981.
70. Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
71. Дейкун Л. К проблеме стиля модерн в музыке. Страницы творчества Н. Черепнина // Русская музыкальная культура XIX нач. XX в. - М., 1994.
72. Демиденко Ю. Б. Костюм и стиль жизни. Образ русского художника начала XX века // Панорама искусств, вып. 13. М., 1990.
73. Долгополое JI. На рубеже веков.-Л., 1985.
74. Друскин М. С. И. Стравинский. -JI.-M., 1974.
75. Егорова Б. Ф. Мотив острова в творчестве Рахманинова: к вопросу «Рахманинов и культура модерна» // Русская культура и мир. H.H., 1995.
76. Екимовский В. О. Мессиан. М., 1987.
77. Задерацкий В. Полифоническое мышление Стравинского. М., 1980.
78. Зенкин К. О неоклассических тенденциях в музыке XX века в связи с феноменом Прокофьева // Искусство XX века: уходящая эпоха? В. 1. -H.H., 1997.
79. Зиновьева-Аннибал JI. Д. Андре Жид. Литературный портрет. // Весы, 1904, № 10.
80. Золян С. Г. «Свет мой, зеркальце, скажи.»(к семиотике волшебного зеркала) // Труды по знаковым системам, в. 22. Тарту, 1988.
81. Зоркая Н. М. На рубеже столетий. У истока массового искусства в России. М., 1976.
82. Иванов Вяч. Заветы символизма // Аполлон, 1910, № 8.
83. Иванов Вяч. Поэт и чернь//Весы, 1904, №3.
84. Иванов Вяч. Скрябин и дух революции // Родное и вселенское. М., 1994.
85. История русской музыки, т. 10А. М., 1997.
86. Каракулов Б. И. Симметрия музыкальной системы (о мелодии). Автореферат канд. дисс. Киев, 1991.
87. Каратыгин В. Г. Скрябин. Пг., 1916.
88. Каратыгин В. Г. Элемент формы у Скрябина // Музыкальный современник, 1916, № 4-5.
89. Кириллина JI. Русалки и призраки в музыкальном театре XIX века.1. МА, 1995, № 2.
90. Кириллов В. В. Архитектура русского модерна. М., 1979.
91. Кирсанове. Поэзия и палиндромон//Наука и жизнь, 1966, №7.
92. Климовицкии А. Чайковский и «серебряный век» // Выбор и сочетание: открытая форма. Сб. ст. к 75-летию Ю. Г. Кона. СПб.-Петрозаводск, 1995.
93. Кнабе Г. С. Внутренние формы культуры // Декоративное искусство СССР, 1982, № 1.
94. Ковтун Е. Ф. Очевидец незримого (о П. Филонове) // Искусство, 1988,№8.
95. Коломийцов В. П. Статьи и письма. Л., 1971.
96. Кон Ю. Г. Вопросы анализа современной музыки. Л., 1982.
97. Кон Ю. Г. К вопросу о вариантности ладов // Современные проблемы музыкознания. М., 1976.
98. Кон Ю. Г. Об искусственных ладах // Проблемы лада. М., 1972.
99. Кон Ю. Г. Скрябин и Берг: совпадение или влияние? // Нижегородский скрябинский альманах. H.H., 1995.
100. Кондрашова О. «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова как опера-мистерия. Дипломная работа, H.H., 1995.
101. Контекст 91. Из наследия П. Флоренского. - М., 1990.
102. Конюс Г. Э. Статьи и материалы. Воспоминания. М., 1963.
103. Косякии Б. Г. Скрябин и русский авангард // Ник. Рославец и его время. Брянск, 1990.
104. Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. Л., 1971.
105. Левая Т. Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
106. Левая Т. Н. Скрябин в ретроспективе отечественной музыки XX века // Учёные записки гос. Мемориального музея им. Скрябина, в. 1. -М., 1993.
107. Левая Т. Н. Скрябин и новая русская живопись: от модерна к абстракционизму // Нижегородский скрябинский альманах. H.H., 1995.
108. Левин Ю. И. Зеркало как потенциальный семиотический объект. // Труды по знаковым системам, В. 22. Тарту, 1988.
109. Лихачёв Д. С. Из комментариев к стихотворению Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека» // Избранные труды, т. 3. М., 1987.
110. Лобанова М. Западноевропейское барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
111. Лобанова М. Творчество и судьба // СМ, 1989, № 5.
112. Ломанов М. Элементы симметрии в музыке // Музыкальное искусство и наука, в. 1. М., 1970.
113. Лотман Ю. К семиотике зеркала и зеркальности // Труды по знаковым системам, в. 22. Тарту, 1988.
114. Люксембург А. М., Рахимкулова Г. Ф. Игровое начало в прозе Вл. Набокова // Поиск смысла. H.H., 1993.
115. Мазель Л. О природе и средствах музыки. М., 1991.
116. Мандельштам О. Разговор о Данте. Скрябин и христианство // Собрание сочинений в 2-х тт. Тула, 1994.
117. Медушевский В. В. О дольнем и горнем у Моцарта // Моцарт и Прокофьев. Ростов, 1992.
118. Мелетинский Б. Зеркало // Мифологическая энциклопедия. М., 1989.
119. Мережковский Д. С. О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы // Поэтические течения в русской литературе XIX начала XX в. - М., 1988.
120. Минц 3. Г., Обатнин Г. В. Символика зеркала в ранней поэзии Вяч. Иванова // Труды. в.22. Тарту, 1988.
121. Мифологический словарь. М., 1991
122. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х тт. М., 1991.
123. Михайлов А. В. Об обозначениях и наименованиях в нотных записях Скрябина // Нижегородский скрябинский альманах. H.H., 1995.
124. Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997.
125. Михайленко JI. А. Стиль модерн и творчество русских композиторов начала XX века. Автореферат канд. дисс. М., 1998.126. Музыка,1915,№ 158(б/а).
126. Мыльникова И. О Мистерии Скрябина// Музыкальная классика и современность: вопросы теории и эстетики. JL, 1983.
127. Назайкинский Е. Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982.
128. Овчинников Н. Принцип симметрии: историко-методологические проблемы. М., 1978.130. Орлов Г. Древо музыки.
129. ПаисовЮ. Политональность в современной музыке. М., 1977.
130. Панова Ж. Илья Сац музыкальный атташе Московского Художественного театра // Русская музыкальная культура XIX - начала XX в.-М., 1994.
131. Петровская И. Театр и зритель российских столиц (1895 1917). -Л., 1990.
132. Пискунов В. Второе пространство романа // Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988.
133. Попов Б. Памяти Шопена //Аполлон, 1910,№ 5.
134. Порфирьева А. Стилистические особенности претворения слова в ранних романсах Мясковского // Вопросы музыкального стиля. Л., 1978.
135. Поспелова Н. Скрябин в художественном сознании XX в // Искусство XX века: уходящая эпоха? В. 1. H.H., 1997.
136. Принцип симметрии. М., 1978.139. Проблемы лада. М., 1972.
137. Рабинович В. JI. Алхимия как феномен средневековой культуры. -М., 1979.
138. Рахманова М. П. Творчество Н. А. Римского-Корсакова: опыт современного осмысления. Научный доклад. .доктора искусствоведения. -М., 1997.
139. Ремизов А. Огонь вещей. М., 1989.
140. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. М., 1974.
141. Ритмюллер А. Мыслить о симметрии // Laudamus. М., 1992.
142. РозановВ. В. Опавшие листья//Сумерки Просвещения.-М., 1991.
143. Розенберг Р. Русская опера малой формы конца XIX начала XX века // Русская музыка на рубеже XX века. - М. - Л., 1965.
144. Русская литература XX века. СПб., 1993.
145. Русская художественная культура конца XIX начала XX века. - М., 1969.
146. Русские Пропилеи, т. 6. М., 1919.
147. Ручьевская £. О соотношении слова и мелодии в русской камерно-вокальной музыке начала XX века // Русская музыка на рубеже XX века. -М.-Л., 1965.
148. Сабанеев Л. Л. А. Н. Скрябин.- Пг., 1923.
149. Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. М., 1925.
150. Савенко С. И. Музыка Стравинского в стилистическом пейзаже эпохи // Искусство XX века: уходящая эпоха? В. 1. H.H., 1997.
151. Савенко С. И. Стиль Стравинского как единство //Автореферат канд.дисс. Л., 1963.
152. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX начала XX века.-М., 1993.
153. Сарабьянов Д. В. К своеобразию живописи русского авангарда начала XX в. // Советское искусствознание, в. 25. М., 1989.
154. Сарабьянов Д. В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.
155. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн.-М.,1990.
156. Сафонова О. Малый «прометеев» аккорд в гармонической вертикали позднего Скрябина. Дипломная работа. Горький, 1990.
157. Семиотика и искусствометрия. М., 1968.
158. Серебрякова Л. Некоторые черты стиля модерн в «Свадебке» Стравинского // Музыка. Культура. Человек. Свердловск, 1988.
159. Серебрякова Л. Откровение «Откровения» // МА, 1994 № 4.
160. Сидоров А. Русская графика начала XX в. М., 1963.
161. Сказания о чудесах, т. 1. М., 1990.
162. Соколов О. В. Морфологическая система музыки и её художественные жанры. H.H., 1994.
163. Спроге Л. Эзотеризм символизма: символика драгоценного камня ( Вяч.Иванов «Царство Прозрачности»,1904 г // Русское искусство и мир.-Н.Н.,1994.
164. Стернин Г. Ю. Русская живопись конца 1900-х начала 1910-х гг. -М., 1971.
165. Стернин Г. Ю. Символизм в русском изобразительном искусстве: способы его идентификации и толкования // Искусство XX века: уходящая эпоха? В. 1. H.H., 1997.
166. Столович Л. Н. Зеркало как семиотическая, гносеологическая и аксиологическая модель // Труды по знаковым системам, т. 22. Тарту, 1988.
167. Тарасенко О. К истории искусства XX века // Советское искусствознание, в. 27. М., 1991.
168. Тименчик Р. Д. К символике телефона в русской поэзии // Труды по знаковым системам, т. 22. Тарту, 1988.
169. Топоров В. Минералы // Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1991.
170. Труды по знаковым системам, т. . 22.: Зеркало. Семиотика зеркальности. Тарту, 1988.
171. Тюнеев Б. Рецензия на концерт из произведений Л.Саминского //Русская музыкальная газета, 1915,№ 8.
172. Узоры симметрии. М., 1980.
173. Урманцев Ю. Симметрия природы и природа симметрии. М., 1974.
174. Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.
175. Холопова В. Н. Мелодика. М., 1984.
176. Холопова В. H. Симметрия интервалов в музыке Прокофьева // Советская музыка, 1972, № 4.
177. Холоповы В. Н., Ю. Н. Антон Веберн. М., 1981.
178. Холопов Ю. Н. Кто изобрёл 12-тоновую технику? // Проблемы истории австро-немецкой музыки. Первая треть XX века. М., 1983.
179. Холопов Ю. Н. Симметричные лады в теоретических системах Яворского и Мессиана // Музыка и современность, в. 7. М., 1971.
180. Холопов Ю. Н. Скрябин и гармония XX века // Учёные записки гос. мемориального музея им. Скрябина, в. 1. -М., 1993.
181. Хромов В. Бегущий назад // Наука и жизнь, 1966, № 7.
182. Цахер И. О. Типология музыкального мышления С. И. Танеева. Автореферат канд. дисс. М., 1995.
183. Цивьян Т. В. Кассандра, Дидона, Федра: античные героини -зеркала А. Ахматовой // Литературное обозрение, 1989, № 5.
184. Цивьян Т. В. О некоторых способах отражения в языке оппозиции «внутренний внешний» // Структурно-типологические исследования в области славянских языков. - М., 1973.
185. Цуккерман В. А. Музыкально-теоретические очерки и этюды, в. 2. -М., 1975.
186. Чернышева Т. Одна из "неразборчивых страниц" «Носа» // Музыкальная Академия, 1997, № 4.
187. Чинаев В. Вселяя ощущение космоса // Музыкальная Академия, 1992, № 1.
188. Чубинская В. В. Speciîlum et saeculum Н Вопросы искусствознания, 1997, № 1.
189. Шафрановский И. Симметрия в природе. Л., 1989.
190. Ширинян Р.К. Музыкально-поэтическая интерпретация народного сказания // Русская музыкальная культура XIX нач. XX века. -М.,1994.
191. Шлёцер Б. Ф. Скрябин. Личность. Мистерия. Берлин, 1923.
192. Шлихтер М. С. Выставка «Современное, искусство» 1903г. в Петербурге // Панорама искусств, в. 9. М., 1986.
193. Шубников А., Копцик В. Симметрия в науке и искусстве. М., 1972.
194. Энгель Ю. «Сказание о невидимом граде Китеже» // Музыкальная Академия, 1994 № 2.
195. Энциклопедия оккультизма. М., 1992.
196. Эсхер М. Приближение к Бесконечности (машинопись).
197. Яворский Б. А. Избранные труды в 2х тг. М., 1964,1987.
198. Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
199. Ямпольский М. О воображаемом пространстве фильма // Труды по знаковым системам, в. 22. Тарту, 1988.
200. AbrainsM.N. TheMirrorandtheLamp.-NewYork, 1953.
201. Hanzen-Loeve A. Der Russische Symbolismus: Diabolische und Mythopoetic Paradigmatik. Wien, 1984.
202. Härtlaub G. Zauber der Spiegels. München, 1951.
203. Kelkel M. Ezoterik und formale Gestaltung in Skriabins Spatwerken //A.Skriabin.Hrsg.von Otto Kolleritsch. Graz, 1980.
204. Schwarte H. The mirror in Art // The Art Quarterly, 1952, № 2.1. А также:
205. Уезжал я средь мрака» «Прозрачность»размер строфы)1. Схема 1.1. К. Бальмонт:
206. Аромат солнца» (обрамляющая строфа)1. Кузнец» (размер строфы)1. В. Брюсов
207. Как царство белого снега» (строфа)Ь1. Схема 1 (продолжение).1. И. Анненский:
208. Кэк уок на цимбалах» «Романс без музыки»общая конструкция стихотворения1. Схема I (окончание).
209. Гумилёв «Открытие Америки»схема Песни структурной единицы поэмы)1. Схема 2.1. Вяч. Иванов.
210. Царство Прозрачности». Схема сквозныхрифм (дословные совпадения рифм выделены цветом).
211. Пророчество гусляра и нищей братии.
212. Песня о бражнике, возмущаемом бесом
213. Увещевание Февронией Гришки.
214. Ужас китежан при появлении татар
215. Рассказ Поярка о зверствах татар
216. Татарский полон. Признание в грехе и муки Гришки
217. Увещевание и утешение Февронией Гришки
218. Молитва земле и пророчество Февронии.1. Безумие Гришки:
219. Ужас татар при видении небесного Китежа Колыбельная, сон успение Февронии. Колокольный звон—символ окончания страстей и наступления вечного покоя. Явление Призрака Княжича Февронии причастие,
220. Райский бестиарий: «инороги среброшерстные», птицы, лев.
221. Небесный Китеж, высшая Гармония, прообраз небесного Иерусалима,1. Схема 4.
222. Н. Черепнин. «Нарцисс и Эхо». Симметрия сюжетных положений в балете.1. Пробуждение леса.
223. Флейта Сильвена напоминание о метаморфозе Сиринкс.
224. Танец Нарцисса перед нимфами, беотийцами, вакханками.
225. Роковые события: ревность и интрига нимф, месть Эхо. Танец Нарцисса перед отражением. Метаморфоза Нарцисса. Засыпание оцепенение леса.1. Схема 5.1. Экспозиция34 34681. Разработка36 ® 36861. Схема 6.1. Реприза62
226. А. Скрябин. 9 соната. Метротектоническая схемапо К. Барас, см. 23)1. А с h gis dis с ае с dis e disа gis а а aiseis f eis fis1. ABCDCDEFCDE1. Fi desс cesfes es te* as g as1. ABа