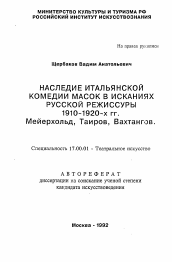автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.01
диссертация на тему: Наследие итальянской комедии масок в исканиях русской режиссуры 1910-1920-х гг. Мейерхольд, Таиров, Вахтангов
Полный текст автореферата диссертации по теме "Наследие итальянской комедии масок в исканиях русской режиссуры 1910-1920-х гг. Мейерхольд, Таиров, Вахтангов"
МИНИТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РФ РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ
На правах рукописи Щербаков Вадим Анатольевич
НАСЛЕДИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМЕДИИ МАСОК В ИСКАНИЯХ РУССКОЙ РЕЖИССУРЫ 1910-1920-х гг. Мейерхольд, Таиров, Вахтангов.
Специальность 17.00.01 - Театральное искусство
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
Москва -1992
Работа выполнена на секторе театра Российского Института Искусствознания.
Научный руководитель: доктор искусствоведения
К.Л.Рудницкий
доктор искусствоведения Т.И.Бачелис
Официальные оппоненты: доктор искусствоведения
А.В.Бартошевич
кандидат искусствоведения М. Ю. Хмельницкая
Ведушая организация: Высшее театральное училище
им.Б.В.Щукина
Защита состоится "гг_" о^гМ]^ 1992г. в " Щ " часов на заседании специализированного совета по присуждению ученой степени кандидата искусствоведения в Российском Институте • Искусствознания по адресу:
103009, Москва, Козицкий пер., 5. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке института.
Автореферат разослан " с^Г-Я^ 1992 г.
Ученый секретарь специализированного совета кандидат искусствоведения ^ ^^ ^___
Х.Д.Устабаева
Мотивы commedia dell'arte звучат в русской культуре уже более двух с половиной веков. Все это время ее чудесные маски почти непрерывно ведут свою мелодию, в разные исторические эпохи напоминающую отечественной публике о вечной, нетускнеющей прелести игры. Впрочем, даже сторонний, поверхностный наблюдатель без труда выделит в этом двухсот-пятидесятилетии особый период - период, когда звучания corn-media dell'arte достигают исключительной силы, когда итальянские маски помогают своим российским собеседникам создавать новое сценическое искусство, во многом определившее развитие мирового театра XX века. Речь идет о 1910-1920-х годах.
Актуальность исследования. Анализируя закономерности движения театральной мысли начала нынешнего века, автор рассматривает опыты использования мифологемы итальянской комедии масок в отечественной сценической практике как часть процесса возникновения и становления нового - режиссерского -театра. Commedia dell'arte одарила русское сценическое искусство пониманием того, что душою театра, его особенностью и могуществом является действие, непосредственно влияющее на зрителя, устанавливающее с публикой сиюминутную эмоциональную связь. Поэтика комедии масок - этого совершенейшего образца профессионального сценического искусства - позволила российским режиссерам постичь смысл и силу театральной условности, обрести свободу от всяческих догм и табу, навязанных сцене литературными направлениями, помогла утвердить новый способ актерского существования.
В наши дни - дни перехода к новому веку, когда отечественный театр вновь переживает критическую полосу своего развития, знание о той плодотворной роли, которую сыграли традиции итальянской комедии масок во времена рождения сценического искусства XX столетия, представляется автору насущно необходимым и актуальным.
Методологические принципы исследования. Работа носит историко-теоретический характер. Исходной точкой исследования становится анализ эстетических особенностей соприкосновения русского театра 1910-1920-х гг. с поэтикой итальянской импровизованной комедии. Автор предпринимает попытку выявления закономерностей обращения к опыту commedia dell'arte в
один и тот же исторический период столь разных режиссеров как В.Э.Мейерхольд, А.Я.Таиров, Е.Б.Вахтангов, Н.Н.Евреинов, Ф.Ф.Комиссаржевский, С.Э.Радлов.
Источники исследования. В общем контексте изучения традиций соттесНа (1е1Ра11е и проблем становления в России режиссерского театра автор обращается к обширной литературе.' Однако, изучение имеющихся источников обнаружило,что до сих пор восприятие итальянской народной комедии отечественным сценическим искусством начала нашего столетия и та преображающая функция, которую выполнили старые ренессан-сные маски, вдохновляя нарождающуюся русскую режиссуру мечтой об истинном, самодовлеющем театре, ни разу не становились предметом специального историко-теоретического исследования. Спектакли, в которых заново постигался опыт соттесИа ёе11'аг1е, существовали в истории русского театра со-
' История русского драматического театра в 7 тт., т.7. М.,1987, История русского советского драматического театра в 2 тт., т.1. М.,1984, Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр 1917-1921. Л.,1968; А.К.Дживилегов. Итальянская народная комедия. М.,1962, К.Миклашевский. Театр итальянских комедиантов. Пг.,1914-1917, М.М.Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.,1965; К.Л.Рудницкий. Русское режиссерское искусство. 1898-1907. М.,1989, К.Л.Рудницкий. Русское режиссерское искусство. 1908-1917. М.,1990, К.Л.Рудницкий. Режиссер Мейерхольд. М.,1969, П.Л.Марков. О театре. тт.1-4. М.,1976, Б.Алперс. Театральные очерки, тт.1-2. М.,1977, Н.Волков. Вс.Мейерхольд. M.-Л.,1929, Е.А.Зноско-Боровский. Русский театр начала XX века. Прага, 1925, К.Державин. Книга о Камерном театре. Л.,1934, Э.Старк. Старинный театр. Пг.,1922, Жан д'Удин. Искусство и жест. Спб.,1911, Т.М.Родина. Блок и русский театр начала XX века. М.,1972, Ю.Головащенко. Режиссерские искания Таирова. М.,1970, В.Е.Гусев. Русский фольклорный театр XVII - начала XX века. Л.,1980, Г.Ю. Стернин. Художественная жизнь России на рубеже XIX - XX веков. М.,1970, Режиссерское искусство Таирова. М.,1987, В поисках реалистической образности. Сборник статей. М.,1981; В.Э.Мейерхольд. Статьи, речи, письма, беседы. ТТЛ-2. М.,1968, В.Э.Мейерхольд. Переписка 1869-1939. М.,1976, Творческое наследие В.Э.Мейерхольда. М.,1978, К.С.Станиславский. Собр соч. в 8 тт. M.,.1954-1961. К.С.Станиславский. Из записных книжек. М.,1986, Евгений Вахтангов. М.,1984, А.Я.Таиров. О театре. М.,1970, Театр, книга о новом театре. Сборник статей. Спб.,1908, В спорах о театре. Сборник статей. М.,1914, Театральный Октябрь. Л.-М..1926; Martin Green and John Swan. The Triumph of Pierrot. N.Y.,1986, Marjorie L.Hoover. Meyerhold The Art of Conscious Theater. Amherst, MA. 1974, Allardyce Nicoll. The World of Harlequin. Cambrige, 1963.
всем в иных концептуальных композициях. Ни отечественное, ни зарубежное театроведение не пытались доселе объединить эти спектакли в некий общий ряд по принципу использования в них поэтики театра масок.
Научное значение работы. Впервые предпринята попытка систематизации влияния традиций итальянской комедии масок на становление русского режиссерского театра, выявлены важные тенденции и закономерности в процессе обретения отечественным сценическим искусством в 1910-1920-е гг. нового выразительного языка.
Объем и структура исследования. Диссертация объемом в 7 авторских листов состоит из введения, двух глав и заключения. К основному тексту приложена библиография использованной в процессе исследования данной темы литературы.
Основное содержание работы. Во Введении конспективно излагается история знакомства российской публики с масками соттесНа ёеИ'аПе в первой половине XVIII века (как в натуральном, итальянском, виде, так и в опосредованном - немецком); их ассимиляции отечественной низовой культурой; их постоянного бытования в течении всего XIX в. на подмостках масленичных балаганов. Кратко описывается предмет исследования.
Глава первая охватывает период с конца XIX века по октябрь 1917 г. И прежде всего автор полагает должным сформулировать в ней неизбывный принцип отечественного мироощущения, лежащий в основе всех проявлений россиянина - в том числе и в основе его художественного творчества.
Россия всегда была, есть и (по-видимому) будет страной идеальной схемы по преимуществу. В этой стране всегда политические, законодательные, моральные и прочие установления прежде всего сверялись с господствующей в данный момент идеей, а уж потом внедрялись в жизнь. Жизнь постоянно сообразовывалась с идеальной схемой, корежилась и мялась ей в угоду -несмотря ни на какое сопротивление. Естественные законы экономического или социального развития чаще всего признавались вредными и на данной территории не действующими. (Эта тема подробно освещается на 7- 11 сс. диссертации.)
Само собой разумеется, противоречивая действительность всякий раз оказывалась неспособной восприять очередной
план своего упорядочивания во всем его идеальном совершенстве. Видя это, одержимые идеей преобразователи постепенно разочаровывались в той головной схеме, в соответствие с которой намеривались они привести бытие страны. Частичное (или полное) отторжение идеи жизнью в конце концов приводило к капитуляции идеи, к разочаровани в ней и к стремительной влюбленности в идею новую.
В конце 1890-х - начале 1900-х годов одной из таких новых, захватывающих многие умы идеальных схем - становится удивительная по своей утопичности концепция философского эстетизма. Под влиянием реалий собственного бытия и весьма популярных тогда в Европе неоплатонических и неокантианских идей действительность в сознании русских символистов и деятелей объединения «Мир искусства» раскололась надвое. Не желая принимать и «отражать» окружающий их феноменальный мир, они попросту определили его как мир псевдобытия, вторичную реальность, целиком и полностью подчиненную законам мира духовной первичности, мира истинного бытия, и именно к этому миру устремили все свои творческие помыслы. Естественно, что для них - художников - этот ноуменальный мир, мир эйдосов и первообразов был абсолютно адекватен миру искусства. А раз жизнью правит духовная идея (читай - искусство), то ради изменения первой надо исправить, переделать второе. Так возникает главная, основополагающая для всей эпохи «серебрянного века» русской культуры идея преобразования жизни средствами и силами искусства.
«Новое искусство», стремясь к претворению феноменального мира через наилучшую организацию космоса первообразов, выдвинуло в качестве одной из главных своих целей задачу постижения природы самого искусства. И если в области жизне-строительства идея художественного преображения действительности явила миру очередной пример парадоксальности загадочного русского сознания, то на пажитях собственно искусства эта иллюзия сыграла роль чрезвычайно плодотворную. Оказалось, что идеальная схема способна воплотиться именно там и -может быть - только там, где властвуют Музы. Здесь нарушается неизбывный для остальных областей жизнедеятельности россиян порядок смены головных схем: здесь идея не капитулирует, а снимается - как решенная проблема.
Отечественные поэты и живописцы начинают смело экспериментировать с. выразительными средствами, отыскивая тот самый - единственный, свой, незаёмный - материал, те праосно-вы, из которых будет затем сложен новый гармоничный мир. Глубина и размах этого доминирующего тогда в русской культуре процесса позволили С.Глаголю назвать его «освободительным движением»1. То было действительно «освободительное движение» на отечественном Парнасе - грандиозный поход художников сквозь толщу вековых напластований к истокам, к корням, в результате которого материал искусства освобождался и от социальных вериг и от наростов заемных влияний близлежащих Муз.
На театре конец 1890-х и 1900-е гг. также стали временем новаций и экспериментов. Но это был период поисков разрешения средствами сценического искусства задач, во многом исходящих из внетеатрального мира. Точнее сказать, все эстетические находки в области нового понимания ансамбля, сценической атмосферы, единства художественного воплощения - открывались не во имя театра как такового, а ради осуществления идей, привнесенных из иных, в основном литературных, сфер.
Общеизвестно, что появление режиссуры - в ее нынешнем, творческом, созидающем значении - вызвано было потребностью организовать все разнозначимые компоненты коллективного сценического искусства в некую эстетическую целостность. В России 1890 годов генеральной идеей нарождающейся отечес-венной режиссуры, основой метода достижения этой чаемой целостности стал принцип жизнеподобия, «прямых жизненных соответствий» (как его сформулировал К.Л.Рудницкий). Восстав против стихийной условности бытующего театра, новое сценическое искусство, одушевленное единой режиссерской волей, возмечтало стать для зрителя самой реальностью, явить безусловность чувствований героев и среды их обитания.
Именно к жизнеподобию, к отображению жизни в формах самой жизни, стремились основатели МХТ в первых своих постановках. И именно тем, что в Художественном театре «все как в жизни», восхищались публика и критики, исправно запол-
' См.: С.Глаголь. Из жизни современного искусства.//Московский еженедельник. М.,1910, N 26, с.51-62.
нявшие его такой непохожий на театр зрительный зал в Камергерском переулке.
Однако, к середине 1900-х гг. идеи раннего МХТ утратят недавнюю привлекательность. Разочарование в режиссерских приемах своих учителей заставит В.Э.Мейерхольда усомниться и в справедливости принципа «все как в жизни». И тогда, увлекшись символистскими идеями, молодой режиссер уверует в прямо противоположную максиму объединения разношерстных сил театрального производства - «все не так, как в жизни», а так как в сверхжизни, то есть в поэзии, в живописи, в музыке, одним словом: в искусстве.
Этот принцип единства театрального спектакля - принцип «сверхжизненности» - позволит режиссеру создать на подмостках Студии на Поварской, а затем театра В.Ф.Комиссар-жевской, призрачный мир идеального бытия духа, найти почти адекватный литературному сценический язык, предельно сглаживающий контраст между земной реальностью актерского тела и космической отвлеченностью «новых» пьес.
Впрочем, довольно скоро Мейерхольд поймет, что созданный им язык пригоден лишь для постановки символистской драматургии, а содержательные ресурсы самой этой драматургии отнюдь не безграничны. Выход из наметившегося тупика подсказала счастливая встреча Мейерхольда со странной пьесой поэта, также, как и он сам, начавшего тяготиться идеями символизма, - с «Балаганчиком» А.А.Блока. Выдумывая постановочные «планы» к этой пьесе, Мейерхольд многое понял и переоценил в собственном режиссерском опыте. Прежде всего, столкновение с вечной игровой стихией масок открыло ему, что принцип «все не как в жизни» вовсе не универсален - ибо маски одновременно обретаются и вне жизни, и внутри нее. Они существуют в той точке пространства, которая преобразует реальность жизни в некую новую реальность, параллельную первой, принадлежащую ей, но и независимую от нее. Имя этой точке -подмостки.
Действие спектакля должно вершиться именно в театре, магией режиссуры перенесенное сюда изо всех мыслимых и немыслимых уголков мироздания и воображением зрителей вновь помещенное туда, куда позволяет его поместить смысл происходящего и развитость этого самого зрительского воображения. Режиссерское авторство, рождавшееся с мечтой о победе над
сценической условностью, пришло к сознательному ее утверждению, к намеренному обнажению условной природы театра. Мейерхольд осознал возможность - и необходимость - покорить сценическую условность, поставить ее на службу спектаклю; он оценил ее как то свойство театрального произведения, сообразуясь с которым и нужно добиваться главной режиссерской цели - целостности спектакля. Условность не противополагалась единству, а признавалась его признаком.
Самое же единство достигалось путем нового претворения метода, найденного при создании эстетики символистского театра - метода стилизации. Во времена Студии на Поварской стилизация понималась Мейерхольдом как способ своеобразной схематизации жизненного материала, остраннения его (от слова «странно»), и превращения тем самым в материал искусства. Такая схематизация нужна была режиссеру прежде всего для того, чтобы справиться с актерской телесностью, организовать ее по законам искусства, включить живую плоть в систему «второй реальности» - сделать ее соизмеримой с живописным оформлением, литературным словом и музыкой.
Встреча с традиционными масками, каждая из которых уже есть схематизация, но схематизация многогранная, позволила Мейерхольду увидеть путь вхождения театра в «освободительное движение» российских искусств. Маска - кристалл театра; будучи структурным первоэлементом искусства сцены, она подобна многозначности символа в поэзии и многосоставности образа натуры, разлагаемого на плоскости пытливой живописью. Грани маски противоречивы, конфликтны в самих себе и друг с другом, Так заново рождается идея сценического гротеска как равновеликости и равнозначности этих граней, составляющих лишенное привычной цельности единство.
В «Балаганчике» на российские подмостки уверенно вступила новая для отечественного профессионального драматического театра тема, которой суждено было многое определить в формировавшемся режиссерском искусстве. Начиная с этого спектакля проблема освоения опыта итальянской комедии масок становится в один ряд с важнейшими эстетическими идеями века. На протяжении следующих полутора десятилетий поэтика цмпроги.зованной комедии тщательно исследуется, теоретически и практически постигается, многообразно используется разными
режиссерами при постановках драматических сочинений, прямо или косвенно связанных с ее масками.
«Балаганчик» стал дерзостным (и шокировавшим многих) прорывом Мейерхольда в будущее, облик которого мало кем угадывался в 1906 г. Лишь четырьмя годами позже почти безоговорочный успех «Шарфа Коломбины» (даже Станиславский назвал эту работу Мейерхольда блестящей) заставил критиков вспомнить о «Балаганчике» как о спектакле-пророчестве. Дружный хор восхищения первой пантомимой Доктора Дапер-тутто, в котором слились голоса представителей самых различных эстетических лагерей, со всей очевидностью выявил произошедшую смену времен.
С 1910 года отечественные искусства уже не желают быть «ноуменальным миром» или чем-нибудь иным «философским». Они хотят существовать исключительно как искусства. В этот, второй период (1910-1917 гг.), «освободительного движения» идея «двоемирия» абсолютно теряет какой-либо мистический характер.
Для Мейерхольда, Таирова, Евреинова, Комиссаржев-ского и многих других - 1910-е становятся эпохой борьбы «театральности» с «литературщиной». Опору в этой борьбе они обретают в театральных традициях минувшего, в осознании и изучении истории театра, впервые отделенной от истории литературной. Главным же аргументом в споре сценического искусства с литературой становится в те годы соттеШа ёеИ'аПе, воспринимаемая «вторым поколением» отечественной режиссуры как образ самого театрального театра, как основа всего сценического искусства. Каждый режиссер открывает в ней то, что наиболее соответствует его собственным представлениям об идеальном театре. Но в главном все они едины: искусство импровизованной комедии масок сверхтеатрально - ибо это искусство действия.
Именно в действии театральная мысль этого времени видела сущность искусства сцены, его специфику, его уникальность. А пафос борьбы с литературщиной, перераставший в недоверие к слову вообще, заставлял лишь движение человека на подмостках, лишь безмолвный жест считать единственным, незаёмным материалом, из которого творится выразительный язык театра.
Эти идеи предопределили рождение мейерхольдовского «Шарфа Коломбины», премьера которого состоялась 12 октября
1910 года в Санкт-Петербургском Доме Интермедий. Пантомима «Шарф Коломбины» занимает в овладении Мейерхольдом возможностями сценической условности, в становлении его режиссерского метода место, на взгляд автора, даже более важное, чем великолепный «Дон Жуан». В этом полустудийном спектакле прозрения и предощущения «Балаганчика» получили статус уверенности и стройность системы.
Мейерхольд стал автором (либретто А.Шницлера было существенно им переработано) и постановщиком первой в России драматической пантомимы отнюдь не случайно. Его режиссерское искусство всегда стремилось к превращению драмы в зрелище. Но если в его символистских опытах и во «внезапном выпрыге» «Балаганчика» движение служило своего рода пластическим комментарием к звучащему слову, способом выявить подводные течения пьесы, то в 1910-е годы Мейерхольд ставит перед собой куда более сложную задачу - выразить все, и текст и подтекст, только через движение. Пантомима обладала в глазах Мейерхольда этого времени множеством притягательных качеств. И главным ее козырем была - для Мейерхольда несомненная - связь чисто пластического действа с идеей сценического гротеска. «Миметизм», составляющий - по мнению режиссера -основу искусства жеста, есть ни что иное как воплощение в движении «глубочайших изломов» человеческой души, выявление языком тела трагических и комических противоречий бытия.
Именно в пантомимах добивается он наибольших успехов в разработке и реализации сценического гротеска в дореволюционные годы. И прежде всего - в «Шарфе Коломбины».
Инсценируя этот свой трагифарс, Мейерхольд создавал по сути дела последовательный и законченный во всех частях манифест условного театра. Устройство зрительного зала; отсутствие какого-либо барьера между публикой и сценой; грим, костюмы и декорации; музыка и свет; способ актерского существования, принципы игры - все было продумано и подчинено единой цели. По словам Е.А.Зноско-Боровского во время репетиций «Шарфа Коломбины» режиссер не уставал повторять: «...надо откровенно и ясно говорить публике, что все происходящее перед ней, есть представление, что все показываемое не реально, не настоящее, и пусть она сквозь эту игру рассмотрит ту внутреннюю правду, которая может быть заключена в произведе-
нии.»1 «Внутренняя правда», таким образом, прямо связывается Мейерхольдом со сверхусловностью формы, ставится в зависимость от уровня ее сделанности, от качества «выделки», так сказать.
Отточенность приема и стройность режиссерской композиции заставляли зрителей воспринимать ненатуральность показываемой им игры как свидетельствование дисгармонии миропорядка. Гротескные маски, каждая из которых являла рой противоречивых, открыто конфликтующих между собой миров, позволяла сидящим в зрительном зале задуматься о неслиянности красоты и добра, знания и счастья, любви и действия, царящей в их собственных душах. Ужас этой роковой неслиянности отчетливо проглядывал из-под внешнего шутовства и кривляния мейерхольдовских масок. В первой пантомиме Доктора Дапер-тутто за праздничной мишурой ясно слышен был трагический «плач в веселых шутках, свойственных театру».
То же осознание кризисное™, ограниченности, исчерпанности выразительных ресурсов натуралистического и символистского театров, которое привело Мейерхольда к пластическому спектаклю в духе соттесИа с!еН'аг1е, послужило исходной точкой для поиска новых путей развития сценического искусства и А.Я.Таирову. А встреча его с пантомимой А.Шницлера сыграла в творческой судьбе Таирова роль даже более значительную, чем в судьбе Мейерхольда.
О работе над пантомимой он давно мечтал. В безмолвном ее действе виделся режиссеру путь к устранению главной причины театрального безвремения - кризиса искусства актера. Ибо для Таирова душой и основой подлинного театра был именно действующий на подмостках живой человек - актер.
Однако, актер-чтец, актер-декламатор, покорно воспроизводящий «слова и идеи» господ Арцыбашевых, Сургучевых и др., прочно придавлен к стулу, вместо плаща на нем пиджак, вместо звенящей бубенцами шапки скомороха - серая шляпа пирожком, вместо движения у него куцый жестик. И Таиров, вслед за Мейерхольдом, считает необходимым очистить «самодовлеющую» театральность от литературных наслоений, вернуть актеру действие и, тем самым, его главенствующее поло-
Е.А.Зноско-Боровский. Русский театр начала XX века. Прага, 1925, с.313.
жение на театре. Действие же для Таирова этого периода - как и для Мейерхольда - равно движению, пантомиме.
Но Таирову важен был в пантомиме вовсе не «миметизм», вдохновивший Мейерхольда на создание гротескных личин. Он видел в ней возможность воплощения неимоверной силы страстей. Такой подход к пластическому спектаклю заставил режиссера декларативно отмежеваться от бытующих форм пантомимического театра и определить жанр собственных опытов как жанр мимодрамы.
В мимодраме - по Таирову - накал человеческих чувств столь велик, что слово не способно вместить его. Молчание мимодрамы органично; переживания ее героев могут «вылиться» только в «эмоциональный жест» - жест, выражающий несказанное, выражающий слову неподвластные движения души.
Это стремление Таирова к кипению открытых эмоций обусловило необходимость пересмотра данных ему Шницлером масок. Выводя движущие сюжет противоречия вовне, режиссер трактовал маски как персонификации страстей. Естественно, что столь различный подход к маске у Мейерхольда и у Таирова определил и полную несхожесть спектаклей «Шарф Коломбины» и «Покрывало Пьеретты», созданных на основе одного и того же драматургического и музыкального материала. Зрители, пришедшие 4-го ноября 1913 года на третью премьеру Свободного театра, увидели не трагифарс, а величественную трагедию, разыгранную ене конкретного времени и места действия. На фоне темных сукон и серебристых колонн торжественно творилась история гибели в борьбе со Всесильным Роком двух любящих возвышенных героев.
В то же самое время - с 1913 года - Мейерхольда начинает интересовать не столько драматургический материал, прямо или косвенно связанный с поэтикой соттесНа с!е1Гаг1е, сколько интенсивное лабораторное изучение приемов импрови-зованного театра масок. В этом освоении традиций мастерства профессиональных комедиантов Мейерхольду виделся метод воспитания нового актера - актера режиссерского театра. А Студия на Бородинской, о которой идет речь, и создавалась, в частности, для того, чтобы разобраться: в чем же должна состоять свобода творчества такого актера и как эта свобода может сочетаться с заранее выстроенной партитурой спектакля. То есть - с
целью определения оптимального соотношения в новом сценическом искусстве заданности и импровизационности.
Другой важнейшей задачей Студии, решение которой также коренилось - по Мейерхольду - в постижении опыта итальянской комедии масок, являлось создание нового, доступного всем, всенародного выразительного языка чистой театральности. В качестве двух, неразрывно связанных между собой, первоэлементов такого языка режисСер изыскивает маску и движение.
Поначалу, в маске - как в традиционном образе corn-media dell'arte - Мейерхольд видит единственный путь к возрождению театральной импровизации. Но углубляясь все больше и больше в практическое студийное изучение маски и движения, их взаимоотношений между собой, Мейерхольд делает важнейшее открытие. Он с предельной ясностью понимает, что маска - это отнюдь не только личина из кожи или папье-маше, водружаемая актером на физиономию. Это не просто атрибут, на возрождении привычки пользоваться которым он так азартно настаивал. Исторические изыскания и студийные опыты показали - маска есть прежде всего поведение. Маска становится для Мейерхольда некой системой, определенной комбинацией движений актера на сцене.
Значение этого открытия для послеоктябрьского творчества Мейерхольда трудно переоценить. Мастер-актер, легко и свободно создающий пластические формы маски, столь же непринужденно выходящий из нее и отыгрывающий свой пантомимический комментарий к исполняемой роли - вот идеал, к которому вел своих учеников режиссер.
Одним из итогов увлечения Мейерхольда итальянской импровизованной комедией и балаганом стало и то, что к моменту третьей русской революции, провозгласившей лозунг о принадлежности искусства народу и широко распахнувшей двери театров перед людьми, никогда ранее туда не хаживавшими, режиссер подошел уже с готовым новым выразительным языком, языком - как ему казалось - поистине всенародным. Рецепт чистой театральности, извлеченный им из наследия комеди масок, виделся Мейерхольду тем самым средством, которое способно сделать его искусство абсолютно доступным и заразительным для всех слоев разворошенного общества. От «нарядного балагана» пантомим 1910-х годов до политического балагана «Мисте-
рии-буфф» был всего один - и притом малюсенький - шаг. Совершить этот шаг художнику, захваченному волной новой социальности - социальности коренной переделки мира, было так же естественно, как бывшему бунтарю-гимназисту нахлобучить на свою седеющую голову красноармейскую фуражку.
Глава вторая посвящена событиям третьего, синтетического, этапа «освободительного движения» российских искусств (1920-е гг.). В ней автор рассматривает основные, с его точки зрения, мировоззренческие и эстетические перипетии развития театральной мысли этого периода, когда для режиссеров, сей процесс движущих, главной задачей становится не возрождение когда-то бывшего (пусть и в обновленном виде и ради новых целей) , а сотворение своего, наисовременнейшего театра масок.
Октябрь 1917 года принес (кроме множества иных известных последствий) значительные перемены в мироощущении людей, на долю которых выпал крест творения отечественной культуры. Многие из них, годами стремившиеся к преображению жизни своим искусством, к моменту третьей русской революции успели окончательно убедиться, что косное коловращение окружающей «материи» могло быть преодолено (помимо активного социального действия, лежащего вне сферы специфических художнических способностей) лишь через обнажающую и усугубляющую двойственность мира игру. Игру истинного и мнимого, лица и личины, бытия и быта. Игру, в самой себе несущую доказательство иллюзорности собственных побед, ежесекундно напоминающую о фатальной неслиянности обоих миров, и потому неизбежно превращающую праздничный карнавал в трагический маскарад. Колея эстетического отношения к действительности явно замыкалась, оставляя где-то в стороне нечто главное, без чего преображение жизни не становилось необратимым...
Неизвестно, как долго сторонники подобного подхода к данной им реальности влеклись бы своею мечтою по кругу, тщетно пытаясь разомкнуть этот круг игрой - преодолеть жизнь празднеством духа, если бы люди прямого социального действия не совершили в октябре 1917-го силой оружия грандиозный акт «карнавализации» российского бытия. Трагические обстоятельства гражданской смуты, разгула насилия и террора, не смогли поколебать радостного ощущения праздника, воцарившегося в сердцах многих художников в результате этой тотальной смены
«верха» и «низа». Законы карнавала стали законами жизни; вершилось великое торжество идеального преображения действительности, вера в положительный исход которого подкреплялась еще и явной народной поддержкой «социалистического выбора».
К власти в России пришли люди, воспринимавшие - несмотря на всю экономико-материалистическую фразеологию своего учения - реальные обстоятельства бытия страны лишь в качестве строительного материала для воплощения давно и заранее созданного плана учреждения на Земле царства Разума и Справедливости. Само собой разумеется, что именно «формалистское» (условно говоря) крыло отечественной художественной интеллигенции сразу и безоговорочно приняло Октябрь и социалистический план построения нового общества. Примат идеального, явственно проглядывавший в делах и речах коммунистов сквозь все декларации об обратном, был глубоко близок и понятен поэтам, живописцам и режиссерам, всегда стремившимся к творению новой жизни через создание нового искусства.
Ни с чем не сравнимая радостная свобода разлита была в послеоктябрьском воздухе. То была свобода демиургов перед лицом хаоса - материя утратила косность, бытие потеряло стабильность. Старые понятия (вроде права граждан на политические ассоциации) значили ничтожно мало по сравнению с новой свободой от обреченности прошлому ходу вещей. Завтрашний день подчинялся плану, также как и послезавтрашний и все последующие - великому плану преображения.
Социальная революция в сознании художников совпала с их собственным лирическим переживанием победы идеи преображения-игры над принципом отображения, «копирования». И в этом лирическом переживании торжество революции превратилось в доказательство силы «реальнейшего» по отношению к «реальному» - в доказательство могущества искусства, способного очеловечить, оживить через игру, через идеальное оформление, пассивные элементы жизни.
Убежденность в преображающем всесилии искусства, свобода от распавшихся пут обрыдлого повседневного бытия, уверенность в будущем как в непременно новом и, следовательно, прекрасном - вот что предопределило настоящую радостную праздничность пореволюционных творений Мейерхольда, Вах-
тангова, Таирова и многих других художников, тщетно стремившихся обрести ее до Октября,
Существенно меняются и вариации разрешения проблемы театральной маски. Здесь по-прежнему отсутствует однообразие - каждого художника комедийная личина притягивает особыми чарами, отнюдь не в унисон звучат в их душах задетые маской струны. Но можно заметить и некоторое единство: выражавшаяся маской двойственность мира утрачивает свой (недавно неизбежный) трагизм.
Маска превращается просто в признак настоящего театра, пригодный как для немудреных целей наглядной агитации, так и для выражения сложных философских концепций. Давние личины соттесПа ёеИ'аЛе становятся то сюжетом стилизаторских подражаний, то отнюдь небезопасным средством архаического преображения через осмеяние (сокрушительную реакцию на применение которого сполна ощутил Радлов в истории с горьковским «Работягой Словотековым»), то исправными водителями ищущих чистой театральности, то ироничными магами - владельцами секрета праздничного оживления бездушного хаоса материи, то искусными учителями законов олицетворения, законов создания современного народного театра. На первый план выходит новое свойство маски - ее отъединенность от актера, дающая лицедею свободу дистанции по отношению к играемому образу.
Наглядным примером утраты маской горечи свидетель-ствования раздвоенности мира может служить «каприччио Камерного театра» - «Принцесса Брамбилла», - впервые показанное публике 4 мая 1920 года. А.Я.Таиров, взяв в качестве литературной первоосновы своего спектакля повесть Гофмана, средствами комедии масок сумел превратить гротескную фантасмагорию в радостное, солнечное театральное волшебство. Его спектакль начисто лишен был того мистического дуализма, сквозь призму которого воспринимал мир означенный на афише автор.
Таиров обратил наибольшее внимание на изящную волшебную форму «Принцессы Брамбиллы», идеально пригодную для воплощения на подмостках поэзии превращений. На первое место в спектакле выходили магия трансформаций, карнавал, яркая круговерть масок, одним словом, - игра. Игра прихотливая, ничуть не снисходящая до реальных обстоятельств бытия персонажей и оттенков их психологии. Режиссер вместе со свои-
ми актерами откровенно разыгрывал веселую сказочную «италь-янщину», доводя публику до головокружения обилием изобретательных и виртуозно исполненных трюков. Трюк был главным структурным элементом спектакля, основным кирпичиком его причудливого строения. Идеальный Театр, во славу которого ставилось каприччио, проявлял себя в «Брамбилле» чередою нескончаемых кунштюков, лацци, аттракционов, которые почти полностью вытесняли сюжет Гофмана и делали содержанием спектакля самодвижение, саморазвитие игрового театрального трюка.
«Брамбилла» стала последним спектаклем «арлекинад-ной линии» Камерного театра, в причудливом пространстве которого действовали маски, давшие этой линии имя одного из своих протагонистов. Впервые (во внелабораторных рамках «большого» спектакля) в таировском карнавальном каприччио подводились некоторые итоги внедрения в сценическую практику принципов, рожденных творческим осмыслением опыта и традиций соттеШа (ЗеИ'айе.
Анализируя любое подлинное произведение искусства, исследователь с пугающей неизбежностью вынужден поминать древнего Януса - ибо кажды шедевр есть звено цепи, одновременно принадлежащее как прошлому, так и будущему. Ликом одним «Брамбилла» обращена была к экспериментам 1910-х, являясь их продолжением, ликом другим - к комедиантским шедеврам 1922 года: «Принцессе Турандот», «Великодушному рогоносцу» и «Жирофле-Жирофля». Театральные идеи, которые отечественная режиссура извлекла из поэтики итальянской им-провизованной комедии в качестве основных законов условного игрового сценического искусства, были в «Брамбилле» еще тесно слиты с материалом, с темой, их выявившей, но уже различимы для пытливого наблюдателя.
Идеи эти суть: единая униформа актера; не связанная с архитектурой и устройством сцены установка для его работы; свободное жонглирование образом-маской и, наконец, главная -идея праздничной, оживляющей вещную материю игры.
Одним из самых игровых, звенящих чистыми колокль-цами театральности спектаклей 1920-х по праву считается вахтанговская «Принцесса Турандот», ставшая блистательной кодой темы итальянской комедии масок в русском театре. Это веселое и праздничное представление явило миру чудо рождения
яркого и зрелищного искусства из аскетической «религии» Станиславского времен Первой студии. В «Турандот» Вахтангов великолепно продемонстрировал то, что он сам называл «преодолением театральной пошлости театральными средствами» - то, чему призывал учиться у.Мейерхольда, и что, по его мнению, совсем не умел делать Станиславский. Ироничная игра в театр становилась в вахтанговском спектакле могущественным способом преображения. Публика, обманутая занимательным капустником, в котором полотенце играло бороду, а конфетная коробка - портрет красавицы, любуясь мастерством исполнителей, забавляясь их шутками и трюками, постепенно, незаметно для себя влюблялась в молодых героев и начинала искренне сопереживать им.
Игра обретала универсальный смысл. Она преодолевала и нежелание зрителей февраля 1922 года увидеть под велеречивыми монологами персонажей Гоцци биение живых чувств, и невеселую заоконную действительность самого этого года. Ею гарантировалось всесилие Художника, его умение идеально организовывать жизнь, присваивать ей статус подлинного бытия. А значит - гарантировалась и свобода творца перед лицом тлена, распада, аморфности. Игра являлась методом жизнестроитель-ства и формой выражения радости жизни, победным кличем над голиафовой громадой материи, счастливой песней бессмертия.
Встреча Вахтангова с масками итальянской импровизо-ванной комедии ознаменовалась событием огромной важности -известная самостоятельность маски, ее огьединенность от представляющего ее лицедея, подсказала режиссеру знаменитый принцип «отстранения». Посредством этого принципа, обеспечивающего исполнителю право на оценку играемого персонажа, на личное к нему отношение, Вахтангов предлагал новое решение проблемы импровизационности и заданное™ актерского творчества в условиях жесткого режиссерского рисунка. В «Турандот» был осуществлен синтез итогов экспериментов в Студии на Бородинской и Первой студии МХТ: здесь была предпринята попытка совмещения в исполнителе импровизационного самочувствия (реализующее требование Станиславского проживать роль «каждый раз заново») и состояния импровизатора (возникающее - по мысли Мейерхольда - от радости игры).
«Принцесса Турандот» стала последним обращением отечественного театра 1920-х гг. к драматургии, связанной с обра-
зами итальянской комедии масок. По-видимому, то совершенство конструкции, та исчерпывающая законченность целого и каждой детали, с какими выстроена была «Турандот», сделали для современников невозможными и неинтересными любые попытки дальнейшего освоения этого материала. Подобно тем идеям, чье бытование в сферах творимой реальности российских искусств счастливо отличалось от неизбежно трагического существования их товарок в области социального реформирования, проблеме итальянской импровизованной комедии суждено было обрести художестнное решение и претвориться в новое качество.
Это новое претворение исчерпанной темы замечательно проявилось в творчестве Мейерхольда. К началу второго десятилетия века недавний издатель «Любви к трем апельсинам» окончательно утрачивает потребность черпать ту повышенную «те-атрорадостность», которую требовали от актера традиции итальянской импровизованной комедии, в образах самой этой комедии. Для Мейерхольда принципы театра масок становятся в 1920-е гг. ключом, способным отпереть любую пьесу. И выпущенный 25 апреля 1922 г. его Вольной Мастерской «Великодушный рогоносец» показал публике, что актер Мейерхольда владеет тем же «отстранением», умением работать с маской ничуть не хуже вахтанговского. Но если в Третьей студии актер приоткрывал лишь краешек собственного лица, слегка высовывал наружу плечо, то в Вольной Мастерской он временами выламывался из образа полностью, резкими пантомимическими выпры-гами саркастически высмеивая деяния и воззрения своего «подопечного».
Фривольный фарс Кроммелинка неожиданно для публики и критики стал в постановке Мейерхольда спектаклем о революции, о переживаемом страною и людьми, ее населяющими, моменте. Пустое пространство с высящимися посреди него стропилами конструкции являло не столько мельницу, сколько образ нового, строящегося мира; скаты и лестницы станка казались современникам мостками и переходами на пути страны.
В это распахнутое пространство вышел ловкий и сильный, молодой и энергичный, задорный лицедей - мим, обладающий умением через себя и собою, своими рассчитанными, стремительными движениями, выражать весь мир. Он был весел и свободен, этот комедиант, свободен от косной среды, от цепкой власти вещей, от старой, затхлой театральной пошлости.
Грим не скрывал его подлинного лица, единая синяя прозодежда, облачавшая его крепкое, тренированное тело, имела вид простой рабочей спецовки, которую одевает всякий, уважающий свой труд мастеровой.
Радостная комедиантская игра, подчиняющая себе время, пространство и материю, заставлявшая критиков вспоминать искусство средневековых жонглеров, обладала в «Рогоносце» столь же универсальным смыслом, что и в вахтанговской «Турандот» и в таировской «Брамбилле». Но, в отличии от них, игра эта убедительно показывала в спектакле Мейерхольда и свою жанровую всесильность. Чрезвычайно веселое представление Вольной Мастерской обнаруживало трагическую подоплёку игры.
Тщательно выстраивая многогранные психологические конструкции действующих масок, каждая фасета которых была вмонтирована в свою, замкнутую драматургическую колею, Мейерхольд и его актеры конечно же высмеивали это бесконечное концентрическое вращение мысли и чувств вокруг единожды вбитого колышка идеи. И тем самым - вроде бы становились над ситуацией. Однако в то же время, создатели «Рогоносца» оказывались вынужденными продемонстрировать, что порочный круг вовсе не размыкается игрой, что, напротив, - каждый виток игры наворачивает лишь новые турусы, окончательно загромождающие выход из колеи. Только поступок, только волевое решительное действие - показывалось в спектакле - способно проторить новый путь, высадить двери воздушного замка игры.
Трагедия не считающегося с реальностью Брюно, придумывающего какие-то головные схемы проверки жизни; порочный круг насилия над любимой ради доказательства ее же греховности; зашоренность мысли, вертящейся подобно встроенному в установку Поповой турникету, - метафорически описывали в «Рогоносце» прошлое, настоящее и будущее принципа идеального преображения жизни. И в этом смысле комедиантский шедевр Мейерхольда, на котором зрители покатывались со смеху, был трагическим, взыскующим истины и до истины поднимающимся размышлением о сути происходящего в России.
Меж тем окружающая подмостки бывшего Зона действительность стремительно изменялась. Новая экономическая политика, с большим скрипом - как вынужденная уступка вот-вот готовому взбунтоваться народу - принятая правящей и уже
единственной в России партией, постепенно приносила свои плоды. Гражданский мир (в строго установленных и неусыпно охраняемых отнюдь не бездействующим ГПУ рамках) заставил отступить кошмар голода, холода, бесконечных очередей, в которых победивший эксплуататоров пролетариат жаждал отоварить хоть каким-нибудь кормом выданные ему его властью карточки.
Неожиданно появившаяся возможность покупать ветчину да осетрину «мирного времени» и пользоваться почти довоенными услугами существенно изменила характер Великого карнавала преображения страны. Масленичная атмосфера этого временного отступления идеи тотального обобществления и сделала возможным появление 19-го января 1924 года мейерхоль-довского «Леса» - самого вольного, самого свободного спектакля времен НЭПа.
Радостное и трогательное представление Мейерхольда -впервые за всю историю «освободительного движения»' на российском театре - пробило стену, упорно отделявшую эксперименты «в духе» народной комедии масок от собственно народа, которому абсолютно непонятны были изыски «левой» режиссуры. «Лес» имел колоссальный успех у самой что ни на есть демократической публики.
Потрясающая импровизационная легкость этого представления была результатом той огромной подготовительной работы по творческому освоению опыта соттесНа ¿еН'аПе, балагана, средневекового фарса, которой Мейерхольд отдал много лет и труда. Все идеи театрального «освободительного движения» были реализованы в «Лесе» одновременно и составили качественно новое единство.
Спектакль строился Мейерхольдом по присущему площадному действу принципу открытой, без полутонов, оппозиционности структурных элементов. Мир этого балаганного зрелища предстал перед публикой разделенным надвое: на подмостках существовали (именно существовали, активно играя свои роли) два четких адреса действия, «два дома», один из которых явлен был в бесконечно близком русскому самосознанию образе дороги.
Превращение одного из домов в дорогу предельно подчеркивало их абсолютную противоположность друг другу. Изящная парабола уходящего вдаль и ввысь моста, легко паря-
щего над стоячим бытием усадьбы Пеньки, становилась обиталищем воли, пространством той свободы, которой не ведали домочадцы помещицы Гурмыжской.
На эти разделенные надвое подмостки выходили актеры и представляли публике вереницу гротескных масок, каждая из которых принадлежала одному из заявленных миров. Оппозиционность персонажей мейерхольдовского «Леса» подчеркивалась резко и недвусмысленно: лесным паразитам не было места в вольном мире, они не смели и ногой ступить на дорогу. Причем оппозиционность эта основывалась также на древнем площадном принципе «свои - чужие»: с первых же появлений масок на подмостках публике становилось ясно за кого «болеть», кто свой, кто чужой.
Мейерхольд заново открыл при постановке «Леса» архаический, долитературный, действенный способ знаковой типизации, который есть не обобщение, но олицетворение. Этот путь превращения частного, индивидуального в знак первороден как миф; олицетворение подобно персонификации стихийных сил -создаваемая им маска состоит из одних функций и чувственно-впечатляющих черт, неимоверно усиленных. Однако, театр Мейерхольда не был только лишь возрожденным старым балаганом или простой реставрацией соттесПа с1е1Га11е - он из них именно вырастал, вырастал в качественно новое сценическое искусство. В смелом столкновении стилей, разнородных, казалось бы, приемов и выразительных средств, рождался агрессивный и требовательный, рациональный и одновременно поэтический, условный и предельно конкретный в своей обжигающей правде о человеке и мире театр XX века.
Новый, послереволюционный этап «освободительного движения» окончательно разрушил любые запреты и табу, которыми изобиловало ранее сценическое искусство. Рожденный в экспериментах по творческому освоению опыта соттесйа с1еН'аг1е театр осознанной условности доказал, говоря словами М.А.Чехова, - «что если у вас есть подлинная фантазия, если у нас живое, обостренное чувство правды, вы можете делать все что угодно». Пройдет не так уж много времени и вслед за Мейерхольдом, Вахтанговым и Таировым, с помощью их бессмертных спектаклей 20-х годов, «все актеры и режиссеры мира
поймут эту замечательную истину: все возможно! Все совместимо и сочетаемо! Смелость! Свобода!»1
В Заключении автор кратко описывает процесс скорого сворачивания «освободительного движения», который вершился силами, вне искусства стоящими. Более того - в искусстве не нуждавшимися, прямо декларировавшими свое утилитарное, идеологическое отношение к всецело подвластным им питомцам многообразных Муз.
То ощущение всемогущества нового вольного выразительного языка сценического искусства, которое вызывали великие театральные творения начала 1920-х гг., к концу этого десятилетия сделалось в стране «освобожденного труда» совершенно не ко двору. И даже не просто несвоевременным, а прямо-таки вредным и опасным.
Так завершился полный исканий и побед путь русского условного театра начала XX столетия, в котором одну из главных ролей сыграли старые итальянские маски. Поневоле отзвучали свободные импровизации отечественных режиссеров на мотивы соттесНа ёеИ'аПе; и даже совершеннейшие, блистательные гармонии, этими импровизациями рожденные, приговорены были на территории СССР к обязательному забвению на долгие годы.
Апробация работы. Диссертация обсуждена и одобрена на секторе театра Российского Института Искусствознания. По теме диссертации автор опубликовал статьи: «Покрывало Пье-ретты».//Сб. Режиссерское искусство А.Я.Таирова. М.,1987. (0,5 авторского листа); «Преступление против времени».2 Театральная жизнь, № 5 за 1989 г. (0,5 авторского листа); «По обе стороны маски». Театр, № 1 за 1990 г. (1 авторский лист); «Сту-дисты и подмастерья». (Публикация лекций В.Э.Мейерхольда в Студии на Бородинской и в ГВЫРМе, принципов биомеханики, составленных М.М.Кореневым, и предисловие к ним) Театральная жизнь, № 2 за 1990г. (1 авторский лист). Также принята к печати в сборник «Вопросы театра» № 13 статья «„Народная Комедия" С.Э.Радлова» (1 авторский лист).
' М.А.Чехов. О пяти великих русских режиссерах.//В поисках реалистической образности, с.368,372.
л
Переведена на японский и издана Iwanami Shoten Publishers, Tokyo, 1990.
Вадим Анатольевич Щербаков Наследие итальянской комедии масок в исканиях русской режиссуры 1910-1920-х гг. Мейерхольд, Таиров, Вахтангов.
Издание Автора. Объем 1 усл. л. Тираж 100 экз.