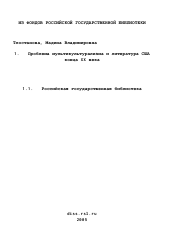автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.05
диссертация на тему: Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Тлостанова, Мадина Владимировна
Введение.
I часть : Феномен мультикультурализма и американский культурный контекст конца XX века.
ГЛАВА I Мультикультура и мультикультурализм — преходящая мода или новая культурная парадигма ? Миф американской уникальности и определение национальной идентичности «от противного».
ГЛАВА II Ассимиляция или плюрализм ? Национальные культурные модели XIX—XX веков.
Доктрина явственной судьбы.
Плавильный котел».
Ассимиляционисты и плюралисты.
60-е годы — модель «интеграции».
Радужная коалиция» и «великолепная мозаика».
ГЛАВА III Типы мультикультурализма. Клише и стереотипы общества и культуры разнообразия.
Спор вокруг Просвещения.
Мультикультурализм и постмодернизм.
ГЛАВА IV Мультикультурализм и проблема пересмотра культурного канона.
II часть: Литература «пограничья» — художественные модели
• поликультурной реальности в литературе США конца XX века.
ГЛАВА! От региональности к культурной многосоставности.
Южная региональная традиция - конец или трансформация ?.
Этно-расовые субтрадиции в контексте культурной многосоставности.
Женское «пограничье» в американской культуре конца XX века.
ГЛАВА II Проблемы культурной и личностной репрезентации. От идентичности к индивидуальности.
Авто)биографии «пограничья».
1) Автобиографическая эссеистика «пограничья» как жанровый гибрид.
2) Литературная (авто)биография — игровое поле пограничного «трикстера».
Семейная хроника» Джулии Альварес — биография культурного скитальца.
Ассимиляция с поправкой на память — Р. Родригес.
Воительница» Мэксин Хонг Кингстон — пародия на этническую автобиографию.
Филипп Рот —«пограничные» автобиографии из самого мейнстрима».
ГЛАВА III Время/пространство пограничья. Очужденная Америка глазами культурного путешественника.
1) «Чужой» американец и «свой» аутсайдер. «День независимости» Р. Форда и «Клоун-обезьянка» М. X. Кингстон.
2) Гетеротопии пограничья — Америка реальная и нереальная.
9 «Кафе Бейли» - футуристическая утопия или развеществленый топос.
Метаморфозы Бхарати Мухери.
Почти «Американская пастораль» Ф. Рота и «другая» Америка
Оскара Ихуэлоса.
Мамбо Джамбо» и «Джаз» — два варианта осмысления традиции.
Введение диссертации2000 год, автореферат по филологии, Тлостанова, Мадина Владимировна
Последние десятилетия XX века закономерно явились в мировом масштабе временем переосмысления, подведения итогов, многочисленных попыток дать определение многоликой, противоречивой реальности и человека в ней, отмеченных напряженной культурной саморефлексией, как реакцией постмодерного сознания на потерявший и не обретший еще нового смысла мир и дискредитировавшие себя, кажется, полностью известные способы его осмысления. В культуре США это сознание конца и одновременно, начала чего-то нового, переломной, переходной эпохи, оказалось связано с бурным развитием различных культурных теорий и практик, занятых преимущественно переосмыслением проблемы разнообразия и различия, многосоставности и инаковости. Этот достаточно сложный культурный сдвиг может быть интерпретирован на самых разных уровнях. В определенной мере, речь идет о глобальном аспекте проблематики многосоставности и разнообразия, связанном с ростом динамики культурных процессов в мировом масштабе, децентрацией, отказом от универсалистских глобальных антиномий, созданием многополярной модели мира, распадом видимости единства и гомогенности отдельных культур, уступающим место фрагментации, размыванием границ между различными национальными традициями и переосмыслением самого этого понятия. При этом интеграционные, межкультурные тенденции и глобализация оказываются уравновешены процессами мозаизации, дробления и локализации.
В американской национальной традиции проблематика, связанная с разнообразием и различием, также всегда играла важную роль, в частности, в силу особого отношения к проблеме региональной, этнической, расовой идентификации, и более острого, чем в других культурах противоречия между мощной прагматической, рациональной в основе национальной идеологией, создающей целостные, гомогенные модели, и социо-культурной реальностью страны-эксперимента, в которой гетерогенность и децентрированность оставались всегда важнейшими и не преодоленными факторами. Кроме того, культура США была подвержена своеобразному маятниковому развитию — от периодов стремления к предельной централизации и унификации к центробежности и назад. Причем эти отрезки времени были достаточно короткими, обманчиво обозримыми, легче, чем в других, более долгих по времени развития культурах и цивилизациях поддающимися оценке. Современный период децентрации и очередной актуализации центробежныхтенденций, пожалуй, — самый обширный по охвату и по значимости в истории американской культуры, не в последнюю очередь потому, что он совпал с общемировыми, глобальными тенденциями, связанными с постмодерным и постколониальным мироосмыслением.
Последние десятилетия XX века в США были отмечены очередным всплеском «культурных войн», в центре которых стояли такие понятия как национальный канон и традиция, проблема соотношения единства/разнообразия/различия в американской культуре, «революция идентичностей», наконец, мультикультура, или культурная многосоставность, что легли в основу понятия «общества и культуры разнообразия» — социокультурного комплекса, посредством которого Америка представляет себя в последние десятилетия, то есть модели, в очередной раз выводящей на первый план центробежные и гетерогенные тенденции в развитии национальной культуры. Эта проблематика нашла довольно органичное и целостное выражение в понятии мультикультурализма или мул ьти культурного проекта1, затронувшего самые различные сферы общественной жизни и ее осмысления — от политики и социологии до литературы и искусства. Мультикультурализм явился одним из всеобъемлющих факторов или атрибутов современной культуры США, определить который однозначно, как, впрочем, и понятие мультикультуры — его предмет и, в определенной мере, идеал, достаточно сложно. Это и социокультурная утопия, и академическая «мода», и художественная практика, и отражение новой формирующейся (пост)национальной идеологии. В сферу интересов мультикультурализма в самых различных его проявлениях попадает прежде всего проблема единства и разнообразия, взаимоотношения «я» и «другого» или «других», как и шире — субъектно-объектная проблематика, вопросы релевантности познания, истины, полемика по поводу релятивизма и универсализма, политика и структура власти, наконец, проблемы репрезентации и идентификации.
Литературный процесс в США последней четверти XX века характеризуется растущим многообразием, неоднородностью, отказом от привычных моделей, в соответствии с которыми литература создавалась, воспринималась и интерпретировалась еще недавно. Цель данного исследования состоит в попытке оценить новую мультикультурную парадигму, а также связанный с ней дискурс «культурного разнообразия», которые складываются в США в последние два десятилетия, с точки зрения их влияния на литературный процесс и эволюцию национальной традиции. Важнымаспектом формирования и функционирования североамериканской модели мультикультурализма является проблема «культурного пограничья» как в достаточно широком, так и в прикладном смыслах. Поэтому одной из ключевых задач исследования является определение североамериканского варианта пограничной проблематики в соотношении с некоторыми иными существующими моделями, а также и с глобальными мировыми тенденциями. В работе объективно происходит совмещение тесно взаимосвязанных, но все же отличных друг от друга проблем — феномена «культурного пограничья», по мнению американской критики, активно узурпирующего сегодня место «мейнстрима» в США, и проблемы смены культурной парадигмы — с западной, логоцентрической (в США — американоцентристской), на плюралистичную, где «пограничье» играет одну из важных, если не самую важную роль. Проблема пограничья при этом неизбежно выходит за рамки американского и панамериканского контекстов, находя глубоко своеобразное выражение и в культуре европейских стран, прежде всего, Франции, Великобритании, а также в значительной мере актуализируется в последние годы в контексте Центральной и Восточной Европы, пересекая границы отдельных национальных культур, все чаще оперируя в глобальном мировом масштабе.
Приверженцы гомогенной модели национальной культуры, как и модернистского (элитарного) представления о литературном каноне могут обвинить нас в некоторой тенденциозности, связанной с убеждением, что именно мультикультурные процессы являются определяющими для современной культуры США, а «исключения», о которых говорится в работе, лишь подтверждают правило. Следует сразу же оговориться, что предложенная нами интерпретация является лишь одним из возможных вариантов «прочтения» культуры Америки конца XX века, объективно и сознательно построенной на принципах разнообразия и «терпимости», а следовательно, открытой множеству толкований. Кроме того, исследование ни в коей мере не призвано, в отличие от многих западных культурно-экстремистских выступлений последних лет, окончательно сместить и разрушить «мейнстрим». Напротив, американская литературная традиция в том понимании, которое было выработано ее теоретиками главным образом в 30—50-е годы XX века, не исчезла. И даже если ограничиться лишь последними десятилетиями, ставшие привычными имена писателей США конца века (Т. Пинчон, Дж. Барт, П. Остер, Дж. Апдайк, С, Беллоу, К. Воннегут и др.) продолжают сохранятьсвое место в несколько изменившем смысл, но по-прежнему существующем «центре», хотя и перестав определять его всецело, как раньше.
Актуальность и научная новизна работы определяются тем, что проблематика, связанная с осмыслением взаимодействия единства и разнообразия, как формообразующей оппозиции в культуре США, а также мультикультурализма, как их ярчайшего современного проявления, получали в отечественной академической критике пока лишь спорадическое толкование в рамках определенных, устоявшихся констант, редко выходивших за границы монодисциплинарности. Так, если регионализм в его диахронном срезе оказался достаточно полно интерпретирован российскими учеными, как и ограниченный ряд явлений этно-расового порядка, этого никак нельзя сказать о других аспектах функционирования разнообразия и различия, имеющих непосредственное отношение к проблеме мультикультурализма. В частности, это касается целого ряда ранее «невидимых» этно-расовых и культурных субтрадиций, а также тендерной и социально-классовой проблематики. Само понятие мультикультурализма в его многоаспектных взаимосвязях с национальной традицией, «каноном», постмодернистскими философией и мироощущением, наследием Просвещения и т.д. и вовсе не получили пока никакого освещения в отечественной науке. Данное исследование стремится скорректировать этот пробел, и впервые, посредством комплексного подхода, предложить возможно более завершенную интерпретацию проблематики, связанной с функционированием мультикультурной модели, как в наиболее актуальном, синхронном срезе непосредственного культурного и эстетического бытования, фактически не изученном в России, так и в диахронном, историческом, прослеживающем генезис и эволюцию национальных моделей культурной многосоставности. При этом в центре внимания оказывается интерпретация художественных и литературных явлений, как прежде всего культурных феноменов. Исследование отличает сознательная критическая дистанцированность, поскольку объективно оно стремится избежать описания предмета лишь с точки зрения устоявшихся принципов интерпретации, характерных для «культурного центра», и лишь в системе устоявшихся критических констант. Здесь сказывается отсутствие в отечественной науке по-прежнему целого ряда междисциплинарных школ и направлений гуманитарных исследований, занявших в последнее время достаточно прочное место в зарубежном академическом контексте. Это касается прежде всего школы культурной критики, постколониальных исследований, исследований пограничья и т.д. Само по себе критическое обращение к аппарату этихдисциплин, призванное начать их ассимиляцию на российской почве, представляется актуальным и своевременным с методологической точки зрения. С другой стороны, исследование стремится к дистанцированности от характерной, на сегодняшний день, западной абсолютизации явлений и феноменов, связанных с проблемой мультикультурализма и культурного разнообразия. Наконец, анализ собственно литературных явлений, вышедших на первый план в последние десятилетия, в связи с актуализацией полиморфных тенденций в американской культуре, оказывается важным в силу того, что целый ряд произведений, имен писателей, литературных субтрадиций, анализу которых посвящена работа, практически не известны отечественному читателю и не получили пока сколь-нибудь систематической интерпретации в критике.
Многочисленные новые модели национального культурного канона, которые предлагались в США с конца 80-х годов XX века, совершенно отличны от тех канонических представлений об американской словесности, к которым привыкли в Америке и, конечно, в России, поскольку наше представление об американской традиции было почти целиком импортировано, причем из более раннего по времени культурного контекста, да еще затем и изрядно подправлено собственной идеологической цензурой. Следует отметить, что именно в академической среде в США проблема культурного разнообразия и мультикультурализма приобрела в последнее десятилетие острополемический оттенок, став в центр множества дебатов и в значительной мере изменив лицо и методологию многих дисциплин. Не случайно говорят даже о том, что сама эта проблематика была во многом «создана» академической средой. При этом то новое, «альтернативное» восприятие американской литературы, которое пытаются, порой насильно, распространить сторонники радикального пересмотра и расширения канона в США, по-прежнему остается для стороннего наблюдателя немотивированным, настоятельно требуя осмысления, причем не только изнутри американского контекста, но и, так сказать, снаружи. Многочисленные западные толкования проблемы мультикультурализма нередко отличаются излишней политизированностью. Скованные рамками непосредственного культурного окружения, американцы зачастую не видят и не желают замечать параллели между многими активно дискутирующими явлениями «культуры разнообразия» и феноменами предшествующих периодов, уже ставшими органичной частью американской традиции, причем и в реальной, и в идеальной сферах — национальной онтологии, философии, региональных различий, таких частных, на первыйвзгляд, хотя важных для традиции явлений, как фронтир, давний спор ассимиляционистов и плюралистов, и т.д.
В России пограничная, постколониальная и мультикультурная проблематика в отношении к американской литературе и культурной традиции пока почти не осмыслялась, оставшись либо в сфере наиболее общего теоретизирования на цивилизационном уровне, либо в области сугубо прикладных исследований, практически не затрагивая сферы истории литературы. Не произошло пока, к сожалению, и совмещения постмодернистских осмыслений культуры, активно развивающихся в нашей стране в последние годы, с практически не изученной в этом важнейшем своем аспекте постколониальной и мультикультурной проблематикой. К примеру, в изучении нередко номинальной на сегодняшний день категории «этнических литератур» сохраняется не всегда оправданный крен в сторону фольклористики и так называемых традиционных культур, и практически не встречается попыток оценить эти явления с точки зрения их взаимосвязи с элементами постмодернистских эстетических и культурных концепций. Научная ценность работы нам видится и в том, что она стремится устранить этот серьезный пробел, оценивая мультикультурализм и различные художественные варианты его осмысления как органичное порождение и продолжение общепостмодернистских установок и некоторых основных элементов национальной культурной и онтологической традиций.
Метод исследования отвечает его междисциплинарному характеру. Вкратце его можно охарактеризовать как сочетание культурно- и литературно-исторического анализа с теоретически-концептуальным. Сугубо литературоведческий подход к оценке состояния современной американской словесности взаимодействует с методологией и аппаратом других гуманитарных дисциплин — прежде всего, социологии, культурологии, этнологии, антропологии, а также, и более новых, собственно междисциплинарных областей — постколониальных и пограничных исследований, школы культурной критики и т.д. В определенном смысле, эстетика и поэтика занимают в исследовании как бы подчиненное место, что не умаляет их значимости, но лишь сигнализирует об иных, формирующихся сегодня взаимоотношениях эстетической, онтологической, функциональной сфер в современной литературе США, о том, что эстетика является зачастую следствием и выражением новой «мультикультурной чувствительности» или мироощущения, определению которых и посвящено в какой-то мере исследование.
Возражение, неизменно выдвигаемое противниками пересмотра канона, мультикультурализма и «пограничных исследований», состоит в их убежденности в том, что якобы, в отличие от «мейнстрима» художественная продукция, отмеченная культурным полиморфизмом и порой болезненным интересом к проблеме разнообразия и различий, примитивна, не интересна с эстетической точки зрения и изучать ее поэтому не нужно, или, даже если и нужно, то целесообразнее поместить в какое-нибудь литературно-критическое «гетто» или «резервацию», типа во многом потерявшего на сегодняшний день смысл понятия «этнических литератур». Сами литературы-то, конечно, остались хотя границы этой условной категории оказываются все более размытыми, а набор критических констант, к которым обычно прибегали для их интерпретации, как то: национальная или этническая самобытность, фольклорные мотивы, и т.д. сегодня уже вряд ли способны удовлетворительно описать те новые явления, которые возникают на стыках постмодерного и постколониального, в том числе и (пост)этнического дискурсов.
Следует отметить, что литература, связанная с мультикультурной проблематикой, не представляет собой единого движения, направления, школы, даже группы авторов, объединенных какими-либо эстетическими манифестами, что во многом является знаком времени, отмеченного проявлениями фрагментации, локализации, предельной индивидуализации эстетического и культурного опыта на различных уровнях. Этих писателей связывают лишь некоторые общие закономерности реакции творческого сознания на определенные сдвиги в восприятии культуры, национальной традиции, проблемы (само)идентификации в изменившемся мире и т.д. Поиск какой-либо сформировавшейся эстетики у этих авторов и попытки представить ее в каком-либо законченном виде были бы преждевременными. Хотя говорить о возникновении определенных эстетических констант, системы художественных приемов находящихся на стадии становления, на мой взгляд, все же можно. Каждый из писателей, на материале творчества которых строится работа, создает свой художественный мир из элементов разнородных и нередко противоречащих один другому, обращается к разным приемам, методам и традициям. Связывать их могут скорее бытийные, культурные и психологические категории, влияющие на поэтику, но не определяющие ее всецело. Противопоставление «мейнстрима» пограничным субтрадициям в эстетических аспектах является по-видимому методологически неверным и должно быть переведено на иной, преимущественно культурный и/или онтологический уровень. Кроме того, эстетическая общность, как и глобальный,космополитический пафос, пусть и пока лишь как возможность актуализации, редко осознаются американскими писателями, чье творчество отмечено интересом к проблеме культурного разнообразия. Исключений в этом смысле не так много. Если в ближайшее время их количество увеличится, то вероятно, станет можно говорить с большей долей уверенности и об окончательном формировании «мультикультурной эстетики».
Новизна тематики и незавершенность тех процессов, о которых идет речь в работе, как на уровне непосредственного бытования, так и в сфере художественного выражения, теоретического осмысления, воздействия на массовое общественное сознание, также оказали определенное влияние на исследование, а именно, придали ему принципиально открытый, разомкнутый характер. Использованная методология целиком отвечает эклектичному, неоднородному, разностороннему предмету. Если в российской традиции подобного рода междисциплинарность пока является скорее исключением из правила, то в зарубежных работах (причем, как западных, так и приходящих из так называемых стран третьего мира) изучение литературы как прежде всего культурного, онтологического, бытийного, а не только эстетического феномена в последние годы вышло на первый план. Вместе с тем, в отечественной традиции существуют свои примеры обращения к подобной проблематике и попытки выработки соответствующей методологии. Прежде всего, здесь следует назвать, конечно, М. Бахтина, чье наследие не случайно активно используется теоретиками «пограничья» и мультикультурализма на Западе и в странах третьего мира, а также Ю. Лотмана, Г. Померанца, Г. Гачева и многих других. Диалогическое оперирование многими методами и подходами на междисциплинарном уровне может, на мой взгляд, служить залогом определенного позитивного результата в выработке литературно и культурно-критической теории «разнообразия и различия» в будущем. Некоторые из ее основных и уже достаточно устоявшихся элементов нашли отражение в работе.
В силу новизны проблематики, лежащей в основе исследования, а также отсутствия в отечественной традиции устоявшегося понятийного аппарата, связанного с трактовкой феномена мультикультурализма в его онтологических, социо-культурных, художественных и иных аспектах, представляется целесообразным сразу же предложить основные термины и понятия, которыми мы будем оперировать в дальнейшем в попытке определить феномен мультикультурализма и его взаимоотношения с литературным процессом в США конца XX века. Одновременно, подобный краткий обзор призван ознакомить читателя с основополагающими работами, опубликованными поданному вопросу за рубежом, в виду отсутствия таковых в России. Более детальный анализ этих исследований и полемика с ними предлагаются в тексте диссертации.«Мейнстрим» (mainstream) — литература и культура «основного потока» — термин хотя и достаточно устоявшийся на сегодняшний день в отечественной американистике, принадлежит к группе понятий, подвергающихся постоянному и активному переосмыслению и в последние годы обнаруживший, как и ряд других терминов, свою предельную контекстуальность. «Мейнстрим» несомненно пересекается и/или вступает в диалог с понятиями культурного ядра, центра, национальной традиции и наконец, канона, причем сугубо идеологический и политико-воспитательный аспекты «мейнстрима» нередко перевешивают собственно эстетические. Отсюда и тесная связь «мейнстрима» с формированием читательской и издательской политики. В какой-то мере он выступает как бы полигоном для различных явлений и имен, которые затем включаются или исключаются из национального канона. В отличие от различных моделей канона, существующих в американской традиции, исследованию которых посвящен специальный раздел, мейнстрим оказывается с одной стороны, более прочно связанным с апологетическими и охранительными тенденциями в национальной культуре (эта схема сохраняется вплоть до последних двух— трех десятилетий), а с другой стороны, является в силу своей значительной пластичности достаточно чутким индикатором смены и перераспределения влияния на национальное сознание различных культурных парадигм, теорий, представлений. Обострившиеся проблемы национальной, культурной и иных форм идентификации в США в последней четверти XX века, развитие различных концепций «разнообразия», контекстуализации, привели закономерно к еще большему размыванию и без того подвижных границ «мейнстрима», зависимого от стабильности национальной идеологии, к еще большей аморфности и условности этого понятия. Активное посягательство культурных границ и «задворок» на место в «мейнстриме», все чаще выражающееся не в форме ассимиляции или мимикрии, но в попытках расшатывания «мейнстрима» изнутри, привело к тому, что во многих случаях культурное пограничье действительно заняло место «мейнстрима». Насколько объективным является этот процесс в современном контексте культурной фрагментации, ставшей, кажется, его единственным действительно глобальным признаком, в чем состоят парадоксы и закономерности смены одной модели репрезентации на другую, наконец, как и на каких основанияхформируются принципы осмысления и воспроизводства художественной культуры и национальной традиции сегодня, лучше всего можно проследить на конкретных примерах из живого культурного процесса, что я постараюсь сделать ниже.«Постколониальные исследования» (postcolonial studies), воспринятые на культурном, а не геополитическом уровне, сформировались как отдельная междисциплинарная область лишь в 90-х годах XX века. Они относятся к группе понятий, недостаточно известных в нашей стране. В строго филологическом значении термина постколониальные исследования касаются литературы, написанной на языке бывших колонизаторов, прежде всего, английском, писателями из бывших колоний (за исключением американской и канадской национальных литератур). Мультикультурализм же, по-видимому, может быть рассмотрен как американский вариант постколониального дискурса, хотя он представляет в определенной мере развитие основных общих положений постколониального проекта, причем в применении к определенным же специфическим культурным контекстам. В центре постколониальных исследований лежит проблема всестороннего определения опыта «немых», недостаточно или вовсе не «представленных» культурных групп, история которых была связана с крайним политическим, социальным, культурным и психологическим подавлением. Постколониальные исследования отличаются некоторой абстрактностью и обобщенностью, редко выражаясь в монологических дисциплинарных формах, будучи отмечены кроме того межнациональным и межкультурным пафосом. Как методология постколониальная теория ставит целью выработку принципов, согласно которым действуют в социальном, политическом, культурном и психологическом смысле колониальные (колониалистские) иантиколониальные идеологии и соответственно, основывается на дискурсе власти и подавления с одной стороны и противостояния, с другой. Центральной категорией для этих исследований является постколониальная культурная идентичность и принципы ее репрезентации в литературе и искусстве. Отсюда и основные понятия и темы, которыми оперируют постколониалисты — проблемы инаковости, «другого», культурной мимикрии и ассимиляции, изгнания, символической «бездомности», отчуждения, двойственного, «расщепленного» сознания и связанного с ним «шизодискурса», выделенного Ж. Делезом и Ф. Гаттари, а затем переосмысленного Ф. Джеймсоном2, такие подвергающиеся в последние десятилетия повсеместному разрушению понятия, как универсализм, евроцентризм и этноцентризм, а также нация,раса, пол и т.д. Не трудно заметить, что постколониальный дискурс в этом смысле близок постмодернистским теориям, направленным прежде всего против логоцентризма западной традиции и ее метаповествования. Хотя постколониалисты, и прежде всего такие ученые, как палестино-американский критик Эдвард Сайд, автор книг «Ориентализм» (1978), «Культура и империализм» (1994)3 и др. и его последователь индиец Хоми Бхабха, самые известные работы которого включают «Нацию и повествование» (1990) и «Определение места культуры» (1994)4, активно полемизируют с теоретиками постмодерна — М. Фуко, Ж. Делезом, Ж. Бодриаром, Ф. Джеймсоном и др.
Что касается гибридности и синкретизма, также лежащих в основе постколониальных построений, они нередко могут рассматриваться и в отдельности, как бы формируя собственный дискурс, получивший в последнее время название «посткультурного» (ров^иКига!). Постколониальный дискурс — это та область, которая настойчивее всего предлагает отказаться от национального метаповествования и является глобальной по своему пафосу, так что в недрах постколониальности формируются новый посткультурный глобальный контекст и методология. В этом смысле характерной является точка зрения Хоми Бхабхи, в значительной мере переосмысляющего идеи Э. Сайда, и по сути уже пишущего в новой пост культурной традиции, где акцент сделан на межкультурных взаимодействиях и мировая литература более не рассматривается в ячейках отдельных национальных традиций, но скорее через призму тех или иных глобальных, с точки зрения постколониалистов, культурных, политических, психологических влияний, закономерностей, понятий — к примеру, таких как «историческая травма», рабство, революция, террор, изгнание, бездомность, потеря культурной идентичности и т.д.«Посткультура» (ров^иКиге) — менее употребительный термин находящийся как бы на стыке постколониальных исследований и так называемой, «культурной критики», развитие которой в США связано с нынешней фазой эволюции «нового историзма», а также общепостмодернистских и постструктуралистских теорий. В идеале, посткультура должна была бы включить и мультикультурализм, и постколониальные исследования, однако, эти термины нередко употребляются как синонимы. В этом смысле, хотелось бы опереться на точку зрения исследователя Дж. Кана, который в книге «Культура, мультикультура, посткультура» (1995)5 связывает понятие посткультуры с дискурсом гибридности и синкретизма, а также с проблемой культурной глобализации (и в частности, возможности/желательности создания мировой культурной системы)на примере постмодернистского мегалополиса, как идеальной для него модели посткультуры. Хоми Бхабха, хотя и не оперирует понятием посткультуры, тем не менее также рассматривает проблему культурной глобализации через призму дискурсов межпространственности и гибридности, говоря о «внезапном разрыве настоящего», делающим возможным реализацию глобальных тенденций в культуре8.
Определению особенностей мультикультурализма (тиШсиКигаНэт) посвящена вся работа, поэтому ограничусь лишь несколькими основными тезисами, дающими читателю общее представление об этой проблеме. Мультикультурализм — весьма противоречивое междисциплинарное явление, включающее идеологические, философские, художественные аспекты, и оперирующее в сферах антропологии, социологии, политологии, экономики, историографии, педагогики, наконец, литературоведения и философии. Это явление выступает в качестве выражения и одновременно, в какой-то мере обоснования плюралистичной культурной парадигмы, ставящей задачей предложить новое «идеальное» и часто утопическое видение в соответствии или по контрасту с активно дискутируемым идеалом общества и культуры «разнообразия».
Мультикультурализм — понятие достаточно новое для отечественной литературной критики и культурологии. Более того, сам термин вызывает нередко сомнения и неприятие, хотя и отечественные, и тем более американские исследования прошлых лет изобиловали различными синонимами понятия «мультикультуры», такими как многосоставность, поликультура, множественность культурных традиций, не сливающихся в единство. Все это в определенной мере подготовило почву для современного бума, связанного с мультикультурализмом, очень многие элементы которого существовали, были заложены в американской традиции с начала ее самостоятельного бытования. Поскольку у нас общепринятого термина для определения данного феномена выработано еще не было, представляется целесообразным использовать термин «мультикультурализм», на сегодняшний день достаточно устоявшийся в англоязычной традиции, а также соответствующее ему более широкое понятие мультикультуры, как основного предмета и идеала различных исследований, оперирующих в сфере поликультуры, постколониализма, и шире, постмодерна, несмотря на отмеченные выше расплывчатость и полисемантичность этих терминов.
Понятие мультикультурализма и само стало сегодня «резиновым» термином, допускающим огромное количество зачастую противоречивыхтолкований. Каждый из исследователей, обращающихся к этому феномену, вкладывает в него по сути свой смысл. В результате, в мультикультурализме оказываются нередко перемешаны и непримиримые, скорее политические, нежели собственно культурные манифесты последователей «афро-центристов», и взгляды культурных экстремистов 60—70-х годов XX века, и призывы поборников восстановления культурного наследия «доколумбовой» Америки, выступающих за перемещение «центра» американской культуры к индейскому наследию, и либерально-демократические и космополитические взгляды так называемых умеренных мультикультуралистов. Наконец, дискурс «культурного разнообразия» сегодня оказался узурпирован упрямыми сторонниками западного логоцентризма и культурной гомогенности, признавшими центральный его аргумент — западный, контекстуальный характер ценностей, прежде представлявшихся как универсальные, что не мешает традиционалистам, впрочем, все равно настаивать на примате западных принципов репрезентации над незападными. Таким образом, важно отметить уже теперь, что мультикультурный проект не является освободительным или напротив, узурпаторским, охранительным по своему пафосу, не имеет идеологии и, в конечном счете, этики и по существу может быть использован и используется культурными группами с совершенно противоположными целями. Это, однако, говорит скорее о его пластичности и внутренне современном характере, который сообщает уникальную возможность адаптации.
Отметим, что мультикультурализм — явление присущее отнюдь не только США. Будучи тесно связанным с постсовременными и в определенной мере, с постколониальными или посткультурными социальными, историческими, философскими теориями, он естественно получает развитие практически во всех странах, так или иначе отмеченных сосуществованием различных неслиянных культур и этносов, чаще всего интерпретирующихся в постколониальном дискурсе в границах дихотомии «культурного империализма» и «противостояния», сформулированных Э. Саидом7. Однако, поскольку в США колониальный сценарий носил уникальный характер — бывшая колония в рекордно короткий срок сама стала гораздо более властным подобием европейских колонизаторов по отношению к собственным «чужим» культурным голосам — там постколониальная идеология работала иначе, порой в скрытых формах, рождая достаточно рано (в случае с некоторыми субтрадициями, еще в XIX веке) устойчивые промежуточные или медиативные формы культурного взаимодействия, которые сегодня, задним числом,называют гибридными, пограничными, внутренне в наиболее полной форме отвечающими постмодернистской чувствительности.
В последние годы мультикультурные исследования стали все чаще занимать внимание ученых и Великобритании, и Франции, если речь идет о Европе, не говоря уже об объективно мультикультурных континентах Новой Зеландии, Африки, Австралии. Если, наконец, ограничиться только «Америками», выяснится, что на этих материках также существует несколько вариантов решения проблемы мультикультурализма и соответственно, подхода к нему. Латиноамериканский вариант, которому поликультурная проблематика также объективно близка, отличен в этом смысле, скажем, от канадского.
В работе не представляется возможным остановиться на всех американских (как Северных, так и Южных) и панамериканских вариантах осмысления проблемы мультикультуры и мультикультурализма, хотя их сравнительный анализ мог бы оказаться чрезвычайно интересным, тем более что в последние годы в США все чаще возникают попытки обратиться к опыту «соседей» и наложить его на собственные национальные модели культурной многосоставности8. Ограничимся лишь анализом истории и современного состояния этой проблемы в культурном контексте США. Слово «американский» будет по большей части для удобства и краткости употребляться в смысле принадлежности США, хотя неадекватность подобного употребления на сегодняшний день очевидна и лишний раз свидетельствует об условности и умозрительности самого термина, связанными напрямую с так и не разрешенной проблемой национального самоопределения, вышедшей сегодня в очередной раз на первый план9.«Культурные исследования» или «культурная критика» (cultural studies) — термин, который нередко неточно переводится как культурология. На деле культурная критика является гораздо более прикладной и локальной по своему пафосу. Первоначально она возникла как продолжение и корректировка марксисткой критики и «нового историзма», но в 1960-е годы выделилась в самостоятельную междисциплинарную область исследований. Отсюда и акцент на социальных и политических аспектах культуры и активные попытки сформулировать «дискурс низших классов», характерные для «культурной критики», оперирующей в контексте различных расовых, тендерных, социо-экономических, сексуальных и иных факторов. В последние десятилетия теоретики этой области обратились к изучению различных аспектов массовой культуры, а также к попыткам корректировки дихотомии высокое/низкое в культуре и искусстве. Вопрос о власти и культурном доминировании, а такжепредоставление возможности самовыражения ранее «невидимым» культурным группам лежит в центре всех построений «культурной критики», делая их в определенной мере созвучными постколониальному проекту. Среди наиболее интересных работ в этой области следует назвать книгу американского антрополога К. Гирца «Интерпретация культур» (1973)10, сборник статей под редакцией Л. Гроссберга и др. «Культурные исследования» (1982)11, в большой мере отталкивающийся от работ Мишеля Фуко.
В работе не раз встретятся такие термины, как пост(меж)дисциплинарность (post(inter)disciplinarity) и постсовременность (postmodernity), которые, вероятно, также требуют пояснения. Термины с приставкой «пост» не употребляются здесь в значении «анти» или «после», как их нередко толкуют. Не случайна, например, игра с метафорой пост (англ. «POST») — как некого маяка, поста, новой точки отчета, претендующей, скажем, в случае с постмодерном и постколониальностью на завершение, отмену или радикальное переосмысление проекта модерна и соответственно колониального дискурса. Эта мысль выражена, в частности, в книге А. Адама и X. Тиффин «За последним рубежом: Теория постколониализма и постмодерна» (1991)12. Процитирую слова Хоми Бхабхи, предложившего удачный, на мой взгляд, вариант толкования явлений, отмеченных приставкой пост- в его развернутой в диахроническом в большей мере, нежели в синхронном аспекте трактовке современной культуры. «Если жаргон нашего времени — постмодернизм, постколониальность, постфеминизм и имеет какой-либо смысл, то он состоит не в общепринятом значении приставки пост -, как выражения последовательности («после» феминизма) или противоположности («анти» модернизм). Эти термины, настойчиво указывающие на сферу по ту сторону, лишь воплощают беспокойную и постоянно пересматривающую самое себя энергию современности, трансформируя настоящее в расширяющееся и экс-центричное поле опыта и власти.Бытие по ту сторону является бытием в промежуточности. Но бытие по ту сторону — также и принадлежность времени переосмысления, возвращения к настоящему для описания заново культурной современности, для утверждения человеческой и исторической общности, для того, чтобы дотронуться до будущего с его здешней и теперешней стороны» (6; pp. 4, 7).
Наконец, важным для практически всех перечисленных сфер исследований является понятие «культурного пограничья», которое может быть определено и во временном и в пространственном смыслах, как изменчивое взаимодействие традиционного и современного начал внутрикультуры. Сегодня оно нередко лишается географической конкретности и переносится либо по аналогии на иные социо-культурные и даже эстетические модели (взаимоотношения пограничья и «маргинальности»), либо целиком внутрь сознания «человека границы», существующего на грани культурной трансгрессии, между культур, времен, среди языков, в состоянии постоянного пересечения границ, где групповая культурная идентификация постоянно противоборствует с личностной. «Пограничье», как и все вышеперечисленные понятия — термин достаточно уязвимый и аморфный. Можно сказать, что в панамериканском культурном пространстве проблема активной концептуализации «границы» выросла из достаточно частных, на первый взгляд, явлений, связанных с осмыслением мексикано-американского культурного опыта и шире — опыта взаимодействия латиноамериканской культуры и ультрапрогрессистской западной цивилизации в лице США. В американском контексте «пограничье» уже успело стать в центр отдельной междисциплинарной сферы исследований (border studies), где литературоведение играет далеко не последнюю роль. Пограничные исследования с их транснациональным и транскультурным пафосом создаются в основном по ту сторону Атлантики и в так называемом «третьем» мире. Теоретики пограничья, многие из которых и сами являются пограничными личностями, одинаково свободно ориентируются и в западном дискурсе, и в том, что в той или иной мере являлось и является для них «родным» в культурном смысле. Теории «пограничья» находятся поэтому одновременно внутри и вне западного дискурса. Это касается, например, способности к критической оценке не только доминирующей культуры, но и себя самих, к саморефлексии по западному образцу, и с другой стороны, стремления размышлять и судить и с точки зрения «пограничной» культуры, что должно сообщить в идеале привилегию критической дистанцированности. Хотелось бы отметить таких теоретиков пограничья в США, как Ренато Росальдо, автора книги «Культура и истина» (1989)13, X. Д. Сальдивара, написавшего в частности монографию «Проблемы пограничья. Как перекроить карту американских культурных исследований»(1997)14. Особое значение имеет и сборник под редакцией Скота Микаэлсена и Дэвида Джонсона «Теория границы» (1997)15, где предметом исследования в контексте пограничных теорий выступают уже не только собственно мексикано-американские или шире — этно-расовые элементы, но и тендерное и региональное пограничье и некоторые иные формы маргинальности.
Важным свойством культурного пограничья является амбивалентность, ярче всего проявляющаяся в характеристике ускользающего от определения «пограничного сознания», человека, застрявшего на границе, и нередко противостоящего не только безместности, но и новому укоренению в одной, двух или более культурах. Промежуточность связывается в современных западных исследованиях пограничья с концепциями «детерриторизации», предложенными Жилем Делезом и Феликсом Гаттари16, а пограничье, как символически-пространственный образ, осмысляется нередко через понятие культурной «дислокации», т.е. лишения культурной территории, места «в проеме» — между национальной укорененностью (со стабильной онтологией) и новой безместностью, означенной памятью о лишении корней, которое отмечает собой все чаще социальное и психологическое «беспокойство», лежащие в основе национальной, культурной, этно-расовой идентификации.
Исследования пограничья как бы перестали быть сами пограничными, оказались выведены за рамки маргинального, произошла активная экспансия пограничья в центр, лишение его локального статуса только этнографической или антропологической экзотики, интересной разве что лишь узкому специалисту. Сам интерес к развитию исследований пограничья оказался, как ни странно, во многом проявлением тенденции к синтезу: ведь немыслимая фрагментация и стремление все новые возникающие культурные голоса рассматривать в отдельности, каждый в своей ячейке, потенциально ведут к исчезновению понятия национальной или любой другой культурной традиции как целостности, так что транскультурные и полифонические по своей направленности и методологии исследования пограничья становятся пусть и не во всем удачной попыткой поиска общности и синтеза на лишь оформляющихся сегодня новых основаниях. В центре осмысления феномена пограничья поэтому лежит стремление понять, существует ли в различных пограничных культурах и литературах некий общий, не зараженный при этом дискредитированными сегодня универсалистскими представлениями «адресат», хотя бы на уровне доступных для исследователей конкретных культурных «голосов» — индивидуальных скорее, чем групповых, существует ли тенденция к выработке элементов условно общей, культурной идентичности, которая бы перевесила расовые, национальные, иные различия. Отсюда в более прикладных и компаративистских исследованиях пограничья интерес к определенным стилевым, онтологическим, эстетическим константам, устойчивым образам, художественным приемам, сюжетам и героям, характерным для всех или большинства пограничных культур (образ самой«границы» и ее перехода, понятие «рубежа», в том числе и рубежа эпох, устойчивые образы трикстера, автобиография и исповедь, как излюбленный жанр, и т.д.).
Структура исследования подчинена принципу — от общего к частному, от онтологии к эстетике и поэтике. Объем работы не позволяет остановиться на многих произведениях, явлениях, авторах, которые заслуживают внимания, но не являются наиболее репрезентативными. Поэтому акцент сделан на творчестве тех писателей, кто в наиболее законченной форме выражает специфику «пограничья» и наименее известен отечественному читателю и критику, хотя косвенно мы касаемся и имен известных авторов, привычно воспринимаемых вне связи с пограничьем, но чувствительных к проблемам культурной многосоставности и трансгрессии (Ф. Рот, Дж. Апдайк, Р. Форд, Вл. Набоков).
Первая часть диссертации посвящена определению специфики мультикультурализма как всеобъемлющего фактора современной культуры США. В ней прослеживается история и предпосылки формирования плюралистичной культурной модели, дается краткая характеристика многочисленных типов мультикультурализма, а также идеала общества разнообразия в его взаимосвязях с массовой культурой.
Мультикультурализм оценивается и как попытка создания новой национальной «идеологии» и «этики» взамен пошатнувшихся идеалов американского национализма, патриотизма, демократии, и как возможный путь формирования новой «национальной идентичности», с необходимостью чего Америка сталкивается сегодня. Особое внимание уделяется переосмыслению мультикультуралистами наследия Просвещения в его национальном варианте, а также некоторых позитивистских доктрин, и, конечно, постмодернистских философских и исторических концепций, с которыми сторонники дискурса разнообразия полемизируют, но от которых во многом отталкиваются.
Вторая часть работы посвящена интерпретации художественных вариантов претворения поликультурной проблематики, составляющих существо «литературы пограничья» и вступающих в диалог с основными моделями мультикультурализма как социо-культурной утопии. Речь идет, в частности, о болезненной для большинства писателей «пограничья» проблеме соотношения культурной и личностной идентичности и формировании художественного «сознания пограничья», в связи с переосмыслением основных моделей и образов национальной культуры. Поэтому одна из важных ролей в исследовании отводится (авто)биографии, как основной жанровой идискурсивной форме в «литературе пограничья», а также своеобразному критико-художественному жанровому гибриду — автобиографической эссеистике исповедального характера, в значительной мере переосмысляющих традиционные «западные» автобиографические формы.
Рамки исследования не позволили приблизиться к воссозданию всех закономерностей и более или менее полной картины американских литературных и культурных процессов конца XX века — это дело будущего. Целью работы явилась попытка взглянуть на противоречивый и пестрый современный культурный контекст США, а также, на литературный процесс, находящийся в последние десятилетия в состоянии переходности и незавершенности, сквозь призму одного из наиболее всеобъемлющих мифов нашего времени — постмодернистского мифа «культурного разнообразия».
Феномен мультикультурализма и американский культурныйконтекст конца XX века.
Сторонний наблюдатель, попадающий в культурный контекст США 80-х—90-х годов XX века, неизбежно оказывается шокирован масштабами смещения в принципах репрезентации культурных феноменов самого разного порядка, затрагивающих собой все стороны пересоздающейся реальности. Сегодня уже невозможно путешествовать по миру симулакров, чтобы не сталкиваться повсюду со знаками культурного различия, большинство из которых легко переводятся в сферу сугубо потребительскую, а значит, массовую.
Знаки этого смещения обращают на себя внимание на любом уровне — начиная от обычных университетских обзорных курсов истории литературы и антропологии, где на первый план выводится проблема объективного проникновения в аутентичную жизнь представителей «традиционных» культур, и кончая «высоколобыми» теоретическими журналами («American Literary History», «PMLA», «Postmodern Culture»), научными конференциями, где еще недавно господствовавшим горячим дебатам по поводу постмодернизма пришлось потесниться, уступив место так называемой «мультикультурной» тематике, и художественными выставками, отмеченными стремлением создать хор голосов различных мировых культур, выделив при этом особо автохтонные, ранее маргинальные и считавшиеся примитивными (Парижская Международная Выставка 1989 года «Magiciens de la Тегге», многочисленные экспозиции в музее Уитни последнего десятилетия). Список примеров может быть продолжен и на уровне сугубо массовой культуры. Мультикультурными «товарами» стали кухня и индустрия моды, кинематограф и популярная музыка, все чаще сочетающая в себе элементы ранее никогда не смешиваемых влияний и традиций, статьи из «Тайме» и «Нью Рипаблик», назидательно повествующие о невиданном материальном успехе и воплощенной «американской мечте» «идеальных национальных меньшинств», реклама магазинов «Беннетон», наводнившая улицы практически всех крупных городов мира гигантскими изображениями неанглосаксонских лиц, вызывающе не отвечающих усредненным стандартам красоты. Наконец, сама урбанистическая реальность современной Америки строит топику (или скорее, «гетеротопию», если воспользоваться повсеместным сегодня термином М. Фуко) во многом на идее всеобщих культурных различий, как единственнойобщности, объединяющей жителей таких постмодернистских мегаполисов, как Лос-Анджелес или Хьюстон. Ключевые слова здесь, как не трудно заметить, «различие» и «разнообразие». Не случайно, многие теоретики культуры в США называют современную Америку «обществом разнообразия»1.
Обращает на себя внимание, что в приведенных примерах реалии, присущие сугубо культуре США, незаметно переходят в явления в большой мере повсеместные, даже глобальные, перерастая национальные рамки. Как говорилось выше, в современном мире, отмеченном убыстрением культурной динамики, децентрацией и плюралистическими тенденциями, интеграция и глобализация соседствуют с дроблением и локализацией, с новым «синкрезисом», наступающим как бы после очередной синтетической фазы, с «обратным заколдовыванием мира», если перефразировать М. Вебера2. И сама эта условная дихотомия глобальна, так что отделить процессы, присущие только США от европейских, и тем более от тех, что связаны с постколониальным развитием, и в частности, от панамериканских, не всегда представляется возможным.
Слова, еще совсем недавно имевшие нейтральный или сугубо положительный смысл — «универсальность», «качество», «ассимиляция», «европейский модернизм» вдруг стали восприниматься в прежде умеренной и нередко подчеркнуто аполитичной академической среде как признаки реакционной склонности к культурному неоколониализму и империализму. Их место в центре современных культурных дебатов заняли новые понятия — «разнообразие», «релятивизм», «культурные различия» и наконец, пресловутая «инаковость», как и ставшая столь модной в последние годы поэтика и политика самоопределения «другого», которая рискует заслонить собой прочие мифы XX века.
Если обратиться к одной лишь литературе, переживающей сегодня в США в целом, не лучшие времена, выяснится, что привычные имена, бывшие еще недавно в центре внимания читателей, критиков, ассоциировавшиеся с национальной американской литературной традицией (если говорить о литературе последних десятилетий здесь можно назвать С. Беллоу, Г. Видала, Дж. Чивера, Дж. Сэлинджера, Дж. Гарднера, Н. Мейлера, Ю. Уэлти, Дж. К. Оутс и многих других), постепенно отошли в область «(живой) классики», сиротливо занимающей верхние, труднодоступные книжные полки магазинов и университетских библиотек, оказавшись под рубрикой «literature», в противовес менее каноничной, но все же читаемой «fiction» или тем более «contemporary fiction», на которую по-прежнему с презрением посматриваютприверженцы высокой культуры, несмотря на то, что она все прочнее занимает свое место в поле изучения современной словесности. При этом принципы отнесения авторов к почетной, хотя и, к сожалению, часто порядком «запылившейся» категории «литературы» весьма произвольны и при этом зачастую предельно просты и инструментальны.
Последние десятилетия обнаружили со всей очевидностью, что в США на сегодняшний день не существует какой-либо доминирующей литературной традиции. Постепенно сходящий на нет постмодернизм соседствует с реалистическими и натуралистическими в особом американском понимании тенденциями, происходит и оживление таких несколько забытых к концу века явлений, как различные региональные традиции, наконец, мультикультурный и шире — маргинальный «бум» порождает всплеск «литературного радикализма», если воспользоваться не вполне объективным, но весьма выразительным термином исследователей Ричарда Руланда и Малькольма Бредбери, связавших это понятие с этно-расовыми, тендерными и сексуальными аспектами в формировании современной литературной персоны3.
Бросим беглый взгляд на финалистов национальных американских литературных конкурсов и обладателей премий в области художественной словесности за последние два десятилетия. Сразу оговоримся, что мы ни в коей мере не хотим сказать, что Пулицеровская премия или Пен-Фолкнеровский литературный приз действительно достаются лучшим писателям и книгам, будучи, естественно, в большой мере политическими и идеологическими акциями, как и вся современная культура. Имена, привычные уху и глазу критика-ортодокса, по-прежнему разглагольствующего об универсальных ценностях (таких, впрочем, осталось сегодня не так много), в последние десятилетия оказались изрядно разбавлены достаточно неожиданными художественными феноменами. Так, среди недавних Пулицеровских лауреатов, наряду с хорошо известным как американскому, так и русскому читателю Филиппом Ротом, получившим очередную премию в 1998 году за роман «Американская пастораль», встретится менее известный представитель еврейско-американской традиции — Тони Кушнер, награжденный Пулицеровской премией за нашумевшую пьесу «Ангелы в Америке» (1991), развивающую в контексте полемики с известной теорией «плавильного котла» тему этно-гендерных и национальных идентичностей. Имя американо-кубинского прозаика Оскара Ихуэлоса, написавшего роман «Короли Мамбо поют песнь о любви» (1989), где воссоздается специфический опыт иособенности аккультурации кубинских иммигрантов, взбудораживших музыкальные клубы Нью-Йорка в середине XX века, в списке Пулицеровских лауреатов будет соседствовать с именем «бывшего южанина» Ричарда Форда, опубликовавшего в 1995 году роман «День Независимости» — горькую, предельно трезвую, в чем-то циничную и одновременно ностальгическую медитацию на тему настоящего Америки, где оказались утеряны и развенчаны привычные нравственные и философские ориентиры. Среди финалистов других влиятельных национальных литературных премий — Национальной Литературной Премии, Национальной Премии Критики, Нью-Йоркской Премии Критики и др. — в последние годы также оказались писатели, чьи фамилии и биографии еще недавно не дали бы оснований причислить их безоговорочно к «американским» авторам. Речь идет о таких прозаиках, как индо-американская писательница Бхарати Мухери, доминиканка Джулия Альварес, мексиканец Рон Ариас, автор немецкого происхождения Урсула Хеги, написавшая книгу, во многом следующую стилистике и гротесковой поэтике Гюнтера Грасса «Камни из речки» (1994) и другие4. Наконец, на протяжении уже довольно долгого времени в США существует уникальный феномен — писатели, классифицировать которых однозначно по национальному (и даже языковому) признаку не представляется возможным: здесь хрестоматийный и несколько более ранний по времени пример нобелевского лауреата И.Б. Зингера, иммигрировавшего в США из Польши и писавшего даже свои произведения, основанные на американском опыте, на идиш, или такого полиязыкового, поликультурного, не поддающегося однозначным классификациям автора, как В. Набоков, в последние годы могут быть дополнены именами менее масштабными, но довольно многочисленными и весьма характерными для постсовременной (в том числе и прежде всего, постколониальной) литературной ситуации. Назовем лишь трех — Мишель Клифф, родившуюся на Ямайке, долгое время проведшую в Европе, а ныне живущую в Калифорнии (писательница утверждает, что у нее нет вовсе никакой национальности, лишь собственное воображение), австро-еврейско-американского автора Уолтера Эбиша, опубликовавшего в 1980 году книгу «Насколько это по-немецки ?», переосмысляющую «воображаемый» немецкий культурный опыт, мексикано-американского прозаика Роландо Инохосу, создавшего цикл испано-английских гибридных романов о пограничной территории в Южном Техасе.
Для инертного сознания, привыкшего к определенным, достаточно устоявшимся принципам восприятия, оценки и условного, но, тем не менее, весьма живучего и практически утратившего в повседневном обиходе поправкуна относительность деления культурных, в данном случае, литературных феноменов, создающего своеобразную иерархию авторов, считающихся американскими, эти неожиданные подвохи, которые словно назло подбрасывает культурная реальность последних лет, все больше размывая и без того зыбкое понятие «мейнстрима» и «культурных задворок», привнося ощущение аморфности, размытости культурных границ и бинарных оппозиций, оказываются зачастую совершенно не поддающимися интерпретации. И оно, естественно, предпочитает их не замечать, или выводить за рамки той культурной модели, в терминах которой оперирует. С литературными феноменами это сделать достаточно просто, объявив их незаслуживающими внимания с художественной точки зрения, то есть оценив опять-таки в рамках существующей системы координат, не всегда и не во всем рассчитанной на то новое, что может появиться в недрах «становящейся», незавершенной культуры, системы восприятия, интерпретации, критического и художественного осмысления феноменов. На первый план все чаще выходят существовавшие на протяжении многих десятилетий, а в некоторых случаях, и нескольких столетий абсолютно «невидимые» литературные субтрадиции (пусть и не всегда достаточно развитые по сравнению с тем опять же условным единым центром, который считался национальной культурой). Многие из них сегодня отчаянно стремятся к «видимости», реконструируя свой путь развития, нередко с перегибами и стремлением «создать» традицию задним числом.
По той же парадоксальной логике часть этих «невидимых» традиций постепенно входила в той или иной, пусть и порой в разрушительной для собственной идентичности форме «экзотизма» или «ориентализма», если воспользоваться уже устоявшимся термином Эдварда Сайда5, в корпус национальной словесности, переставая быть невидимой, но оставаясь при этом «чужой». В небольших дозах подобное вливание не казалось (и не было) угрожающим для того условного «единства», которое должна былапредставлять собой национальная литературная традиция по мысли ее адептов. Поэтому уже к середине XX века стало принято говорить об афро-американском или индейском компонентах в культуре США, позднее — о различных локальных этнических «возрождениях» (в частности, о еврейском ренессансе), о женском «вкладе» или о «голосе» представителей сексуальных меньшинств6, наконец, о различных контркультурных проявлениях — от битничества и литературы хиппи до поколения X. В целом, однако, этот принцип добавления экзотических компонентов не был способен (или призван) изменить устоявшийся имидж американской словесности.
С начала 80-х годов XX века картина начала довольно резко меняться, накопившиеся изменения переросли в качественные и видимость единства и вовсе распалась, уступив место фрагментации, сместив центр (или центры), тем самым отказавшись от привычной дуальности диалога одного и многих, центра и границы, безнадежно перемешав высокое и низкое в культуре, создав немыслимые художественные гибриды, так что на первый план вышел не феномен единой «традиции», пусть и предельно специфически понимаемой, но «многосоставность» литературных явлений внутри условно единого поля культуры США7. Можно с некоторыми оговорками констатировать появление первых признаков новой гомогенности — единства не массы индивидов, занятых поисками одной цивилизационной цели, но скорее сообщества различных и разнообразных культур и субкультур, интересы которых могут определенным образом пересекаться, в стремлении выразить свой уникальный голос, посредством своего же языка, набора обычаев, верований, идентичностей, обнаруживающих неожиданно признаки сходства и пересечения.
Не случайно, именно в 80—90-е годы XX века стало возможным говорить об определенном возврате в мировой культуре к сфере частной жизни, а также и к своеобразно понятой духовно-интроспективной проблематике, причем как на уровне собственно творческом, так и на уровне философского теоретизирования, что достаточно неожиданно в эпоху ставших общим местом бездуховности и релятивизма, как аксиом постиндустриального общества. Знаком подобной переориентации можно считать и интерес к минимализму, к групповым формам культурной репрезентации, сопровождающийся «упадком имиджа общественного человека, непомерным нарциссизмом и цинизмом»8. Социологи, философы, культурологи (М. Маффесоли, Ж.-Ф. Лиотар, Ф. Джеймсон и др.) в 80—90-е годы, как известно, поставили в центр своих изысканий пресловутую неприемлемость «метарассказа» и «симптом потери историчности», неспособность различать между прошлым, настоящим, будущим, что ведет часто к доминированию пространственных образов и «топоса» вообще, в противовес времени, и, в определенной мере, к отказу от массовости сознания, а значит, к миниконцепциям, заменяющим для группы индивидов единую мощную идеологию для всех, или, как называет этот феномен М. Маффесоли, «этико-эстетическому сознанию малых групп» (2; р. 103).
Процесс постепенного отказа от понятия культурного «центра» требует, естественно, некоторого времени для осмысления и смены модели мышления. Внешние и внутренние факторы динамики культурного развития в США в определенной мере совпали и центробежность, как постоянно присутствующая и периодически актуализирующаяся доминанта, вкупе с идеей «всеобщего включения» обрела неожиданно широкий размах в последние десятилетия XX века. Особенностям и парадоксам этого современного состояния культуры США, а также их интерпретации в художественном сознании ряда наиболее репрезентативных для современной американской словесности писателей и посвящено исследование.
Мультикультура и мультикультурализм — преходящая мода или новая культурная парадигма ? Миф американской уникальности и определение национальной идентичности «от противного».
Сегодняшнее повышенное внимание к проблемам культурного разнообразия внутри национальной американской традиции никак нельзя назвать новым и чужеродным явлением для США, как это нередко делается и противниками культурной политики разнообразия и всеобщего включения, и некоторыми из наиболее горячих, но мало осведомленных ее сторонников. Ведь практически с самого начала осознания (если не провозглашения) Америкой себя как отдельной, отличной от европейской нации, даже цивилизации, американцев волновали и продолжают волновать проблемы единства и разнообразия, общего и частного внутри своей культуры. Североамериканская цивилизация на протяжении всей своей недолгой истории \ была отмечена повышенным интересом к поискам и определению собственной | '^национальной и культурной идентичности, как «пограничным» свойством. \ ^Однозначно ответить на вопрос, являются ли США уставшей, но «классической» культурой, переживающей сегодня состояние некоторой временной активизации симбиотических тенденций, дезинтеграции, как сетуют традиционалисты и монокультуралисты, или, напротив, находятся в эпохе «цветущей сложности»9, как утверждают адепты политики культурного разнообразия, невозможно. На мой взгляд, США всегда были и остались пограничной культурой (не в смысле физического нахождения между двумя цивилизациями, но в смысле реальной негомогенности, симбиотичности, постоянных пророчеств о наступлении желанного синтеза) в реальности, а не в официальной идеологии, несмотря на отчаянное стремление убедить себя самих и остальной мир в обратном и наличие, казалось бы, ипротивоположных тенденций, таких, как предельная интенсивность и структурированность, сегодня выросшая в уродливую форму «макдональдизации бытия и культуры», если воспользоваться термином Джорджа Ритцера10. Об этом говорит и анализ культурных реалий США на более широком историческом фоне.
Цивилизаторский пафос и претензии на уникальность, как известно, всегда свойственны молодым нациям, и были особенно характерны для США, ведь объективно они действительно были уникальной страной. Если перечислить одни только лежащие на поверхности национальные исторические варианты идеи американской уникальности, выяснится, что она просуществовала, не слишком изменившись, с зарождения Америки как идеи до самого недавнего времени. Своеобразными вехами на пути ее развития стали старая идея <^гапз1айо»11, с оптимизмом по поводу Нового Света и мыслью о том, что драма человеческой истории разворачивается в пяти актах от Эдема до Америки, земли Обетованной и венца цивилизации, пуританская провиденциальность с метафорой Града на Горе, с новым, обращенным в будущее идеалом «государства-церкви», провозглашавшего уникальность исторической и прежде всего духовной миссии Америки, и секуляризованные и огосударствленные просветительской риторикой и образностью«Соединенные Штаты» (дитя Просвещения), уникальная и невиданная доселе «могущественнейшая из стран» — цитадель справедливости, равенства, свободы, «приют умелых, трудолюбивых, удачливых, счастливых, убежище для несчастных». Ряд может быть продолжен сохранившимися на протяжении всего XIX века, хотя и обретшими новое, порой глубоко личностное измерение в различных формах философских, исторических, этических и эстетических, а не только государственных доктрин представлениями об Америке, горделиво шествующей впереди других держав к неминуемому и скорому мировому господству, что в XX веке, как известно, приобрело и вовсе тотальный характер, просуществовав до последнего десятилетия, когда, победив, по собственному убеждению, в холодной войне, США снова, уже в который раз, оказались в тупике национального самоопределения. Эти идеи американской уникальности и сопровождавшие их не всегда осознанные споры между различными вариантами центробежности ицентростремительности становящейся, неоформленной, вечно незавершенной национальной культуры оставались одним из важнейших факторов внутренней культурной динамики в США. Однако, даже просветительская идеология в наиболее соответствовавшей доктрине американизма форме содержала в себеростки сомнения и возможность двоякой интерпретации, что сегодня активно используется сторонниками мультикультурной парадигмы. Так, новый синтетический пафос большинства мультикультурных утопий нередко обнаруживает связи с не вполне просветительским неоуниверсализмом, основы которого часто пытаются найти в забытых или ранее по-иному интерпретировавшихся элементах национальной традиции, в частности, в многочисленных попытках реинтерпретации американского девиза «е pluribus unum» (из многих одно), эмерсоновского «все и каждый» и т.д. Проблемой, однако, было и осталось претворение этой дарованной свыше и/или сознательно культивировавшейся уникальности в некое определенное, устоявшееся качество, которое можно было закрепить навсегда, освободив американцев от необходимости постоянно доказывать собственную уникальность остальному миру и самим себе.
Хрестоматийными стали на сегодняшний день рассуждения о том, что США нельзя назвать нацией или народом в общепринятом смысле, что даже сам термин «американский» был как бы «создан» для того, чтобы стало возможным сотворить искусственный, идеальный, как вскоре выяснилось, утопический мир, провозгласить себя нацией, вопреки отсутствию единых национальности, прошлого, культуры, долгое время и единой (достаточно сильной) политической системы. В этом смысле, интересно, что поначалу колонисты называли американцами и вовсе индейцев, противопоставляя им самих себя, как носителей европейской культуры и традиции, так что нынешний политически корректный термин «Native American» в какой-то мере является возвращением изначального смысла, вкладывавшегося в слово «американский».
Современные толкования национальной культуры самими американцами зачастую лишены ностальгии и апологетики, столь присущих заокеанской историографии, социологии, культурологии еще совсем недавно и Iнередко отличаются скепсисом по отношению к собственной державе, которую /называют «нацией, созданной из иммигрантов, рабов и побежденных аборигенов, где управляли и распоряжались европейцы». Это касается в разной степени книг таких ученых, как Грегори Джей, Поль Лаутер, Арнольд Крупат и др12. Но уже в написанной в 50-е годы XX века и несомненно требующей корректировки, хотя и по-прежнему популярной в США книге «Америка как цивилизация»13, исследователь Макс Лернер, опираясь на культурную ситуацию и идеологию Америки середины XX столетия, весьма отличные от сегодняшнего контекста, тем не менее явно стремится отказатьсяот господствовавших в США несколько десятилетий назад представлений об Америке как культуре прежде всего в основе англосаксонской и пуританской и пишет об исторически невероятном пересечении, смешении, ассимиляции14 различных идеалов, образов жизни, систем ценностей, принесенных от разных культурных источников, в молодую развивающуюся цивилизацию. Лернер ставит на одну доску, уравнивает в правах хотя бы в пределах своего высказывания многочисленные традиции и субтрадиции, национальные и этнические группы — каждую с уникальным культурным наследием, что и составляют в итоге, по его мнению, культуру Америки. Потому в достаточно схематичной интерпретации исследователя соседствуют и разделены всего лишь запятой «группа эмигрантов из Азии — будущие индейцы» и «группа с Британских Островов и из Западной Европы», «группа из Африки» — чернокожие рабы, будущие афро-американцы» и «группа из Средиземноморья, Центральной и Восточной Европы, с Востока и из Латинской Америки» (13; р.11), которую, строго говоря, и группой-то назвать нельзя в силу слишком уж явных, непреодолимых отличий, существующих между ее разнородными по времени возникновения и по характеру влияния на американскую культуру элементами. В результате, американская цивилизация, воспринятая в таком одновременно синхронном и диахронном срезе становится «многоязыкой этнической рекой», в которой элементы сосуществуют, но окончательного слияния не происходит15. Лернер справедливо и достаточно рано обращает внимание и на своеобразный парадокс американского мышления, не всегда осознаваемый самими американцами, но очевидный при взгляде со стороны: жители страны по существу являются в той или иной мере иммигрантами, и поэтому иммигрировать в США на несколько поколений раньше считается более престижным, согласно своеобразному американскому варианту «права давности» (13; р.78).
Культурологи и социологи Тодд Гитлин, Грегори Джей, Поль Лаутер и многие другие в книгах, написанных преимущественно в 90-е годы XX века, то есть спустя более трех десятилетий после «Цивилизации» Лернера, заметно перещеголяли его в своих негативистских, «снижающих» прочтениях американской истории и культуры, толкующих Америку как «сборище» иммигрантов, а не великую державу. Для них необъяснимым парадоксом выглядят упрямые претензии этого государства на уникальность своей миссии, настойчивая либеральная и в, конечном счете, идеалистическая вера Америки в то, что люди сами должны и могут творить свою судьбу. Акцент в культурных исследованиях последних лет смещается с простогопостулирования американской уникальности, оценивавшейся ранее неизменно с положительным знаком, на попытки более отстраненного определения этой ключевой черты, оказывавшей весьма противоречивое влияние на формирование национального сознания, порой, стремление поставить ее под сомнение. Внимание оказывается все больше привлечено к таким проявлениям американской уникальности, как закономерности и парадоксы культурного подавления, доминирования, аккультурации и т.д., в результате которых бывшая колония так быстро стала сама огромной колониальной империей, где понятие официальной нормы и идеала, достаточно произвольное, более того, существовавшее часто лишь в сознании нескольких впоследствии канонизированных мыслителей, обрело довольно скоро столь непререкаемый смысл, что целые группы людей, не подходивших под эти определения, ожидала культурная немота, насильственная ассимиляция, «невидимость». Однако, нужно иметь в виду, что в культуре США существовала уже очень давно и система промежуточных форм приспособления, которая не отменяла существования устойчивых субкультур даже в присутствии сильного, подавляющего влияния доктрины американизма. Речь здесь идет прежде всего об афро-американцах, которые нередко рассматривались вне американской традиции, так что не принимался во внимание факт невозможности существования национальной традиции без ее афро-американской компоненты. То же можно сказать и о еврейско-американской традиции, и можно предположить, в будущем, можно будет сказать и о латиноамериканской и азиатско-американской традициях внутри культуры США16.
В романе «Редберн» («РесШигп»,1849) Герман Мелвилл писал: «Мы (американцы - М.Т.). — не столько нация, сколько мир»17. Это на первый взгляд парадоксальное утверждение писателя объяснялось не в последнюю очередь тем, что мелвилловская Америка сохраняла еще очень сильное ощущение собственной маргинальности по отношению к Европе, к бывшей хозяйке — Великобритании, от которого ей удалось освободиться окончательно, особенно в сфере культурной, лишь в XX веке. Но мысль о том, что Америка — не нация, а мир неожиданно подтвердилась спустя более ста лет после мелвилловского пророчества, став сегодня вполне конкретным геополитическим фактом, знаком, с одной стороны, культурной глобализации, активно проявляющейся в США, а с другой — «американизации» всего остального мира.
США с самого начала характеризовались отсутствием этно-расового, религиозного и даже языкового единообразия, что вместе с долгое времясохранявшимся региональным, культурным разделением, постоянной экспансией на Запад, позднее, с массовыми волнами иммиграции вело к насущной необходимости создания хотя бы в идеале единой национальной культуры, даже если это требовало подавления большинства внутренних различий. Для подобной нации (цивилизации) основным и очень болезненным становился и остается по-прежнему вопрос — КТО МЫ ? Ответить на него однозначно и в позитивном ключе было трудно и национальная идентичность формировалась как бы во многом от противного, обретала очертания в определениях того, что не было американским, что было чужим для «воображаемой» культуры-идеала, той цивилизационной модели, к которой стремилась Америка, и стало быть, должно было быть из нее исключенным. Американское было прежде всего, по определению «не европейским», принадлежащим Новому, а не Старому Свету. Потому пересекающий океан человек — ив XVII, и в конце XX века, по словам того же Лернера, обосновываясь в Новом Свете, совершал отцеубийство, в «эдиповом» отчаянном жесте отказываясь от «старосветского» наследия (13; р.23—28). Антиевропейские, часто «нативистские» и экстремистские в своем скором желании отказаться от Европы настроения мно'гих американских мыслителей прошлого широко известны (в этом ряду окажутся такие разные люди, как Р.У. Эмерсон и Т. Джефферсон, У. Уитмен и У.Г. Симмс). Интересно, что им почти полностью вторит каждый из новоиспеченных иммигрантов, словно заново проходя в своей личной судьбе и в индивидуальном опыте болезненное отторжение бывшей родины и связанного с ней прошлого. Американский филолог и поэт кубинского происхождения Густаво Перес-Фирмат образно пишет об этом феномене в автобиографии, объясняя, что если Куба для него осталась навсегда матерью, то Америка стала «почти женой»18.(^Уже в первых текстах Нового Света постоянно подчеркивался, как известно, пафос новизны, как и острое внимание к проблеме национальной и групповой идентификации. Так, в 1782 году выходят известные «Письма американского фермера» французского иммигранта Сент Джона де Кревкера, в которых он называет американца «новым человеком, действующим согласно новым принципам», обращая внимание на проблемы взаимосвязи и отталкивания американской и европейской культур, выступая за развитие американских тем в отечественной литературе, которой еще только предстояло появиться на свет, и объявляя Америку центром грядущей цивилизации разума, где все «ново, мирно, благодетельно, устремлено в прекрасное будущее». Интересно, что немедленно разразился скандал, связанный спроблематичной идентичностью самого автора — американского колониста с почти двадцатилетним стажем, обвиненного в Европе в том, что он на самом-то деле француз и католик и потому не может выступать от имени «американских фермеров»^|Так, уже в судьбе Кревкера проявилась характерно болезненная для современности проблема репрезентации, о которой пишут все исследователи, интересующиеся вопросами посткультурной традиции и постколониализма — проблема права того или иного индивида выступать от имени культурной группы, своей или чужой, а также его адаптивной и репрезентативной культурной способности. О границе между «своим» и «чужим», между «я» и «оно», между американцем и не американцем, каким бы условным ни был последний термин, заявляется уже очень рано, практически еще до существования Америки как отдельного государства. И не столь важно здесь, кто и когда выступает своим и чужим. Важен сам этот принцип дихотомического деления, который сохранится до самого недавнего времени.
Определение того, каким был «новый», еще только «создающийся» американец, и в чем была суть его отличия от остального мира, занимало многих мыслителей, в том числе и не американцев, причем их взгляд извне иногда оказывался более зорким и со стороны им удавалось лучше ухватить американскую культуру — как целое и как сумму различий. Одной из самых известных попыток оценки Америки и американцев с европейской точки зрения стала, конечно, книга француза Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке», написанная в результате его путешествия в США в 1831 году. В ней есть множество тонких и справедливых замечаний, многие из которых актуальны и по сей день, хотя определенные элементы культуры и формирующейся национальной идентичности нового государства Токвиль и не способен был понять в силу личных пристрастий и идиосинкразии, и в силу особенностей времени и собственной национальной традиции (слишком молодой была американская демократия, когда ему пришлось с ней познакомиться). Европейскому сознанию, еще не привыкшему серьезно воспринимать эту новую державу, трудно было оценить многие элементы, которым лишь предстояло получить развитие в будущем. Однако основная дихотомия, выделенная Токвилем, и развитая затем такими его, возможно, невольными последователями, как Дж. Сантаяна, а именно — противопоставление американской культуры как целого Европе, сохранилась до сегодняшнего дня, хотя условность американской да и европейской культурной целостности все чаще меняет смысл подобногопротивопоставления. В определенных, важных аспектах скопировав свою культурную систему и «традицию» с европейской, американцы по иронии судьбы довольно скоро (всего через два столетия) столкнулись с теми же проблемами, что и не знавшая еще недавно, как их интерпретировать, Европа. Историк-культуролог Уоррен Сасмен отмечает: «Отцы-основатели не хотели создавать государство в европейском смысле. Правительство, которое они создали, было не способно ( и не призвано) затрагивать индивида-гражданина в каком-либо существенном смысле — в определении гражданства, вопросе уплаты налогов, возможной военной службы. Гражданская война и послевоенные годы изменили все это. Развитие бюрократической машины, которая теперь принимала решения, привело к тому, что к концу XIX века родилось государство, почти равное по своей полицейской функции, если не превосходящее в этом смысле любое европейское»19.
Очевидно и то, что в недолгой американской истории периоды форсирования относительного культурного единства (обычно совпадавшие с общенациональной опасностью в любом виде — от индейцев до коммунистической угрозы) сменялись неоднократно периодами разнообразия, которое процветало напротив, во времена отсутствия или внезапного устранения угрозы национальной культурной целостности, когда становилось возможным обратиться к неразрешенным внутренним проблемам американского самоопределения.
Взаимоотношения с европейским прошлым, традицией, а позднее и с прошлым вообще, представляли собой модель, в которой как в зеркале отражались парадоксы формирующегося американского сознания, каким бы многообразным и практически не сводимым в одно целое оно ни оказалось в итоге. Отвергая прежний, доамериканский опыт, вовсе не обязательно негативный, иммигрант и в прошлом и сегодня чаще всего понимает, что именно он-то и дает истинный смысл и драматическую глубину его нынешнему американскому существованию. Сжигая мосты, он начинает жизнь с чистого листа, надеясь на лучшее будущее, изо всех сил стараясь стать «человеком, сделавшим себя» не только в смысле материального успеха, как это нередко примитивистски толкуется, но и в смысле отказа от связующих нитей с культурой, семьей, прошлым, традицией и т.д.
Неверно было бы и интерпретировать отказ от прошлого и «житие» в будущем, как новую американскую черту, не свойственную Европе. Само это стремление ведь оформилось в недрах европейского западного сознания и это из Старого Света иммигранты привозили и продолжают привозить с собойобразы и стереотипы Америки, которые надеются совместить с реальностью по ту сторону Атлантики. Несмотря на великое разнообразие различных групп поселенцев, все они прибывали в Новый Свет с готовой идеей Америки как Земли Обетованной, рога изобилия, свободы и благополучия, богатой ресурсами страны, в которой хватит места всем. Пресловутая «американская мечта», которая во многом заменяет несуществующую в традиционном смысле национальную идею в США, по существу, также — мечта старосветская20. «Золотая Америка» становится, как известно, уже в эпоху Возрождения одним из мощных культурных мифов Европы и неотъемлемой частью европейской традиции. В этом благополучно сохранившемся до сегодняшнего дня глобальном мифе об Америке как ностальгии по золотому веку и потерянному раю, вдруг получившим возможность реального воплощения не в мифическом прошлом или неясном будущем, но в обозримом, близком настоящем, слились и споры сторонников и противников «естественного» образа жизни по поводу преимуществ дикости и цивилизации, связанные с «инаковостью» вновь открытого континента и его обитателей, и социальные утопии, вроде книги Томаса Мора, место действия которой — Новый Свет. Трагикомическая метафорика «Бури» Шекспира, точно и сказочно-параболически представившая взаимоотношения культуры-поработителя и разных вариантов (не)подчинения, и вовсе нещадно эксплуатируется сегодня культурологами — сторонниками постколониального проекта21. Рамки исследования не позволяют подробно остановиться на судьбе «американской идеи» в Европе и европейского наследия в США. Это тема отдельного и весьма обширного исследования. Мы же имеем дело скорее с заключительной стадией этой культурной войны между США и Европой, длившейся в течение нескольких веков, в которой в целом победила все же Америка, несмотря на тот ценностный и культурный кризис, который она сегодня переживает.
Добавим только, что несмотря на активное внешнее отторжение американцами европейского наследия, философская и культурная связь и диалог со Старым Светом оставались очень тесными в течение длительного времени, сохранившись и до сегодняшнего дня, хотя и заметно ресемантизировавшись. И приходится говорить не об абсолютной новизне, но скорее об уникальном сочетании известных и старых культурных элементов в новом контексте, в их часто парадоксальном взаимодействии. Отсюда, возможно, и попытки некоторых современных исследователей «прочесть» Америку как постмодернистский текст, составленный из осколков и остатков ранее существовавших традиций, и при этом нередко бессознательно иобъективно иронический по отношению к ним, а в последнее время все больше и по отношению к себе.
Сегодня Америка несомненно переживает один из периодов массовой неуверенности в завтрашнем дне, в очередной раз сомневается в реальности существования себя как великой державы — примера для подражания, идеи, в которую долгое время верили американцы. Таких периодов было за короткую историю США довольно много. Даже если ограничиться только последним столетием, можно будет насчитать несколько случаев, когда маятник национального доверия явно склонялся в сторону антиамериканскую — от настроений отчаяния и безверия конца XIX века, через время левого радикализма прогрессистской эры, к ценностному кризису времен Великой Депрессии, к политическим и культурным волнениям 60-х, наконец, к их более трезвой и даже циничной реплике-пародии — 90-м годам XX века. Метафора счастливого и гармоничного разнообразия, к которой часто обращаются современные американские исследователи культуры — назовем лишь Рональда Такаки, автора книги «Другое зеркало»22, подробнее о которой ниже, — оказывается в конечном счете не применимой в попытках концептуализации современного кризиса национальной идентичности и в конечном счете традиции. Повсеместный и болезненный интерес к ее определению и пересозданию в США в этом смысле полностью соответствует пафосу «пограничья» или скорее его коллективному культурному комплексу неполноценности. При этом и 100, и 200 лет назад, и сегодня срабатывает американская провиденциальная в основе, но обретшая сегодня довольно банальную форму жизни в кредит закономерность жития в будущем и будущим. Поиск идентичности соответственно также ведется в неопределенном будущем (Америка лишь будет, а не есть !) и по-прежнему определяется от противного. Тем важнее понять «метафизику» национальной мечты-идеала Америки, отшагавшей свои первые 200 с небольшим лет, поставить ее в различные контексты, подвергнуть различным испытаниям. Этим по преимуществу и заняты сегодня не только многочисленные историки культуры, но и те, кто создает и пересоздает художественные образы уже не столь Нового Света — в литературе, искусстве, кино, театре, музыке, массовой культуре.
Еще какие-нибудь 20—30 лет назад любые, даже самые беспощадные толкования «образов Америки» прошлого и настоящего все равно хранили в себе пафос обращенности и главное, веры в будущее, в утопический идеал, были лишены, за очень небольшими исключениями, пессимизма и цинизма поотношению к будущему США, пронизаны верой в то, что история их не завершена, в ней все возможно и все возможности по прежнему в человеческих руках, стоит только возродить принципы равенства, демократии, свободы индивида, и все встанет на свои места. Сегодня картина в большой мере изменилась — роль государства и принципов государственности в повседневной жизни американцев в значительной мере формализовались, если, конечно, не иметь в виду агрессивные попытки их реанимации официальной массовой культурой, заведомо обреченные на провал. Специфический американский индивидуализм, столь старательно культивировавшийся в течение нескольких столетий как идеал, в итоге не только сделал интерес к общественной и особенно политической жизни одиозным синонимом «антиамериканского» поведения, но, обнаружив шаткость принципов, на которых он зиждется, неизбежно вызвал очередной всплеск «антиамериканского» по сути стремления к прошлому, корням, семье, групповой, но не социальной, не идеологической, а культурной общности. Достаточно расплывчатые гражданские основы американизма — социальное равенство, личная свобода, застывшие довольно скоро в наборе официальных орнаментальных символов Америки, скажем, флаге, гимне, некая аморфная идея национального сообщества, тем более такие предельно условные феномены, как образ жизни, выделяемый многими приверженцами американской культурной гомогенности как основной, никогда не играли и тем более сегодня не могут играть такой уж важной роли в самоопределении американцев23. Заботливо культивировавшаяся на протяжении нескольких поколений индивидуальная сфера вкупе с сегодняшним недоверием к официальным основам национальной идеологии сделали особенно закономерным в случае с США переход к определенным суррогатам общественной, коллективной целостности, в большой мере противостоящим государственным, официальным и официозным формам американизма.
Одной из основных категорий, которой до самого недавнего времени не задумываясь, оперировали не только политики, но и культурологи, историки, писатели, пытаясь определить американскую национальную культуру и идею, была, как известно, «мечта» — не четко сформулированное национальное видение, но предельно расплывчатая, хрупкая, смутная субстанция, к тому же сугубо личностная по определению, то есть не разделяемая всеми и потому невидимая для всех, и в конечном счете, в принципе нереализуемая, ни в форме озарения, скажем, Града на Горе, ни в виде розового Кадиллака и «домов мечты» Элвиса Пресли, которые все равно не приносили владельцамжеланного чувства удовлетворения, ни наконец, в виде нового симулакра огромного универсального магазина, как наиболее современного и, по выражению Дж. Ритцера, сумасшедшего выражения «американской мечты» потребительского рая послевоенного образца24. Сам статус «мечты» как заменителя национальной доктрины, предполагал в какой-то мере и постоянные переосмысления, которым она подвергалась от эпохи к эпохе, от индивида к индивиду, указывая на ее амбивалентность и тем самым приглашая к постоянному ее пересмотру.
Поэтому Америка и становилась своего рода коллективным ожиданием, гигантской и всеобъемлющей, нереализованной, но ждущей реализации потенциальной возможностью, ассоциировать себя с которой было заманчиво, но почти невозможно, особенно для обычного, среднего сознания, поэтому и легко переводившего метафизическую субстанцию (мечты) в сугубо материальный план. А попытки закрепить, остановить вечное ее движение и изменчивость, определить раз и навсегда природу национального сознания и идеи, неизменно оканчивались неудачей. В противоречивой эволюции американской мечты25 хотелось бы заострить один момент, а именно взаимосвязь личностного и общественного аспектов ее бытования, несоответствие между индивидуальной мечтой и мечтой культурной группы или субтрадиции. Если обратиться только к реалиям XX века, выяснится, что практически каждое десятилетие в США (нередко, каждый новый президент с собственным вариантом национальной доктрины) несло с собой очередной вариант осмысления мечты, попытки совместить в этом аморфном и достаточно гибком феномене чаяния и надежды эпохи — эры прогрессистских реформ и красных 30-х, материального преуспевания и конформизма 50-х и связанной с ними идеологии поколения «бейби бумерс»28 и нового этоса времен правления Кеннеди.
Сегодня личностный (индивидуалистический) аспект мечты не работает так же, как и общественный. Мечта незаметно и прочно перешла в разряд воображаемых, неопределенных, неопределимых и невыполнимых идеалов, причем бытует характерно, главным образом, в сфере субкультурной. В американской социологии, особенно популярного толка, почти повсеместно можно встретить рассуждения о «мечте» лишь в сугубо прикладном, прагматическом смысле — в контексте весьма распространенных сегодня рассказов об успехе отдельных «национальных меньшинств» (ныне это чаще всего представители азиатско-американских групп населения), якобы добивающихся «полной ассимиляции». Тем самым происходит смешениесовершенно различных по времени и культурной атмосфере дискурсов — язык ассимиляции относится в целом еще к социал-дарвинистской модели, попытка примерить его к интерпретации ранее невидимой субкультуры является знаком иной эпохи, иного языка, иной системы репрезентации. Подразумевается, что для неассимилированных субтрадиций достижение мечты, пусть и скорректированной, по-прежнему актуально, в то время как для «настоящих» или еще того хуже «нормальных» американцев мечта уже потеряла актуальность, поскольку либо дарована им реализованной, либо полностью редуцирована до частной, индивидуальной проблемы личного преуспевания, будучи лишенной своего национального и тем более нравственно-этического измерения. Культура тем самым как бы официально имеет два лица — одно для «своих», другое — для культурных «чужаков», которые на сегодняшний день составляют в США большинство. Нулевое наполнение мечты, как прежнего двигателя развития и самосовершенствования, с которым столкнулись сегодня представители «мейнстрима» или культурного ядра, переставшего быть нормой, безусловной точкой отсчета, и осознанные и неосознанные попытки различных субкультур узурпировать место центра не случайно оказались в центре множества дебатов в самых различных сферах — американские интеллектуалы почувствовали (или поняли), что именно в границах этой дихотомии теперь должна и будет решаться в очередной раз проблема определения и (вос)создания национальной американской идентичности.
Характерно, что современный американец, не отмеченный какой-либо культурной маргинальностью, не ассоциирующий себя ни с какой субкультурной традицией, нередко оказывается не способен определить свою идентичность вовсе, она оказывается как бы нулевой, пустой. Поэтому он и называет себя «нормальным», то есть, согласно утратившему авторитет набору качеств национального характера, обладающему лишь личностной идентичностью. Можно согласиться со словами культуролога Р. Росальдо, утверждающего, что «полноправное гражданство и культурная видимость развиваются в обратной пропорциональности друг к другу»27. Лишенное красок культурного определения, выступающее как культура, ничем и никак не означенная, но и не способное к самовоспроизводству лишь в личностной сфере, бывшее культурное ядро начинает закономерно искать различные способы «самооживления», от реакционных попыток отрицания и подавления всего, что на него не похоже до более конструктивных, космополитических усилий умеренной ревизии своей структуры и в частности, канона путемвключения в нее ранее маргинальных или невидимых элементов. На некоторых особенностях этого процесса я остановлюсь ниже.
Негативистское определение американской культуры и американца «от противного», о котором говорилось выше, находило свое наиболее полное выражение в периоды национальной опасности, когда становилось необходимо сплотиться против всего, что на данный момент не считалось «американским», будь то индейцы или реальная и вымышленная «иностранная угроза» в виде французов, испанцев, британцев, русских. Реалии фронтирного существования, завоевания и покорения «дикости» также способствовали выработке национального самосознания, как и Гражданская война, интерпретировавшаяся нередко как война за сохранение Союза, то есть в основе, национальная и даже националистическая. Этот пафос отрицания ощутимым образом сохранился и до сегодняшнего дня в клятве натурализации, которую декламирует каждый новоиспеченный гражданин США, весьма отличной от клятвы преданности, и по сей день ежедневно начинающей школьный день во многих городах и весях Америки. В первом случае негативистский пафос превалирует, так что новый американец публично отказывается от верности и преданности всему неамериканскому (королям, государствам, гражданам и т.д.), в то время как во втором тексте провозглашается в позитивном ключе преданность «флагу США, стране, которую он символизирует, ЕДИНОЙ и НЕДЕЛИМОЙ нации со свободой и равенством для всех». Подобная предельная простота и несколько сентиментальное приравнивание флага к стране (знака к значению), своего рода обожествление национальной символики по-своему уникальны и во многом являются защитной реакцией на подспудную, коллективную неуверенность американцев в существовании себя самих как нации. Отсюда и цивилизаторский пафос представления себя как уникальной, многосоставной, хотя при этом, и единой общности, не нации, но мира — Нового Света, со своим менталитетом, образом жизни и абсолютно уникальной «мечтой», которая одна и должна держать вместе всю ту разноликую массу индивидов, что претендуют на звание американцев.
Интересно, что в формообразующей для США Декларации Независимости ни разу не употребляется термин «американская нация», но зато есть слово — неамериканский (или скорее, антиамериканский). Постепенно оформляется и некая подразумеваемая молчаливым большинством условная схема, согласно которой отделяют «своих» от «чужих», американцев от неамериканцев, формируется реальноемировоззренческое выражение девиза «е р1ипЬиэ ипит», скорректировавшего первоначальную самостоятельность индивидов до подобия национального единства. Подспудный ужас по поводу собственного национального «несуществования», иллюзорности целостности культуры преследовал американцев на протяжении всей их истории, выражаясь в страхе перед центробежными тенденциями в развитии культуры, что приводило к периодическим, звучащим и теперь жалобам на недостаток ощущения общности и единства в собственной стране.
Незавершенное самоопределение и связанные с ним различные образы Америки, тиражировавшиеся внутри культуры США, оказывали и продолжают оказывать непосредственное влияние на восприятие Америки, и американцев в других странах. Причем отношение, как известно, варьировалось от восторженного восхищения до неприятия и полного отторжения. Американцы были всегда многолики и для себя, и для остального мира, выступая то народом, опрокидывающим все и всяческие авторитеты, то апологетами экономической свободы, то хрестоматийными белыми диктаторами. Произвольность национального идеала и идентичности постоянно давала о себе знать в разного рода утопиях — социальных и художественных — от фермерского идеала Джефферсона до неудачного эксперимента Брук Фарм, от мормонизма до футуристических утопий Эдварда Беллами. С рубежа XIX—XX веков утопии все чаще стали уступать место дистопиям.
Многие комментаторы справедливо отмечали, что США были с самого начала страной умозрительной, как бы «выдуманной», ее идея неизбежно оказывалась «некрепко сшитой». Внешне выходило, что страна и нация были «образованы» документами — Декларацией Независимости и Конституцией, придававшими им весьма условные единство и оформленность. Америка была парадоксальной страной, которая лишь хотела и стремилась стать Америкой. Просветительский пафос созидания, переводивший конкретные и зачастую прикладные задачи государственности в сферу решения фундаментальных законов бытия, устройства мироздания, был противоречивым, так что очень скоро выяснилось, что приложить его к реальным перипетиям бытия в Новом Свете просто невозможно. В мою задачу не входит оценка «Декларации Независимости» как просветительского текста или социокультурной и политической основы американизма, однако отмечу, что, рассуждая о «естественном праве», «общественном договоре» и других элементах нового идеала мироустройства, «Декларация» с просветительскимуниверсализмом игнорировала то, что разные люди (разные колонисты, разные «американцы») могли иметь и разные интересы, возможно даже противоположные тому достаточно схематичному идеалу, который был отображен в документах американского Просвещения. Знаменитый принцип равенства («все люди созданы равными» — не все колонисты, не все белые, даже не все американцы), провозглашенный в «Декларации», неизбежно должен был прийти в столкновение с объективными различиями между разнородными группами будущих граждан великой Америки. Не менее уязвимым, хотя и беспрецедентным по столкновению общественной и глубоко личностной сфер было и известное изменение в тексте Декларации, внесенное Джефферсоном по сравнению с трактатами Дж. Локка, из которых он почерпнул многие из своих доводов: вместо локковых права на жизнь, свободу и собственность Джефферсон объявил приоритетом новой нации право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Прекраснодушный просветительский лозунг оказался слишком общим, расплывчатым и допускающим любые толкования, как показало время. Правда, требовать от него иной риторики было бы странно, как странно было и рассчитывать построить национальную идею и идеологию на таких неустойчивых подпорках, как, в сущности, очень сильно обусловленная конкретным историческим контекстом и не менее конкретными задачами Декларация Независимости, бывшая просветительским памфлетом-обвинением, но не текстом, могущим претендовать на универсальный, внеисторический смысл. Отсюда и современные попытки реанимации американского Просвещения, всяческих модернизаций его принципов.
Условность и неокончательность Конституции — второго формообразующего документа американизма — ощущали и сами американские просветители. Не случайно, скажем, Джефферсон ратовал за ее пересмотр и исправление каждые 20 лет, подчеркивая принципиально децентрализованный идеал государственности. Каким бы уязвимым и утопичным он ни казался многим современникам и потомкам, парадоксально и во многом, вопреки себе, Джефферсон оказался прав и именно ослабленный, децентрализованный вариант государственности и национальной доктрины, пусть и бесконечно далекий от его «фермерского идеала», и установился в конце концов в США, несмотря на попытки добиться противоположного. Не случайно сегодня многие американские культурологи и социологи, следуя логике Ж. Деррида, деконструктивируют текст Декларации, подчеркивая, что ее субъект — риторическое «мы» — появляется на бумаге раньше, чем в реальности, так что американский народ оказывается наговоренным,«заговоренным» Декларацией, как заклинанием — его еще нет, когда произносятся ее слова и «мы» американского народа рождается в процессе речевой «репрезентации»28.
Критиковать Просвещение стало сегодня модно, в силу тотального воздействия на культурные и исторические исследования постсовременных и антилогоцентрических философских концепций. Ни у кого и не вызывает сомнения, что такие расплывчатые просвещенческие лозунги, как пресловутое стремление к счастью, условны и не равны для разных групп американцев, скажем для рабовладельца и раба, или для новоиспеченного иммигранта и потомка новоанглийских пуритан, который считает себя единственно «настоящим» американцем.
Но интересно другое : если в Европе Просвещение пришло и «благополучно ушло», оставив, конечно, по себе «документы», войдя органично в национальную традицию, оказав заметное культурное и философское влияние, результаты которого ощущаются и по сей день, но все же не определяют всецело современные национальные идеологии и доктрины, то в США судьба национального варианта просвещенческой идеологии и философии оказалась несколько иной. Одной из причин было, вероятно, то, что момент образования США как государства и попыток провозглашения их нацией совпал по времени с расцветом просветительской мысли, оказавшись на долгое время как бы точкой отсчета, от которой отталкивались практически все последующие американские мыслители в своих попытках определить будущее Америки как нации, государства, великой державы со своим особым путем. Поэтому, даже осознаваясь как все более архаичная, просвещенческая модель не могла уйти в США так легко, сменившись последовательно иными философиями и миромоделями, будучи синонимом или суррогатом национальной идеологии, но скорее только надстраивалась более поздними элементами, скажем, не менее важной для национальной доктрины, рожденной уже в XIX веке и потому обращенной к конкретной человеческой личности, как бы восполняя просветительский «пробел», доктриной «доверия к себе» Эмерсона, романтического негативистского по отношению к просвещению «экспрессивизма», первой в истории США самостоятельной национальной философии прагматизма, который также, отрицая Просвещение, был внутренне с ним в большой мере связан. Свою роль несомненно сыграло и отсутствие или сознательное уничтожение в США более древних по времени и более глубоко запрятанных в национальную традицию и ментальностьпластов. По словам Г. Гачева, Америка долгое время росла «сверху и сбоку»29, а не из земли.
Уже относительно недавно, в XX веке, во время очередного кризиса национальной идентичности в США в 60-х годах, когда осмысление реальности казалось бы настоятельно требовало совершенно иной риторики, нежели просвещенческая, американское сознание, пытаясь полностью переосмыслить прежний исторический опыт и создать модель нового общества, все равно привычно отталкивалось от «сакральных» просвещенческих текстов, как от единственной точки отсчета, значимой в национальном масштабе. Именно подобным парадоксальным «отрицающе-преемственным» пафосом проникнуты, например, речи Мартина Лютера Кинга. Сценарий «бурных» 60-х во многом проигрывается сегодня заново. Отсюда и возобновившийся интерес к Просвещению — не только в связи с постмодернистскими спорами о природе истины, к которым Америка, как всегда, с некоторым опозданием, присоединилась, наконец, в полной мере лишь в конце XX столетия, но и в связи с не всегда осознанными попытками переосмыслить значение основных национальных установлений и не ставившихся ранее под сомнение затверженных идей.
За неимением традиции, общего прошлого, а также в сознательном стремлении начать жизнь с чистого листа, национальное единство американцы искали до самого последнего времени и за очень небольшими исключениями в будущем, в воображаемых, нереализованных общих возможностях. И себя самих поэтому воспринимали как еще не существующих, но тех, кто только должен скоро появиться на свет. При этом путь, средство достижения туманной цели, и постоянные метаморфозы на этом пути становились нередко важнее, чем сама цель — «судьба воплощенная», вечно отодвигавшаяся, как линия горизонта. Наличие постоянных потенциальных возможностей, какими бы невыполнимыми они ни оказались в итоге, для американцев было едва ли не важнее собственно достижения реального успеха. Поэтому рождение в США долгое время не означало автоматически права носить звание американца.
Патриотический пафос созидания, незавершенности страны, национальной идентичности, сознания сохраняется довольно долгое время, и первые, не слишком многочисленные группы иммигрантов легко подвергаются воздействию заразительного необычным сочетанием идеализма и повседневной приземленной деловитости американского оптимизма и веры в будущее, жаждут стать американцами — смотреть вперед, а не назад, в будущее, а не в прошлое. Так, современный американский писательмексиканского происхождения Ричард Родригес называет Америку страной усыновленных детей, гигантским детским домом: «Как и статуя свободы, дядя Сэм не имеет своих детей, он их ворует, чтобы сделать из них настоящих людей, издеваясь над покорностью, скромностью, памятью. Он американский Савонарола. и у него нет времени на капризы маменькиных сынков»30.
Правда, идиллия безоговорочной ассимиляции несколько пошатнется и потребует новых идеологических подпорок уже в последней четверти XIX века, периоде, напрямую связанном с предпосылками сегодняшнего глобального пересмотра культурной модели в США. Именно тогда массовая иммиграция из стран Юго-Восточной и Центральной Европы опрокинет метафору «чужеродной, иностранной капли в англосаксонском море». Но вплоть до сегодняшнего дня идея жития в будущем, а не в прошлом или в настоящем останется в Америке необычайно важной для массового сознания, активно насаждаемой, как неразложимый остаток заметно пошатнувшихся, но все еще живучих представлений об «американской мечте», позволяя американцам достаточно безболезненно менять наполнение понятия национальной идентичности, реагируя на быстро меняющуюся реальность.
Г. Джей, справедливо отмечая одну из важных сторон национального американского сознания, хотя и игнорируя при этом наличие прямо противоположной тенденции, отмечает : «Наша нация регулярно страдает от исторической амнезии — мы не любим и не хотим помнить прошлое и соответственно учиться на его уроках. Свобода от прошлого ведь всегда была нашим национальным мифом, ключом к нашим достижениям в будущем. Мы по-прежнему убеждаем себя в том, что получили свою уникальную культурную индивидуальность в момент, когда отказались от Старого Света — думая, что новый мир появится только потому, что мы сбросили с себя старый и переназвали себя — каждый американец в какой-то момент бывает Джеем Гетсби. Мы все время тиражируем ошибку исторической амнезии, продолжая творить мифы. Как иначе объяснить, что сегодня нация, состоящая из иммигрантов, экспроприированных народов и импортированных рабов спорит по поводу правомерности мультикультурализма?» (28; р. 60) Это утверждение весьма симптоматично для американских попыток переосмысления национальной истории и этоса последних лет в смысле некоторого упрощения реальной картины культурного развития США и прежде всего, преувеличения степени прежнего реального «единства» и единообразия страны а также отрицания прошлого.
В реальности, а не в официальной идеологии США всегда были многонациональной, поликультурной, мультиязыковой, многосоставной в расовом, религиозном и иных смыслах страной. Хотя, с другой стороны, даже такой явный элемент объективного многообразия, как расовый, оказывался в США в известной мере искусственным и обманчивым. Ведь кроме практически истребленных индейцев, с которыми не произошло никакого мало-мальски серьезного культурного контакта, не говоря уже об ассимиляции или смешении, в США не было ни одной группы, которая могла бы обеспечить глубинную связь с более древней культурной традицией. Даже обычный сценарий рабства и колониального порабощения здесь обретал искусственный оттенок — поскольку сами рабы были иммигрантами, да еще и не по своей воле вырванными из родной земли, лишенными корней, и потому привычное распределение ролей в этой пьесе культурного и экономического порабощения оказывалось в значительной степени скорректированным по отношению к особым американским условиям.
Если с культурами, в которых сохраняется четко автохтонный, древний слой как основа культуротворения, а модернизация является чем-то поверхностным, позднейшим, оппозиция «свой/чужой» работает традиционным способом, то в США древние культурные слои были в большой мере уничтожены, причем и «свои» в культурно-географическом смысле, и чужие, привнесенные (скажем, индейцы и будущие афро-американцы). Поэтому сегодняшняя внешне довольно резкая, хотя и исторически подготовленная смена культурной модели, основанной на истреблении, умолчании, а не на реальном смешении, на модель культурной многосоставности и как ни странно, часто добровольной неосегрегации, отмечена свойственными, наверное, лишь США парадоксами. Здесь «чужак» — не иностранец или потерявший связь с древней культурой человек, но напротив, как раз тот, кто эту связь сохранил. С другой стороны, нередко «чужаком» предстает в постсовременной культуре Америки индивид, несущий традиционные американские ценности, вдруг обнаруживший, что окружающее пространство живет по иным и непонятным ему законам, так что теперь для подобной ранее свободно ориентировавшейся в культурном пространстве США личности весь окружающий мир становится чужим. Отсюда и типично американские парадоксы: «свой чужак», аутсайдер, как носитель подлинной нормативности и т.д.
Происходило и обратное влияние глобальных мифов американизма на реальность, и всячески пропагандировавшееся национальное единство в индивидуальном многообразии на просветительских, позднеетрансценденталистских, а затем и прагматистских основах становилось невольно идеалом и для тех, кто в этом сценарии оставался на задворках или вовсе изгонялся из культуры, а порой и самой реальности. «Антиамериканскими» были естественно в этом смысле не только цветная кожа или странный акцент, но и противостояние общепринятым морально-нравственным установлениям, образу жизни, приверженность семье и прошлому, традициям и групповой идентичности любого толка, помимо воображаемой американской общности. Таких исключений из правил было в США всегда в избытке, однако лишь сегодня их количественный и качественный рост привел, наконец, к настоятельной необходимости осмысления не просто самих этих явлений в контексте национальной традиции, но и, в определенной мере, в смысле корректировки понимания этой традиции.
Многообразие и многосоставность внутри американской культуры существовали задолго до того, как возникли современные споры о мультикультурализме, как окончательно оформилась и приобрела национальное значение «Доктрина явственной судьбы» (в русской традиции также, «явного предназначения»), до начала осмысления проблемы «плавильного котла» и парадоксов ассимиляции иммигрантов. Американская культура в реальности оказывалась достаточно пластичной, чтобы вместить в себя элементы, казалось бы, совершенно ей чуждые. Ее динамичность и ускоренность большинства процессов, которые в традиционной культуре растянулись бы на гораздо более длительный срок, а также отсутствие реального, устойчивого культурного центра, несмотря на многочисленные попытки его создать, также оказывали влияние на сохранение центробежного, плюралистического начала в этой культуре.
Общая «инаковость» американской культуры по отношению к европейской дробилась внутри Америки на множество частных субъекгно-объектных отношений, каждое из которых оказывалось важным для национального менталитета в определенный период. Это могли быть бинарные оппозиции, связанные с региональным делением молодого государства — Запад/Восток — на протяжении всего периода освоения фронтира и движения на Запад, Север/Юг — с первых десятилетий XIX века, обострившиеся в годы предшествовавшие Гражданской войне и сохранившиеся до самого недавнего времени. Это могли быть и оппозиции, характерные для Америки на протяжении практически всего ее существования и основанные на расовом мифе, прежде всего, конечно, белый/чернокожий (или затем вообще, любой«небелый») или важные для национальной истории и менталитета деления на англосаксов и неанглосаксов. В последние годы к этим оппозициям присоединились и «неоуниверсальные» противопоставления, например, мужчины/женщины. Практически всегда они отличались стремлением провозгласить один из полюсов нормой, причем нормой прежде всего как выражением истинного «американизма», а другой — отклонением от нее, что приводило к периодическим жестоким культурным войнам, а также требовало «нормальности» как единственного способа выживания. По словам одного американского социолога, американцы были подвержены периодическим «крестовым походам» и «культурным чисткам», даже в то время, когда чистить было собственно говоря еще нечего. В последние десятилетия большинство этих оппозиций потеряли в той или иной мере свой абсолютный характер, и особенно наглядно это видно на примере эволюции регионального аспекта развития американской культуры в его взаимосвязи с феноменом культурной многосоставности, на чем я остановлюсь ниже31.
Ассимиляция или плюрализм ? Национальные культурные модели XIX—XX веков.
Идея жития в будущем и представление о собственной стране, как мечте, которая лишь должна воплотиться, в истории американской культуры довольно рано дополняется и противоположной тенденцией — склонностью к периодическим, ностальгическим призывам «вернуть золотой век старой Америки» (или позднее, с начала XX века, более прикладным вариантом — извлечь уроки из прошлого, которое может быть использовано — в частности, из «пригодного к употреблению прошлого»1 Ван Вик Брукса). Культуролог У. Сасмен называет это вечным поиском американцами самооправдания и самообожествления через собственную национальную историю2. Этот идеал постоянно оказывается смещен на порядок или несколько порядков назад и по сути внеисторичен, ведь то, что он рисует, будь то аркадия южной плантации, еще не потревоженной Гражданской войной, или «честный капитализм» индивидуалистов, добивающихся своего богатства упорным трудом в духе Горацио Элджера, наконец, иллюзия культурного единства и целостности, которую рисуют сегодня апологеты монокультуры и незыблемого канона,.никогда не существовало в реальности. Всякий раз, когда наступало великое будущее, выяснялось, что несовершенное прошлое-то как раз и было наиболее близким воплощением национальной мечты и идеала. Уже в XIX веке происходит слияние идеи истории, как инструмента «цивилизации», и идеипрогресса в различных материальных и духовных формах, что значительно упрощало и рационализировало представление об истории и будущем страны у «среднего» американца.
В XIX веке формируются и два основных, противоположных взгляда на американскую культуру, в той или иной мере просуществовавшие до сегодняшнего дня. Оба они основывались на обращенности в будущее и вере в уникальную миссию родной страны, в этом смысле кардинально отличаясь, скажем, от фронтирной модели культуры Фредерика Джексона Тернера, постулировавшей маскулинный характер американской цивилизации, вышедшей, по его выражению, «из леса», а не из церкви, но при этом, в какой-то мере, и пессимистической, поскольку с закрытием фронтира будущее всей цивилизации, так тесно с ним связанной, оказывалось под вопросом. Отсюда, кстати, и возникшее через некоторое время как реакция на теорию Тернера стремление «выдумать», создать взамен исчезнувшего, «реального» фронтира его заменитель, т.е. иными словами, опять-таки придать смысл национальному движению в будущее.
Первый идеал был весьма охранительным и «исключающим» по своей природе, стремившимся оградить Америку от дальнейших посягательств на ее и без того весьма условное культурное единство. Позднее он в наиболее законченном виде выразился в обретшей к концу XIX века массовый секуляризованный характер «Доктрине явственной судьбы». С этим идеалом связаны в частности историки — творцы и пропагандисты демократически-националистического по своему пафосу варианта национальной доктрины, направленной против сепаратистских тенденций в культуре и за возможно более полное единение и централизованную власть. Прежде всего речь идет об У.Х. Прескотте, Ф. Паркмене и, конечно, Дж. Бэнкрофте, авторе влиятельной «Истории США от открытия Американского континента до настоящего времени» (1834—1875). Второй идеал отличался большим плюрализмом, известной терпимостью, упором на различные модели смешения этнических, религиозных, лингвистических элементов, в результате «замеса» которых и должен был получиться новый американец. Следы последнего идеала можно в разрозненном виде встретить у таких мыслителей, как Р.У. Эмерсон или, к примеру, в поэтическом идеале «нации наций» У. Уитмена. Не случайно, наследие обоих сегодня активно эксплуатируется критиками, занимающимися проблемами разнообразия и культурной открытости. Уже в 1845 году Эмерсон со свойственной ему восторженностью писал, что на «американском континенте все нации смешаются, чтобы произвести на светновую расу, новую религию, новое государство, новую литературу и культуру — такие же жизненные, как новая культура Европы, родившаяся из темных веков Средневековья»3. Уитмен вторит Эмерсону в своей знаменитой метафоре «расы рас» отказываясь «от всего, кроме собственного разнообразия»4. Эти настроения, как выяснилось, не сводились в целом к романтическому пафосу XIX века, но благополучно дожили до сегодняшнего дня, сохранившись в идее Америки, как вечно нереализованной возможности, страны, которая «будет, а не есть», говоря словами поэта уже XX века — Ленгстона Хьюза.
Америка проходила и продолжает проходить через разные проявления центростремительных тенденций к унификации, лежащие в основе всех попыток определить, если не создать единую национальную культуру. Перечислим лишь некоторые из них : уже в 1798 году принимается Акт об иностранцах и бунтарях, в 30—40-е годы XIX века бушуют знаменитые «культурные войны», связанные с американизмом и нативизмом, выразившиеся, в частности, в деятельности таких организаций, как группа «Молодая Америка», призывавшая к созданию подлинно национальной литературы. В 1845 году создается Партия коренных американцев, не имеющая, как можно подумать, ничего общего с индейцами, но напротив, являющаяся «националистической» организацией, деятельность которой направлена против притока новых иммигрантов. В XX веке, в 1921—24 годах принимаются дискриминационные, расистские законодательные акты, впервые вводящие систему квот и положение о национальных корнях.
К концу XIX века США приходят к парадоксальному сочетанию и сосуществованию в одном, сравнительно кратком временном отрезке совершенно разнородных и противоречивых культурных явлений, напрямую влияющих на соотношение общего и частного внутри национальной культуры. Важную роль в ней продолжают играть пуританские идеи богоизбранности Америки и ее особого пути, несколько обмирщенные унитаризмом, и центростремительный, нациообразующий пафос американскогоПросвещения, выразившийся особенно ярко в риторике Декларации Независимости и Конституции, и вместе с тем, сохраняется и явственная тенденция к сохранению особого пути внутри нормативной культуры (прежде всего, в форме региональности).
Борющиеся центробежность и центростремительность, попеременное главенство то общего, то особенного в культуре Америки нашли своеобразное выражение в двух имеющих непосредственное значение для определения сегодняшних процессов, связанных с культурным многообразием,децентрацией и открытостью, весьма известных культурных моделях, одновременно близких друг к другу и неизмеримо далеких — Доктрине явственной судьбы и метафоре «плавильного котла».
Обе они были в определенной мере следствием парадокса, свойственного США, с одной стороны, так рьяно противостоявших всему европейскому в своем стремлении создать собственную реальную или хотя бы «видимую» национальную, интеллектуальную традицию, с другой стороны, естественно, осознававших, что полностью отказаться от европейских корней, во всяком случае, в том, что касалось философии, искусства, не прикладной науки, было невозможно, да и нежелательно. Нарочитый евроцентризм, который так раздражает сегодня многих мультикультуралистов, явление для Америки в общем-то, сравнительно новое. Сохранившаяся в коллективном бессознательном нелюбовь к Европе, однако, не отменяла факта ее превосходства в смысле наличия «традиции», не обращаться к которой американцы по-прежнему не могли. Вкупе с насущной проблемой оформления национальной идеи и идеологии в конце XIX века, этот не разрубленный узел взаимоотношений с европейскими сознанием и культурой привел к возникновению впервые в сколь-нибудь законченной и огосударствленной форме «монокультурализма» как официальной идеологии, история которой в дальнейшем будет неразрывно связана с подспудным, часто невыраженным ростом поликультурных обобщений и оценок национальной культуры, отдельные ростки которых, как упоминалось выше, также присутствовали в культуре США всегда. «Интеллектуальная традиция», которую надо было «выдумать» для Америки, по существу являлась слепком, почти точным отражением европейской культурной модели. Ее просветительский характер очевиден, несмотря на некоторые коррективы, внесенные сначала романтическим восприятием традиции, а затем и позитивизмом по-американски. Вместе с универсалистским пониманием традиции, как застывшей данности, американцы естественно позаимствовали из Европы и универсализм в понимании истины. Культурные различия должны были соответственно отменяться или затушевываться во имя универсальности, как высшего идеала, и по сугубо рациональным причинам. Универсалистский культурный идеал затем вчитывался в национальную историю и интерпретацию культуры и влиял на деятельность основных социальных, политических, культурных институтов в стране, благополучно дожив до сегодняшнего дня. Ведь еще совсем недавно можно было прочитать в солидном труде по истории культуры о том, что стирание локальных различий ипереход от частного к универсальному есть высшая цель культурного «прогресса» и знак формирования единой национальной традиции. В более конкретном, реальном смысле универсализм проявлялся как принцип сохранения этно-расового единообразия США в соответствии с лозунгом : «Сохраним Америку белой !»очередного доказательства американской уникальности, начала формироваться рано, будучи напрямую связана с пуританским провиденциализмом, а затем и с некоторыми просветительскими элементами бытования идеи Америки. Влияние доктрины на этапы становления и развития американского общественного сознания и образа культуры было и осталось необычайно велико5. Однако, нас интересует в данном случае заключительный этап в развитии этой идеологии, пришедшийся на последнюю треть XIX века, поскольку именно в этот период происходит окончательная секуляризация доктрины, а также ее активное приспособление к насущным проблемам продолжающегося формирования нации в новых условиях, после Гражданской войны, что связано в первую очередь с проблемой качественного сохранения англосаксонского превосходства внутри культуры США. Секуляризация идеи явственной судьбы помимо всего прочего придала ей в конце XIX века более очевидный воспитательный и массовый характер, что объяснялось уже упомянутой способностью американской культуры к временной унификации в связи с опасностью нарушения культурного единства извне. Не случайно, Доктрина явственной судьбы получает окончательное оформление именно в последней трети прошлого столетия. Пуританизм, как господствующая идеология, и религиозное сознание вообще довольно заметно утратили к этому времени свое влияние на национальный менталитет, а бурное развитие капиталистических отношений, конкурентной идеологии и индивидуализма, массовая иммиграция из Центральной и Юго-Восточной, а значит, не англоговорящей Европы, поставившая под угрозу англосаксонское превосходство в США, вкупе с важным влиянием философских и особенно научных, светских концепций типа философии Г. Спенсера, а также различных вариантов дарвинизма и т.д. привели к необходимости пересмотра старой и очень мощной религиозной подпитки национальной идеи.
Доктрина явственной судьбы.
Доктрина явственной судьбы (Manifest Destiny), как достаточно законченная и наглядная попытка выражения национальной идеи иИменно подобным конгломератом остатков пуританизма, англосаксонской идеологии и определенным образом интерпретированного спенсерианства и стал оформившийся к концу XIX века вариант Доктрины явственной судьбы, активным пропагандистом которого выступил, в частности, философ и историк Джон Фиск (1842—1901). Он попытался объединить и примирить идеи Г. Спенсера и своеобразно понятый эволюционизм с традиционной протестантской идеологией и теологией, способствуя переносу внимания своей многочисленной аудитории с проблем происхождения видов и естественного отбора на проблемы прогресса цивилизации и американского общества, иначе говоря, с биологии — на культуру. Массовая иммиграция конца века представлялась Фиску угрозой успешного претворения высшей миссии англосаксонской расы, и в последнее десятилетие XIX века он активно пропагандировал как можно более полную ассимиляцию вновь прибывающих путем их быстрой адаптации к американской культуре и вливанию в семью «мирных и свободолюбивых англоязычных народов». Фиск считал, что недалек тот день, когда весь мир будет англоговорящим, англосаксонским в религии и политике, английским по крови и по традициям. Были у Фиска и размышления о новом американце, который должен был воплощать в себе все возможные физические, интеллектуальные, духовные совершенства, будучи настоящим «венцом творения»6.
Вместе с историком Г.К. Лоджем Фиск создает Лигу Ограничения Иммиграции, вторя националистическому страху политического и культурного истеблишмента северо-восточных штатов перед иммигрантами, для которых, по мнению американцев, такие важнейшие национальные ценности, как индивидуализм, культ интеллектуальной и физической силы, самосовершенствование — якобы ничего не значили и которые упрямо не желали окончательно ассимилироваться, продолжая сохранять свои порой опасные и странные, «чужие» для Америки особенности. Американцы конечно и до 80-х годов XIX века постоянно сталкивались с опытом вновь прибывавших иммигрантов, многие из которых отказывались ассимилироваться и жили в небольших отъединенных анклавах, сохраняя свои этнические и национальные особенности, отвечая традиционалистской модели или криптоэтничности. Этот феномен не исчез и сегодня, когда в Америке сохраняется по-прежнему большое количество поселений, в которых иммигранты из Старого Света продолжают жить так, как хотят, сохраняя свои обычаи, не поддаваясь ассимиляции, и пытаясь противостоять культуре официальной Америки, сами становясь ее частью, при этом не живой, но часто театральной, музейной,следующей логике симулакра. Чего стоят Маленькие Италии в Бостоне и Нью-Йорке, многочисленные Чайнатауны, «Маленькая Гавана» Майами маленький Тегеран Чикаго и даже Французский квартал Нового Орлеана.«Плавильный котел», который станет важной частью следующей всеобъемлющей государственной национальной доктрины, конечно кипел, но не был способен переплавить всех без исключения, во всяком случае в обозримом будущем, которым привычно жили американцы. Массовый характер иммиграции конца века и ее тесная связь с урбанизацией и гигантскими темпами роста промышленности привели к тому что в 80-е годы возникли первые прецеденты отказа в иммиграции по расовым, этническим и идеологическим мотивам. Важную роль в этом процессе сыграл и Фиск со своей активной пропагандой доктрины явственной судьбы. Он вторил Спенсеру в рассуждениях о том, что до последней четверти XIX века Америка являла собой смесь «арийских» рас и потому массовая иммиграция грозила разрушить однородность страны. Кроме того Фиск считал, что конкуренция и борьба характерны лишь для низших ступеней развития цивилизации, и потому они могли и должны были быть уничтожены путем контроля за качеством окружающей «среды», оказывающей влияние на индивидов. В понятие среды включалось образование, незнакомое примитивным культурам, посредством которого развивались высшие интеллектуальные возможности человека, приводившие в свою очередь, по мысли Фиска, к альтруизму и миролюбию. Фиск нередко использовал важнейшие события и периоды в истории США в качестве иллюстрации верности своей философской позитивистской доктрины, в которой национализм сочетался с популярным социалдарвинизмом. В лекции «Явственная судьба» Фиск проповедовал слегка осовремененные идеи о великой миссии американского протестантизма, пуританской богоизбранности, подкрепляя их соответствующим образом интерпретированными историческими фактами периода Революции, победы северян в Гражданской войне, последовавшим десятилетием материального преуспеяния. XIX век воспринимался Фиском как эра, в которой завершалось совершенствование человеческой души в результате естественного отбора, так что развитие интеллекта и духовных качеств должно было взять верх над жизнью телесной. Не трудно догадаться, что именно Америка представлялась ему той страной, где эволюция должна была достигнуть своего венца, выразившись в создании нового высшего человека — белого американца англосаксонского происхождения.
Последние десятилетия XIX века действительно изменили Америку настолько, что удивляться замешательству и нередко паранойе англосаксонских «мыслителей» по поводу ее на глазах пересоздающейся культуры не приходится. Страх перед иммиграцией, которая хотя и не была столь массовой, как предыдущая волна 40—50-х годов XIX века, но в гораздо большей мере угрожала англосаксонскому превосходству, ассоциируясь нередко с угрозой анархизма, терроризма, потенциальной революции, способствовала в этот период всплеску националистических движений разного толка и новой волны нативизма. Новоанглийские интеллектуалы в своих попытках придать смысл движению страны в будущее, опираются на теории расового превосходства, проповедуя идею «терапевтической картины мира», основанной на старых и как будто забытых ценностях справедливости, альтруизма, способствовавших успешной интеграции личности с внешним миром, гармонии между природой и созданной человеком культурой. Ведущие журналы этого времени все более активно проповедуют доктрину англосаксонского превосходства и «явственной судьбы». «Харперс Нью Мансли» в 1886 году публикует статью под характерным названием «Выживет ли пуританин ?», «Атлантик Мансли» спустя десять лет задает сходный вопрос в статье «Сохранение американского (англосаксонского) протестантского типа», Д. Стронг в 1885 году выступает с проповедью против анархизма новых иммигрантов в статье «Наша страна, ее возможное будущее и ее сегодняшний кризис».
По контрасту с подобными апологетическими выступлениями в защиту англосаксонского приоритета, Г. Л. Менкен, известный сегодня главным образом как борец с «благопристойной традицией» в литературе, написал в 1923 году статью под названием «Англосакс», где обвинял представителей англо-саксонской «расы» в хвастливости, связанной, по его мнению, с комплексом неполноценности, а также, ударившись в другую крайность, объявлял основными чертами американского англо-саксонского сознания «никчемность, некомпетентность и трусость», называя его самой «нецивилизованной из всех существующих рас». Говоря о наплыве других этно-расовых групп в современную ему Америку, Менкен замечает, что их быстрое преуспевание раздражает англосаксов. Они словно от отчаяния, делают всевозможные усилия с тем, чтобы избавиться от этого чужеродного элемента путем отрицания или сокрытия. Эти усилия, по мысли Менкена, часто приобретают «гротескные или экстравагантные формы. Принимаются всяческие законы с тем, чтобы спрятать за решетку американских граждан,приехавших позднее, тысячей фантастических способов. Им мешают и даже делают социально небезопасным учить детей родному языку или сохранять унаследованные обычаи. Любое отклонение от нормы среднего англосакса расценивается как угроза благосостоянию общества и жестоко наказывается»7.
Интересно, что в 80—90-е годы нынешнего века представители так называемого «консервативного мультикультурализма», эвфемизма, обозначающего на самом деле упорную приверженность монокультурной модели, отстаивают несколько скорректированную, но по-прежнему ассимилятивную модель американской культуры в своих весьма популярных, пронизанных узнаваемым пафосом Доктрины явственной судьбы книгах, даже названиями весьма напоминающих рассуждения Фиска и его сподвижников: социолог Ричард Брукхайзер пишет об особом пути (и предназначении) белого, англосакса, пуританина, о том, «как он создал Америку и как он может спасти ее сегодня», другой весьма популярный исследователь современной культуры Лоренс Остер в еще менее поэтической форме называет свое исследование «Путь к национальному самоубийству: Эссе об иммиграции и мультикультурализме», наконец, едва ли не самый известный из защитников монокультуры Артур Шлезингер младший рассуждает о «разъединении Америки» в своих «Размышлениях о мультикультурном обществе»8. При этом и религиозные моменты Доктрины явственной судьбы, связанные с представлением о богоизбранности Америки, и ее социал-дарвинистский оттенок почти в неизменном виде перекочевали из публицистики конца XIX века в современные анти-мультикультурные исследования. Правда, и паника, и пафос современных «Фисков» не совсем оправданы — сегодняшний среднестатистический американец. (согласно регулярно проводимым исследованиям) конечно, не англосакс, хотя и не представитель «небелого» меньшинства, как спешат уверить соотечественников обеспокоенные обилием неевропейских лиц на улицах Америки консерваторы от культуры. Это. потомок иммигрантов немецкого происхождения. Более того, лишь 2 % населения современной Америки — потомки доколумбовых племен и покоренных мексиканцев, лишь 12 % — потомки африканцев. Прогнозы, которые так любят американцы (не удивительно, ведь они живут будущим !), говорят о значительном росте числа американцев латиноамериканского происхождения к первым десятилетиям XXI века®.
Конец XIX века был отмечен возникновением еще целого ряда культурных доктрин, сыгравших важную роль в формировании представления американцев о себе и своей культуре в дальнейшем. Однако, ни одна из них небыла столь повсеместной и популярной, как модернизированная Фиском Доктрина явственной судьбы. Исключением является пожалуй, только уже упоминавшаяся апология фронтира Ф. Дж. Тернера, утверждавшая западный характер американской цивилизации в противовес ново-английской интроспективной, «женской» модели культуры, связанной не в последнюю очередь с трансцендентализмом, о которой писал Генри Адаме в знаменитом противопоставлении Девы Марии динамо-машине10, а также и зарождающаяся активная прогрессистская модель начала XX века. Это культурное «беспокойство» конца века сигнализирует об обострении переходности, незавершенности, состоянии становления, в котором находилась в этот период американская культура.
Своеобразным, хотя и «невидимым» в тот период в культурном отношении контрапунктом к Доктрине явственной судьбы и культурным теориям прогрессистской эры послужили философские открытия прагматизма, фактически первого, более или менее самостоятельного философского учения в США, не считая, конечно, еще очень зависимого от европейского влияния трансцендентализма. Воздействие прагматизма на формирование национальной культуры сказалось в полной мере несколько позднее. Тем не менее, знаменателен сам факт присутствия прагматизма в культурном контексте конца XIX — начала XX века, который говорит о подспудном осознании американской культурой и отдельными мыслителями присутствия вариативности и неоднородности даже в периоды, когда официальная идеология играла гораздо более значительную роль, чем теперь. Речь идет даже не о прагматизме как таковом, а о том его особом варианте, который возникает в произведениях психолога и философа Уильяма Джеймса. Его, по видимому, мало интересовали конкретные, реальные парадоксы американского культурного многообразия и единства. Однако, идея открытой, принципиально незавершенной, бесконечной «плюралистичной вселенной», обладающей многими измерениями, несомненно содержала в себе вполне определенный онтологический и эмоциональный заряд, объективно противостоящий процветавшим в то время официальным концепциям явственной судьбы и стоявшим за ними монокультурным, универсалистским, евроцентристским доктринам. При этом Джеймс был достаточно лоялен по отношению к идее уникальной роли Америки и ее высокому предназначению и, подобно многим современникам, увлекался концепцией «терапевтической» воспитательной среды, которая путем мягкой эволюции должна была способствовать успешному развитию Америки. Но он не был согласен в целомс представлением о зле как результате плохой адаптации к среде, легко устранимом образованием, просвещением и благотворным влиянием общества, подозревая более глубинные, серьезные и неустранимые его причины. Занимая промежуточную позицию между трансценденталистами, с которыми Джеймса еще очень многое связывало, философией Г. Спенсера и попытавшимся их совместить учением Фиска, Джеймс и предложил свою концепцию «плюралистичной вселенной», в которой попытался найти удовлетворительное место злу в мире, что не удалось сделать его предшественникам — Спенсеру с идеей высших цивилизаций, Эмерсону с концепцией сверхдуши, с традиционной верой в бога и абсолютное добро. В плюралистичной вселенной зло выступало необходимым и даже обязательным элементом многосоставной и противоречивой реальности, с которым человек должен был бороться по собственному сознательному (волевому) выбору. Тем самым этический (традиционный для Америки) элемент становился во главу угла джеймсианской картины плюралистичного мира. Нам в данном случае, важен сам прецедент — то, что мыслитель предложил подобное, достаточно выбивающееся из культурного контекста его времени понятие. Не случайно, подлинный интерес к его теориям в США возник на несколько десятилетий позже и во многом, как это часто случалось в Америке, посредством обратного влияния из Европы. В каком-то смысле, возьмем на себя смелость утверждать, Джеймс предвосхитил философские искания, свойственные сегодня наиболее привлекательным, наименее инструментальным, предельно удаленным от сиюминутных политических целей культурных экстремистов и «нео-трайбалистов» теориям культурного разнообразия.
Другой влиятельный американский мыслитель рубежа веков — историк, философ и писатель Генри Адаме также размышлял о проблемах плюралистического начала в познании и интерпретации человеческого опыта и истории. Будучи практически первым американским историком нового типа, едва ли не основателем историографии как серьезной науки в США, он выдвинул идею «мультивселенной» и соответствующей ей теории познания и интерпретации, при которой многообразие конкретного опыта и его восприятия становилось необходимым условием успешного познания, ставящего под сомнение различные цели и ценности, а также способствовавшего междисциплинарному диалогу. В знаменитой автобиографии «Воспитании Генри Адамса» автор пишет : «Ребенок, родившийся в 1900 году, вступит в новый мир, который будет уже не единой, а многосложной структурой —«мультиструктурой», так сказать»11. Адаме попытался представить себе этот мир и воспитание, которое бы ему соответствовало. Воображение перенесло его в край, куда «никто еще не ступал, где порядок был лишь случайностью, противной природе, лишь вынужденной мерой, тормозящей движение.» Адаме не мог отрицать, что закон этого нового универсума, вернее — мультиверсума — объяснял многое, что прежде оставалось непонятным, и прежде всего, «почему человек беспрестанно обращался с другим человеком, как с врагом ? Почему общество постоянно старалось установить некие законы и столь же постоянно восставало против них, им же самим установленных ?. Почему торжество принципов свободы беспрестанно оборачивалось их перерождением в принципы насилия ? Но самой ошеломляющей показалась открывшаяся Адамсу перспектива — картина деспотизма с его искусственным порядком, враждебным, ненавистным природе» (11; стр. 547). Тем самым, начиная свое рассуждение с казалось бы совершенно отвлеченных эпистемологических проблем, связанных с расширением горизонтов мышления и децентрацией, свержением идеи порядка, иерархии, как идеала, Адаме незаметно переходит на социальные и этические проблемы, в этом смысле, на наш взгляд, представляя пусть в сжатом и неразвитом виде идеал мультивселенной и мультикультуры, который пытаются сформулировать многие теоретики сегодня.
Адаме отрицал понятие единой и единственной истины как цели познания, в большой мере построив свои доводы на новом для того времени понятии множественности, почерпнутом им из точных наук, и обратив его в конечном счете против этих же наук, претендовавших на объективность и абсолютность, а также разрушив просветительские и романтические философские триады, на которых строились современные ему историография и философия. Опыт Г. Адамса и У. Джеймса, отмеченный противоречиями векового «порубежья», оказался важен для сегодняшних культурных и философских дебатов в США и должен приниматься во внимание в попытках интерпретации динамики развития американской культуры и представлений о ней.«Плавильный Теория «плавильного котла» (melting pot),котел». запоминающаяся метафора которой былапозаимствована из названия пьесы 1908 года еврейско-британского драматурга Израэля Зангвиля, стала уже детищем новой «прогрессисткой» эры, в которой парадоксальным образом смешались остатки ностальгии поотношению к «старой доброй Америке», существовавшей в соответствии с обманчиво знакомыми мифами и идеалами, и активной, созидательной, уже во многом отмеченной прагматизмом национальной философии и сознания, рождавшихся буквально на глазах12. Вероятно, правомерно рассматривать «израильское видение Америки, как плавильного тигля, в который заливают металл изо всех стран, а великий алхимик нагревает и плавит смесь в своем очистительном огне», соглашаясь в этом смысле с Максом Лернером, в связи с близкими ему по времени и социо-культурному контексту явлениями. Ведь герой пьесы Зангвиля — это уже не та литературная «персона», что выступает в качестве фермера в просветительских очерках Кревкера. Не случайно он противопоставляет Рим и Иерусалим, куда «народы приходят молиться и оглядываться назад, в прошлое» — «славе Америки, куда расы и нации стекаются с тем, чтобы смотреть вперед ! Настоящий американец еще не явился на свет, он еще создается, он будет результатом смешения всех рас, настоящим сверхчеловеком»13.
Хотя некоторые исследователи ограничивают время популярности этой метафоры началом XX века, думается, они не правы. Она оказалась достаточно живучей и актуальной до сегодняшнего дня. Так, современный еврейско-американский драматург Тони Кушнер в полемичной пьесе 1991 года «Ангелы в Америке» — «гомосексуальной фантазии на национальные темы» и одновременно, попытке диалога с Зангвилем — прямо заявляет о том, что «Америка — это плавильный котел, в котором. ничего не расплавилось». В пьесе-коллаже Кушнера слились американская политическая история и хроника движения за свои права гомосексуалистов, брехтовское остранение и мормонская мифология, бродвейский китч и кабалистика. Попытки отождествить, наложить одна на другую еврейскую и гомоэротическую индивидуальности для героев пьесы оказываются на поверку не слишком удачными, приводя к еще одной, давно известной ассимиляционной модели, при которой необходимо пожертвовать каким-либо из своих «я» (в данном случае, еврейским) с тем, чтобы приспособиться к социо-культурной «норме».
Зангвиль был далеко не одинок в своей попытке предложить американской публике подновленную, но узнаваемую идею Америки как Земли Обетованной, «золотой двери», и одновременно, в удобной форме сообщить о своей лояльности господствовавшей культуре и идеалу американца как бывшего европейца14.
Как нетрудно заметить, метафора «плавильного котла» была близка по своему пафосу, как и по времени возникновения к светскому иэволюционистскому варианту «явственной судьбы». Однако важным отличием была смена англо-саксонской модели превосходства на пан-европейскую. Джоэл Кан, как и ряд других ученых, справедливо связывает появление протомультикультурной проблематики и дискурса в первые десятилетия XX века с развитием модернистской, в основе анти-техно-рационалистической онтологической модели15. В ряду наиболее близких к интересующей нас проблематике фигур, выражавших эту особую чувствительность, окажутся антропологи М. Мид, Ф. Боас, Р. Бенедикт, литературный критик Рэндольф Борн, который в 1916 году напишет: «Неудача плавильного котла вовсе не означает конца великого американского демократического эксперимента, но напротив, отмечает его начало. Чем бы ни оказался в итоге американский национализм, мы уже видим, что его окраска будет более разнообразной и удивительной, нежели наш идеал позволял нам представить ранее. В мире, который мечтает об интернационализме, мы сами того не зная, создавали и создаем первую интернациональную нацию»16. Характерно, что Борн, несмотря на свой подчеркнутый демократизм, не включает в эту национальную идиллию тех, кто действительно мог бы добавить разнообразных и удивительных оттенков в американскую нацию — представителей «небелых» рас. Для него, как и для большинства современников, интернационализм будущей, создающейся Америки представляет прежде всего или скорее только этнический, а не расовый плюрализм «евро-американцев», свободных от необходимости соответствовать лишь англосаксонским ценностям.
Для Фиска в основе концепции американской высшей цивилизации лежала протестантская этика, идеи англосаксонского превосходства, воспринимаемого прежде всего как превосходство расовое, а социал-дарвинизм становился лишь теологией с научным лицом, приводя к несколько одиозным представлениям о Боге, действовавшем путем естественного отбора. Ассимиляция, в представлении Фиска, поэтому становилась полным растворением, не предполагала сохранения каких-либо «инаковых» по отношению к англосаксонской культуре особенностей, а напротив, их полное подавление, истребление, но никак не растворение или переплавление в иное культурное единство, где расплавляемые элементы в определенной, хотя и очень ограниченной мере, все же могли влиять на основной англосаксонский компонент американской культуры. Именно подобным образом скорректированное представление об ассимиляции и вышло на первый план в метафоре «плавильного котла».
Америка в этот период стала восприниматься во многом как убежище для разного рода «иных», в том числе и прежде всего, меньшинств, выглядевших или действовавших не по-американски, но желавших стать своими в стране, которая их примет и станет их домом, ассимилироваться в соответствии с требованиями культурного ядра. Забегая вперед, скажем, что к середине XX века, то есть спустя всего несколько десятилетий после того, как началось активное насаждение «монокультурной» ассимилятивной модели, ее идеалы и принципы стали настолько повсеместными, проникли во все институты, отнюдь не только политические, но прежде всего культурные (скажем, в университеты), что стало практически невозможно мыслить и поступать вне универсалистских категорий, без риска оказаться выброшенным на задворки национальной культуры. Отказ от универсалистской модели и попытка выработки ее альтернатив не случайно оказались в центре внимания исследователей, реконструирующих сегодня маргинальные, невидимые, выключенные из культуры явления в истории, социологии, литературе и искусстве.
Культурное единообразие как официальная идеология касалось прежде всего высокой культуры, которая единственно и признавалась «культурой», хотя и многие популярные низовые формы выражали в доходчивом виде официальную идеологию, насаждая в сознании соотечественников идеал «среднего» или «типичного» американца. Не все низовые формы были нейтральными или апологетическими. Часто именно они оказывались «инаковыми», маргинальными, этнически окрашенными. Отсюда и своеобразное «запаздывание» — если в сфере массовой культуры представления о национальной идентичности были более пластичны и легко корректировались, то в сфере академического «канона» идеи англосаксонского превосходства и так называемых пуританско-республиканских ценностей очень медленно уступали место даже «плавильной» модели, в значительной мере запаздывая по сравнению с общественным сознанием. Не случайны поэтому горячие споры в начале XX века по поводу правомерности включения писателей-«неанглосаксов» в литературный канон, и даже простого их причисления к американской литературе.
Процветание монокультурного мифа тесно связано в США с периодом господства ассимиляционизма «плавильного котла», определявшего прежде всего, но не только, этно-расовые отношения и иммиграционную политику. Правда, как указывалось выше, подразумеваемый в этом случае набор основных социо-культурных и политических ценностей, который должен былсчитаться «американским» и которому нужно было следовать с тем, чтобы стать американцем, определялся довольно расплывчато и туманно.«Расплавление» в котле означало отказ, часто публичный и показной, от собственной индивидуальности, от того, кем буквально был человек — по имени, по культуре, и насколько возможно, по цвету кожи. Не случайно, в этот период развивается весьма активно модель двойственного культурного существования — в публичной сфере индивид старательно скрывает свои инаковые по отношению к американской норме черты, а в личностной и частной сферах они продолжают существовать. На первый план выходит и криптоэтничность, или зашифрованная этничность, когда по имени человека нельзя догадаться о его истинной этнической принадлежности и о степени его расплавленности, и желание «сойти за» «нормального» (белого) американца, маниакальное стремление к мимикрии, нередко сливающееся с идеей воплощенной «мечты» как привилегии «настоящих» американцев, которое не исчезло и по сей день, хотя модная политика культурного разнообразия и заставляет сегодня многих возвращать себе прежние фамилии, которые когда-то переделал на английский лад пересекший океан дедушка. Маскировка под «белого» была тесно связана с представлениями о красоте, о норме, господствовавшими в культуре17. Невозможность или нежелание «ассимиляции» означали автоматически стирание «другого» из (моно)культуры — в смысле репрезентации, символически, а часто и просто физически.
О феномене криптоэтничности пишет, в частности, канадская исследовательница Линда Хатчен18, сопоставляя американский и канадский варианты культурной ассимиляции, а также многие азиатско-американские авторы, для которых «криптоэтничность» связана с простым выживанием, а не с обретением социального статуса, как это было, скажем, в случае с еврейской традицией внутри американской культуры. «В США, в отличие от Канады, существует синкретическая идеология «плавильного котла» и при этом плюралистическая национальная идентичность, — пишет Хатчен, — «Этнические возрождения и культурный шовинизм там довольно скоро переросли в мультикультурном проекте рамки только расы и этноса и включили в себя такие элементы, как пол, сексуальную ориентацию, класс и т.д.» (18; р. 28). Пафос Хатчен, утверждающей, что классифицировать писателей лишь как членов этнических групп примитивно и недостаточно и ее призывы к динамическому транс-этническому видению, основанному на парадоксах полиэтнического взаимодействия, вполне отвечает современному мультикультурному дискурсу.
Практически все субтрадиции создали свою систему образов шутов и «трикстеров», посредством которых можно было «маскироваться» и обманывать «белого». В этом ряду были и еврейский грустный шут «эсЫетю!», перекочевавший в несколько модернизированном виде из фольклорной традиции в еврейско-американскую культуру, и афро-американский вариант «ниггера»-балагура, созданный в соответствии с примитивными образами «минстрел-шоу», под которого маскировались многие афро-американцы, «одурачивая» белых, и китаец, притворяющийся, что не понимает по-английски или соответствующий внешне речевым стереотипам в духе Марка Твена или Брета Гарта.
Важно отметить, что не все традиции и культурные группы, которым приходилось подвергаться «криптоэтнизации», оказывались просто страдающими и подавляемыми. Криптоэтничность, хотя и как часть плавильной метафоры, все же оставляла некоторую свободу ее носителям. Интересен в этом смысле опыт еврейской традиции внутри американской культуры. Вынужденная «криптоэтничность» этой традиции создавалась сознательно не только для выживания в до самого недавнего времени достаточно враждебной культурной среде19, но и парадоксально находила в американской традиции, характере, сознании целый ряд близких себе черт. Авторы знаменитых и для сегодняшнего обывателя таких «американских» бродвейских творений 30—40-х годов, как «Порги и Бесс», «Оклахома» были евреями (Леонард Бернстайн, Гершвины, Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн и др.), в тот период вынужденными это скрывать, пытаясь «сойти за американцев», и предлагая Америке наперебой свои варианты идеализированных представлений о ней, сценариев всеобщего счастья, в которых нашлось бы место и их творцам. В то же время, они часто зашифровывали в либретто непритязательных и патриотичных мюзиклов детали и знаки, понятные лишь еврейской нью-йоркской богеме первых десятилетий XX века, «изображая американцев», и. вместе с тем, обнаруживая в национальных американских идеях безместности, обескорененности, символической бездомности и антиаристократизма аналоги, пусть и со слегка смещенными акцентами, своей метафизической еврейской неприкаянности, неразрешимой даже на утопической земле, провозгласившей себя раем для всех иммигрантов. Более того, существовал и особый пласт еврейско-американской культуры начала века (прежде всего, это касается театра), который был целиком рассчитан лишь на еврейскую аудиторию, в меньшей мере зависим от белого истеблишмента, нежели, скажем, афро-американская театральная и музыкальная традиция в тот период.
Прекрасное в идеале, хотя и внутренне противоречивое подобие этно-расовой гармонии, воплощенное в идее «котла», было замешано на стандартном плюрализме раз и навсегда данных, зафиксированных культурных групп, которые могли, конечно, сохранить свои определенные особенности (в разумных, с точки зрения, англо-саксонского сознания, пределах), при условии твердого усвоения ими основ и ценностей доминирующей культуры.
Ассимиляционная модель просуществовала успешно на протяжении всего XX века и сегодня нашла выражение в позиции консервативных мультикультуралистов, которые сам принцип разнообразия толкуют как завуалированную ассимиляцию, так что особенности различных культурных групп могут становиться лишь своеобразными довесками к основной, «общей» культуре. Более того, завораживающая своей наглядностью и обманчивой простотой достижения метафора котла продолжала волновать многих писателей, художников, всячески переосмыслявших ее в своем творчестве, так что создавался определенный воображаемый диалог между различными вариантами художественного осмысления плавильной метафоры.
В период возникновения плавильной теории она была достаточно ограниченной в этно-расовом смысле, по существу сводясь к полемике по поводу целесообразности и допустимости включения в культуру представителей европейской белой иммиграции. Ни афро-американцы, ни индейцы, ни тем более представители неевропейских народов не могли быть включены в эту ассимилятивную модель. Пан-европейский характер плавильной метафоры не ставился под сомнение даже в наиболее, казалось бы, демократических моделях культурного развития, таких как «транснациональное культурное видение» Р. Борна. Судьбой же чернокожих и других «небелых» американцев была раздвоенность, о которой писал Уильям Дюбуа в формообразующей для будущей афро-американской литературной традиции книге «Души черных людей» (1903), рассуждая о двух непримиримых идеях, о метафизической раздвоенности американца-через-дефис, сознающего свою изначальную второсортность и выключенность из нормативной культуры. Лишь с 40-х годов XX века, когда стало уже невозможно политически и юридически пропагандировать официальное исключение афро-американцев из американской культуры, новые, лишь рождавшиеся нормы обеспечения расового равенства (по крайней мере, на бумаге) почти автоматически полностью переняли ассимиляционную модель «плавильного котла», созданную исключительно для белых иммигрантов.
Метафизическим аутсайдерам пришлось создать свое особое культурное пространство на границе культур, стать «маргиналами» не по собственному выбору. Поэтому одной из классических тем литературы этно-расового пограничья и стало испытание аутсайдерством, попытки отчаянно цепляясь за нередко весьма воображаемую основу собственного происхождения, культурных традиций, существовать рядом, параллельно, в обход и вопреки официальной культуре. К «черным голосам» уже на рубеже веков присоединялись постепенно и безмолвные пока для современников голоса иных сознаний «пограничья», так что сегодня можно уже говорить о довольно долгом невидимом существовании альтернативных американских субтрадиций, замешанных на рассказах о нерасплавленных, выключенных из реального мира, невидимых идентичностях. При этом практически во всех пограничных «традициях», прежде всего, конечно, этно-расовых, существовали и продолжают существовать фигуры, вполне разделявшие «плавильную» метафору. Среди самых известных назовем Ральфа Эллисона и Мартина Лютера Кинга, которые в силу своих умеренно-либеральных, ассимилятивных взглядов и попыток примирить идеи всеобщих свободы, равенства и счастья, просвещенческие идеалы и риторику официальной американской идеологии с интересами своей субкультуры и традиции, оказались весьма непопулярны у современных афро-центристов разного толка. Симпатий к плавильной метафоре не избежали и некоторые еврейско-американские авторы, в частности, Филипп Рот, а также, часть латиноамериканских по происхождению писателей, скажем, новеллист Ричард Родригес, автор пародийной биографии «Голод памяти».
Ассимиляционисты в 20-е годы XX века войны между таки плюралисты.называемыми «ассимиляционистами» и «плюралистами», в контексте которых и высказывались первые мнения по поводу мультикультурного будущего Америки, были по сути частью очередной американской кампании за определение национальной идентичности, американской цивилизации и культуры. Эта проблематика, в частности, нашла довольно полное и точное выражение в антологии под редакцией Гарольда Стэрнза «Цивилизация в США» (2; р. 115), опубликованной в 1922 году, где оценка современного состояния цивилизации как целого и путей ее дальнейшего развития, основывалась на трех идеях: явно существовавшем зазоре между тем, что проповедовалось во всех областях американской общественной жизни, и тем, что существовало на самом деле, насерьезном сомнении в англосаксонской природе современной цивилизации США, и на осознании отсутствия достойной традиции в сфере духовной, эмоциональной, эстетической, на которую могло бы опереться американское сознание в своих попытках дальнейшего цивилизаторского творчества. В подобном контексте война между ассимиляционистами, победившими в официальной идеологии по крайней мере на несколько десятилетий, и плюралистами, приобретала особый смысл, связанный напрямую с осознанием Америкой себя как нации, цивилизации — единой или многосоставной. Этот спор так никогда и не ушел в историю, не прекратился в течение всего XX века, но, напротив, в последние годы разгорелся с новой силой. Одной из важных задач в споре плюралистов и ассимиляционистов был вопрос о взаимосвязи расы (или этноса) и культуры (или различных культур), который мог решаться и путем и методами эволюционной антропологии XIX века с ее идеями расовой иерархии и биологическим, физиологическим объяснением социального развития, и посредством идей школы культурной антропологии Франца Боаса, отказавшейся от расовой эволюционной иерархии, особенно в вопросе прямой связи расы и уровня интеллекта, и провозгласившей культуру а не биологию двигателем социального развития, предложив новое ее определение, как релятивного, плюралистичного, сложного и исторически обусловленного явления20. В основе многих взглядов Боаса и его последователей, которых Дж. Кан справедливо называет не ассимилированными, но «вырабатывавшими новый тип отношения к собственной субкультуре и к господствующей культуре — сознательно маргинальный, синтезирующий, гибридный, медиативный» (15; р.118), лежали культурные концепции И. Г. Гердера, выдвинувшего, как известно, едва ли не впервые в истории Новейшего времени, в наиболее законченной форме идеал «аутентичности» как своеобразный отклик на закат иерархических общественных устройств, а также понятие «\Zolksgeist»21 как выражение комплекса закономерностей человеческого поведения в социальных и культурных группах.
Боаса закономерно заинтересовали идеи Гердера, связанные с проявлением аутентичности не в личной, духовной эволюции индивида (в большой мере романтически окрашенные), но в отношении целостной, отдельной культуры. Группа людей, народ, как и индивид, согласно Гердеру, должна быть верна себе, своей культуре. И в этом смысле для Гердера почти не было разницы между культурами «развитыми» и «примитивными», которым, полагал он, колониальные державы должны обеспечить шанс на свободноекультурное самовыражение. Взгляды Гердера, как известно, затем были положены в основу всяческих вариантов национализма — от самых мягких до самых непримиримых и экстремистских. Подобное же будущее ожидало и основанные на этих взглядах модели социо-культурного развития Америки, зародившиеся в первые десятилетия XX века.
В споре американских «ассимиляционистов» и «плюралистов» 20-х годов интерпретация идеи отдельной культуры и соответствующей ей этнической группы стала своеобразным камнем преткновения между сторонниками «котла» (ассимиляционистами) и приверженцами «салатной миски» (salad bowl — плюралистами), представлявшими культуру Америки с помощью нехитрой метафоры салатника, в котором ингредиенты находятся в постоянном контакте, но не перемешиваются и тем более не растворяются, рождая некое новое единство. «Салатная миска»22, несмотря на свою неэлегантность, была несомненно более адекватной метафорой — идеалом для будущего американского общества, во всяком случае, могла обещать большую справедливость по отношению ко всем его компонентам. Однако, в общественной сфере победила плавильная метафора, а вместе с ней и центростремительное, унифицирующее начало в развитии национальной культуры. Во всяком случае, эта модель была серьезно поставлена под сомнение лишь в 60-е годы XX века. Продолжая и развивая культурно-воспитательные, ассимилятивные в основе теории конца XIX века, типа «эстетизированной» среды, направленные на воспитание иммигрантов посредством соответствующего окружения, насаждения английского языка, как единственно возможного, «салатники» и «котловики» тоже направили свои усилия прежде всего на проблемы иммиграции и образования новых иммигрантов, которые оказались, естественно, очень тесно связаны с проблемой сохранения отдельных культур и их взаимоотношений с подразумеваемой единой американской нормативной культурой. Соглашаясь в определенной мере с теорией Боаса о принципиальном равенстве всех культур, ассимиляционисты рассуждали в то же время о том, что иммигранты — будь они из центральной и Восточной Европы или так называемые «внутренние» иммигранты, из сельских местностей в города, приезжая в огромные новые мегалополисы, попадая в иной для себя мир и будучи чужими этому миру, могли и должны были сбросить с себя прежние «культурные идентичности» и влиться в единую американскую культуру. Определение последней по-прежнему оставалось туманным, расплывчатым, лишенным уже однозначной определенности и оптимизма англосаксонского превосходства«Доктрины явственной судьбы», и одновременно, требовавшего по-прежнему от иммигрантов и своих собственных «маргиналов» самого разного рода соответствия некой подразумеваемой норме. В этот период норма еще больше лишается религиозного наполнения, основываясь лишь на идеалистических и весьма расплывчатых мифах равенства, свободы, независимости и пресловутой мечте, о двоякой роли которой в развитии национальной идеи и самосознания говорилось выше23. Достижение мечты для представителей «меньшинств» и сегодня предстает нередко как результат ассимиляции, компромисса, символического культурного раздевания, отчаянного старания соответствовать «американским» (уже не англо-саксонским) нормам и ценностям среднего класса, которые представляются универсальными. Соответствие индивида «западным» ценностям в противовес тем этническим и расовым вариантам, которые считаются традиционно «не западными», хотя условность и относительность подобного деления сегодня, конечно, очевидны, нередко означает для него полное разрушение собственной личности.
В качестве примера противоположной тенденции — плюрализма в культурной войне 20-х годов XX века можно привести книгу философа-социолога Хораса Кэллена под названием «Культурный плюрализм и американская идея» (1924)24. В ней автор настаивает на том, что различные культурные элементы не должны превращаться в амальгаму, целиком ассимилироваться и растворяться, но напротив, их нужно оставить в покое и дать им развиваться так, как им этого хочется, внутри американской плюралистической культуры. Обращаясь к некоторым идеям Боаса, Кэллен довел их как бы до логического завершения и выдвинул понятие этнической исключительности и нерасплавляемости, характерно воспринимавшихся им не как отрицательный элемент (по контрасту, для его оппонентов нерасплавляемость могла означать только культурное, а часто и буквальное небытие). Кэллен предложил термин «культурный плюрализм», подчеркнув космополитический характер американской культуры и постаравшись противопоставить его идеям ассимиляции. Но он не отказывался вовсе от идеи общей гомогенной культуры, хотя и несколько противореча себе, считал, что она не может и не должна быть создана путем ассимиляции культурных различий, и не допускал существования внутри Америки отдельных культур, никак и ничем не связанных между собой. Гражданские и государственные (в том числе и юридические) основы вкупе с идеей демократии должны были стать, по мысли Кэллена, связующим звеном между отдельными этническими, региональными и иными субкультурами внутри США. В этом смысле егопротиворечивые взгляды, конечно, несколько отличались от взглядов ассимиляционистов и скорее предшествовали современному умеренному либеральному мультикультурализму.
60-е годыТема и рамки исследования немодель «интеграции». предполагают подробного анализаразнообразных явлений XX века, подготовивших современный дискурс культурного разнообразия. Эти явления достаточно полно описаны в американской и отечественной критике, хотя и не всегда в специфическом ракурсе данного исследования. Я ставлю себе задачей лишь бросить беглый взгляд на различные модели национальной культуры и взаимодействия общего и особенного в ее пределах, которые сменялись в США на протяжении второй половины XX века. Едва ли не самым важным этапом в подготовке современных моно/мультикультурных дебатов был период конца 50-х — 60-х годов, когда монокультурная, гомогенная модель получила дальнейшую корректировку, во всяком случае, самой реальностью была более решительно поставлена под сомнение ее абсолютная непреложность. 50-е годы нередко выносятся за скобки исследователями, размышляющими о парадоксах Америки как децентрализованной культуры пограничья, как период еще слишком неясного, подспудного брожения. Они тем не менее были очень важны, поскольку именно через ряд специфических культурных явлений 50-х и, прежде всего, такие феномены, как битничество (связанное со всегда существовавшей в США традицией «духовного бродяжничества», как особой маргинальности, образа жизни и философии), осуществлялась связь уже устоявшихся, пусть и не принадлежавших истэблишменту, официальной культуре, явлений с тем внезапным лишь на первый взгляд культурным скачком, который имел место в 60-х годах XX века. Сегодня многие исследователи (причем и из лагеря монокультуралистов, и приверженцы поликультурной политики) справедливо связывают многое из того, что разрабатывается в современных культурных дебатах с открытиями 60-х. Процитируем слова одного из современных афро-американских авторов, практически неизвестного отечественному читателю, Ишмаэля Рида, неоднократно выступавшего в публицистке по вопросам мультикультурного лица Америки. В книге, характерно озаглавленной «Бокс на бумаге», он пишет: «Движение за гражданские права вдохновило мультиэтническое возрождение в литературе. Теперь многие пограничные авторы не были заняты тем, чтобы имитировать господствующие литературные нормы и стили, но напротив,обратились к воссозданию на бумаге устных традиций. В американской словесности появились «желтый» английский, «черный» английский, «красный» английский. Многие критики опровергали мультиэтническое возрождение, возникшее в 60-е годы с появлением нового поколения афро-американских, азиатско-американских, испано-американских, индейских писателей. Некоторые продолжают отвергать его как преходящую моду уже в течение более двух десятилетий»25.
Как бы ни оценивались эти истоки, а разброс мнений здесь очень широк — от признания, скажем, прямой преемственной и конструктивной связи с риторикой Мартина Лютера Кинга до не менее резкого ее неприятия и, напротив, ассоциации с черным культурным и политическим экстремизмом в духе «Автобиографии Малькольма X» и деятельности таких групп, как «Горилла Экшнз» от поэзии разрушения и агрессии Лероя Джонса (Амири Барака) и таких его менее популярных аналогов, как, например, китайско-американский драматург Фрэнк Чин, до известных столкновений полиции и гомосексуалистов в Стоунуоллских беспорядках в Нью-Йорке в 1969 году — отрицать глубинную связь сегодняшних культурных войн в США с событиями 60-х, и главное, с начавшей формироваться в этот период особой ментальностью, нельзя. Играет определенную роль, несомненно, и характерное свойство американского сознания, о котором пишут многие исследователи, в частности, историк-культуролог Уоррен Сасмен, утверждающий, что в силу короткой (и, добавим, в определенной мере, искусственно созданной) национальной истории или по другой причине, Америке всегда было свойственно оглядываться на недавнее прошлое и ностальгически вспоминать о нем, пытаясь найти в этом недалеком прошлом признаки обещанного но так и не претворенного «золотого века», идеала, окончательно исчезнувшего из современности и, в силу прожектерского национального характера, стремление немедленно реанимировать это прошлое, хотя бы в материальных знаках, в символике, в столь любимом американцами застывшем, овеществленном выражении всевозможных «возрождений» и «римейков». Так происходило, в частности, в 60-е годы, когда, как убедительно показал Сасмен, знаковым временем, к которому постоянно обращались американцы, были 30-е годы (2; р. 99—230). Периодом национальной истории, который выступает своеобразной точкой отсчета в современных культурно-исторических медитациях — порой в качестве идеала, порой воспринятый иронически, с ностальгией, с элементами пародии, стали сами 60-е. Обращение к ним происходит практически на всех уровнях, начинаяс политической риторики, и кончая художественной практикой. В частности, многие американские писатели, художники, кинорежиссеры сегодня переосмысляют наследие 60-х, оценивая его уроки, используя его зачастую как своеобразное «игровое поле», где можно экспериментировать, «переписывая», обыгрывая недавнюю национальную историю заново. Важно отметить, однако, что политический и культурный накал движений за гражданские права, этнических возрождений, «детей цветов» феминисток и т.д. — все то, что составляло противоречивые 60-е и дало им название «бурных», сегодня ушло в прошлое, «переварилось», перекочевало «с улицы в аудиторию», а художественные варианты осмысления наследия 60-х — это уже и вовсе «реальность» второго порядка, из которой практически совсем ушли политическая ангажированность и непримиримость, однозначность позиций и интерпретаций. Однако сходство самих явлений и понятий, из которых сплетается культура США сегодня и тридцать лет назад, не отпускает американского воображения и в этом смысле примеров можно привести очень много, причем как достаточно локальных, конкретных, осмысляющих определенные реалии 60-х, так и напротив, обобщенных попыток реинтерпретировать едва ли не всю национальную историю второй половины XX века. Здесь «семейный» роман Филиппа Рота, иронически названный «Американская пастораль», в котором одновременно подчеркнута связь с национальной традицией «фермерского идеала» и присутствует неожиданный и близкий поликультурному «беспокойству» 90-х ракурс, будет соседствовать с иронической сагой о Сан-Франциско Мэксин Хонг Кингстон «Клоун обезьянка, его фальшивая книга», написанной с учетом уже сформировавшейся временной перспективы, где явно обыгрываются парадоксы «культурной революции» 60-х, а в образе главного героя американская художественная «традиция» вступает в не всегда гармоничный диалог с идентичностью культурного «маргинала». Книга индо-американской писательницы Бхарати Мухери о потерянной и вновь созданной, собранной по крупицам из разных по времени и месту возникновения и бытования традиций идентичности, в которой переплелись наследие движения хиппи и сексуальной революции, спокойное среднестатистическое существование середины 90-х в богом забытом американском городке в штате Нью Джерси и атмосфера Беркли 60-х — «Я возьму это на себя» (1997) окажется в одном ряду с такими камерными, но тем не менее очень точными по психологическому настрою «возвращениями» и «возрождениями» 60-х с точки зрения 80—90-х, как рассказ Тони Моррисон «Речитатив» (1983) — история взаимоотношений«белой» и «черной» женщин с детства, проведенного в приюте, и до зрелых лет. Ни разу в рассказе Моррисон не говорит прямо о том, кто из героинь чернокожая, а кто белая женщина, тем самым отвергая само привычное представление о расовых делениях, «одурачивая» читателя, опрокидывая устоявшиеся стереотипы, так что он вынужден на протяжении всего повествования восстанавливать их расовую принадлежность из обрывков косвенных свидетельств и фрагментов исторических событий середины XX века, в частности, известной истории «интеграции» белых и черных школ, в результате которой героини оказываются временно в разных лагерях. Подобное очуждение известных всем недавних исторических событий — вообще весьма характерный прием современных переосмыслений национальной истории XX века в целом и ее отдельных элементов. В творчестве другой афро-американской писательницы Элис Уокер есть несколько таких, на первый взгляд, камерных вариантов переосмысления событий недавнего прошлого, основанных на необычности перспективы. В частности, речь идет о ее рассказе, названном предельно просто : «1955», в котором «очуждается» история взлета и блестящей карьеры Элвиса Пресли — живого символа американской мечты на лад 50-х. В центре внимания автора при этом находятся взаимоотношения будущей звезды с «неизвестной» афро-американской певицей — повествовательницей в рассказе, у которой Элвис и позаимствовал песню, сделавшую его популярным, а затем и жизненную философию, справиться с которой ему оказалось, однако, не по силам.
Различные политические проявления социо-культурного беспокойства 60-х — движение за гражданские права, разнообразные контркультурные инициативы, которые сегодня даже получают иногда название американского варианта «культурной революции», смена перспективы в национальной модели самосознания — с беспокойства по поводу иммигрантской угрозы всеобщее внимание переключилось на более глобальные, мировые процессы, и прежде всего, изменения, связанные с падением системы колониализма и повсеместным развитием движений за национальное, в том числе и культурное самоопределение, сигнализировали о переходе от по-прежнему превалировавшего ассимилятивного стандарта к новому понятию, выработанному сознанием 60-х — «интеграции» (integration). Идея эта означала прежде всего возникновение и оформление практически впервые достаточно эффективного контроля различных культурных групп, которым ранее отказывалось в самом существовании, над своим автономным культурным выбором и выражением, хотя и оставляло их в большой мере вмаргинализированном положении. При этом сохранялось и, как считалось, нейтральное культурное ядро, общее для всех, в том числе и для этих впервые заявивших о себе в столь организованной форме «маргинальных» культурных образований. Интеграция касалась прежде всего, хотя и не только, экономических и правовых аспектов, которые и должны были обеспечивать успешное взаимодействие «центра» и «границ». В этот период полулегальное, неассимилированное существование в форме криптоэтничности закономерно находит свое дальнейшее развитие. Общепринятая американская культура воспринималась как выражение принципов американизма, по-прежнему основанного на государственной идеологии, официальных знаках, символах, текстах. Подобная модель, естественно, быстро обнаружила свой внутренний дуализм — оставляя возможность культурного плюрализма для «границ» культуры, она тем не менее продолжала настаивать на незыблемости «общей культуры». Основные американские ценности продолжали определяться монокультурно. Интегративная модель была очень сильно привязана к определенному периоду в развитии культуры США и кроме того, оказалась довольно узкой в своих устремлениях, направленной на сглаживание конкретных противоречий и антагонизмов между различными группами. Ее инструментальные меры, такие, как история с неудавшейся интеграцией «белых» и «черных» средних школ, напоминали отчасти наивный оптимизм и прикладной, формальный характер мер эпохи Нового Курса Рузвельта. М. Лернер довольно точно определяет особенности интеграции как культурного идеала, созвучного настроениям середины XX века, и при всем стремлении автора представить его привлекательным, он выглядит наивным и утопическим: «Проблема состоит в том, чтобы удерживать несколько культур в органическом равновесии, сплетая их друг с другом, — пишет он, — «Вопрос связан не с тем, должны ли меняться старые традиции, ибо изменения, сопровождающиеся отчасти поглощением, неизбежны.Истинная проблема состоит в том, чтобы обеспечить такую скорость перемен, которая не была бы разрушительно высокой, позволяла бы не отрываться от отцовских корней, что лишило бы сыновей и внуков (иммигрантов — М.Т.) традиции, без которой невозможно никакое движение. Различие это не только в темпе, но и в характере, ценностной сути перемен. Это различие между ассимиляцией (улицей с односторонним движением), когда оставленное позади лишается всякой ценности и обрекается на уничтожение, и интеграцией, то есть круговой, встречной циркуляцией, когда новое национальное сознание придает старым традициям новое же измерение,а старая традиция придает эмоциональную глубину и укорененность новому культурному феномену»26.«Радужная Уже сравнительно недавно, послекоалиция» и неудавшейся идеи интеграции 60-х возникает еще«великолепнаямозаика». одна запоминающаяся метафора в духе «котла» и«салатной миски», внешне более привлекательная и эстетичная, однако не менее утопичная и расплывчатая по природе. Речь идет о «радужной коалиции», то и дело мелькающей сегодня на страницах журналов, газет, в научных дискуссиях, на экранах телевидения, наконец, в речах приверженцев культуры и общества разнообразия. «Радужная коалиция» (rainbow coalition), конечно, является лишь еще одним вариантом метафоры плюралистичной культуры. Однако, в это понятие разные комментаторы вкладывают разный смысл. Так, нередко размышляющая в своей эссеистике на тему американской культуры афро-американская писательница и критик Мишель Уоллес предлагает скорректировать радужную модель, реальная выполнимость которой у нее вызывает большие сомнения, и рассматривать ее как свойство сознания, перенеся в сугубо воображаемый, идеальный пласт. Уоллес предпочитает воспринимать культурную радугу не как простую сумму разных цветов, но как более сложный и динамичный символ расширения горизонтов мышления, вечно недостижимый, но желанный идеал или надежду, соответствующие как бы параллельному, находящемуся вне пределов, норм и принципов общепринятой культуры видению. Уоллес при этом прекрасно понимает, что «вымышленность», привнесенность, заведомая необъективность основных категорий, положенных в основу «радужной метафоры» (таких, например, как различные оттенки цвета кожи), унификация и монологизация, которой неизбежно подвергается для упрощения реальное культурное разнообразие, не оставляют надежд на достижение адекватности «радужной метафоры» конкретной, живой культуре27. Несколько расширив свою палитру, радуга все равно, конечно, не смогла избежать примитивизации — и «черный» цвет и термин «цветные» как и желтые, красные и т.д. — не вмещал и не мог вместить все возможное многообразие, и все равно ставил всех под одну гребенку — белых внешне и по воспитанию, тех, кто родился в США, и тех, кто приехал, тех кто расплавился и тех, кто не смог или не захотел это сделать. Метафора «радужной коалиции» помимо всего прочего возникает в тот период, когда так называемый корпоративный (консервативный) мультикультурализм — особенно в сфере транснационального бизнеса и, какни странно, академической среды, обрел особую силу. «Радугу» оказалось легко подвергнуть коммерциализации, превратить в еще один товар «общества потребления», опошлить в идее мировой сети магазинов — «Объединенных цветов Беннетона» или «мультикультурных мелков» для детей, подвергнув воздействию единственной действительно универсальной для США тенденции к «макдональдизации» материальной и духовной культуры.
Разновидностью «радужной коалиции» является и широко эксплуатируемая метафора «великолепной мозаики» (gorgeous mosaic), автором которой считается бывший мэр Нью-Йорка Динкинс. Будучи понята буквально, она также упрощает реальное многообразие, динамику и полифонический характер современной культуры США. В статье под красноречивым заглавием «До свиданья, Колумб ? Заметки о культуре критики» Генри Луис Гейтс мл. не случайно называет эту метафору красивой, но бесполезной28, поскольку она фиксирует каждую культуру в определенном месте и отделяет ее определенной же ячейкой от других культур, предлагая вместо этого восприятие культуры как диалога многих голосов, некоторые из которых смогли к нему подключиться лишь недавно. Такую динамическую, многоголосую альтернативу статичным моделям культуры предлагает теперь все большее число американских исследователей, не только афро-американский «мультикультуралист» Гейтс, но и Эдвард Сайд, речь об идеале «всемирности» которого впереди.
Заканчивая по необходимости беглый обзор основных американских «культурных метафор», имеющих отношение к формированию и бытованию дискурса разнообразия, упомянем и сравнительно недавнюю, еще не оформившуюся до конца модель, связанную с постструктурализмом и постмодернистскими концепциями истории. Вместо ассимиляции и интеграции она предлагает «инкорпорацию» (incorporation), подразумевая под этим не просто переосмысление «маргинализации» и предоставление власти и права выбора ранее маргинальным группам, не только вхождение в канон «другого» в небольших дозах, но попытки изменить доминирующую культуру изнутри, порой, отменить канон вовсе, деконструктивировать такие основные для дискурса разнообразия понятия как раса, этнос, культура, культурная идентичность, рабство, универсальные ценности, белое превосходство и т.д. Особенно явственно этот инкорпорирующий элемент проявляется в литературной критике, историографии, культурологии. Он характеризуется прежде всего «гибридностью» как основным отличием поликультурногодискурса, если воспользоваться термином исследователя Дэвида Тео Голдберга29, или, в более привычных категориях — стремлением к постоянному внутри- и межкультурному диалогу по поводу смысла и репрезентации, полным пересмотром устоявшихся иерархий, структур авторитарности, политических систем — причем все это не может происходить путем и посредством общепринятой онтологии. Поэтому идет довольно активная выработка нового аппарата терминов и понятий, соответствующих новой междисциплинарной области знания, на что и претендует в идеале «мультикультурализм».
Типы мультикультурализма. Клише и стереотипы общества и культуры разнообразия.
В последнее десятилетие мультикультурализм, политика культурного разнообразия, постколониальный проект в целом подвергались такому огромному количеству различных определений и интерпретаций, что даже просто перечислить все выделенные разными комментаторами типы новой мультикультурной «чувствительности» не представляется возможным. Как состояние или один из важных атрибутов современной культуры, мультикультурализм ускользает от однозначного определения. Он может быть описан феноменологически, можно охарактеризовать способы выражения состояния культурной многосоставности, предложить периодизацию зарождения, развития и расцвета основных поликультурных моделей. Мультикультурализм включает широкий спектр социальных практик, идеалов, художественных поисков, разнообразие которых нередко застывает в навязанном, «формальном» единстве, фиксируется в таких идеологизированных формах, как, скажем, пресловутая «политическая корректность»1, заражаясь неоуниверсализмом и превращаясь в ту самую «норму», в новый канон, от которого стремятся уйти, во всяком случае, на словах, приверженцы «политики разнообразия» и «всеобщего включения».
Повторим, что в сферу интересов мультикультурализма в разных его проявлениях попадают прежде всего, в наиболее широком смысле взаимоотношения «я» и «другого» или «других», шире — субъектно-объектные взаимоотношения, проблемы релевантности познания, истины, полемика по поводу релятивизма и универсализма, политика и структура власти, причем, эта проблематика находит выражение, как говорилось выше, в междисциплинарных исследованиях, на границах и стыках которых и существует мультикультурная теория. Этно-расовое многообразие иполилингвизм являются одним из самых ярких проявлений мультикультуры в современной Америке, будучи связаны с переосмыслением таких категорий как раса, этнос, культурная идентичность. Однако, было бы неправомерно свести понятие культурной многосоставности лишь к элементам постколониального проекта. Поскольку, как указывалось выше, в контекст культурной «политики разнообразия» входит и регионализм, и женская «инаковость», нередко опять-таки во взаимодействии с этно-расовым фактором, и различные отклонения от общепринятых норм осмысления истории, национального идеала, образа жизни, специфически американский феномен экспатрианства, как один из формообразующих факторов генезиса национальной традиции, с недавнего времени, опыт сексуальных меньшинств и еще многое другое, вплоть до внутренней маргинальности и самоочуждения в онтологическом смысле. Все более сознательный характер культурного выбора в современном мире переводит проблему многосоставности и разнообразия в интенциональный, внутриличностный пласт, где полифоническая «инаковость» обнаруживается не только и не столько в других культурах, индивидах, системах ценностей, но и в самой личности рефлексирующего субъекта, традиционно испытывающего страх перед «другим». Последнее обстоятельство, как известно, отметило собой едва ли не всю современную культуру. Однако, пограничное состояние по отношению к собственной идентичности, воспринятое сознательно как часть поликультурного дискурса, в какой-то мере все же отлично от хрестоматийной неравности себе современного «человека без свойств». Я постараюсь показать это ниже, обратившись к конкретным примерам литературы как мультикультурного феномена.
Современные типы мультикультурализма развились во многом как отклик на все шире распространявшийся и все меньше ставившийся под сомнение идеал культурного единообразия, окончательно утвердившийся в США к середине XX века. При этом, как показал целый ряд ученых, в недрах условно единообразной американской культуры Новейшего времени существовали всегда ростки мультикультурного мироосмысления, хотя они и не получали достаточного развития и не были авторитетны. Так, Дж. Кан справедливо отмечает, что «ошибка теоретиков постколониализма в том, что они ассоциируют западный дискурс лишь с технорациональностью, особенно в форме социалдарвинизма XIX века, согласно которому традиционная культура уступает западной и должна и может быть цивилизована по западному образцу. Но помимо социалдарвинизма существовали и иные,скрытые тенденции в проекте модерна, многие из которых были антиутилитаристскими и даже антипросветительскими, из них, по видимому, и смог вырасти современный постколониальный проект, лишь продолжающий проект модерна, но не отказывающийся от него полностью»2. Можно не согласиться с исследователем в его трактовке мультикультуры как внутренне присущего модерну свойства, лишь развившегося количественно в конце XX века, но он, вероятно, прав в том, что практически все типы мультикультурного осмысления отталкиваются от представлений, концепций, идей, выработанных в недрах западного сознания XVIII—XIX веков. Более того, протестуя против бинарных оппозиций, приверженцы мультикультурной политики все равно не способны сами их избежать и по-прежнему строят, за очень небольшим исключением, свои модели культурной эволюции на основе оппозиции — культурный империализм/ антиимперское противостояние порабощенной культуры.
Многочисленные варианты мультикультурализма, какими бы яркими названиями они не прикрывались, могут быть разделены, как ни странно, прежде всего по политическому признаку. Так называемый «либеральный» вариант мультикультурализма, активно отторгающий ассимиляцию, своей центральной задачей ставит постулирование и сохранение разнообразия культурных групп и возможность их сосуществования на основе равных прав и свобод. Тем самым он стремится инкорпорировать мультикультурную модель в западное либеральное сознание и социо-культурную и политическую систему координат, к которой привыкло мышление западного человека. Либеральный мультикультурализм несомненно связан с риторикой этнических возрождений 60—70-х годов XX века, хотя явственно прослеживается и его связь с более ранними по времени спорами ассимиляционистов и плюралистов, о которых говорилось выше. Личностные черты этот тип мультикультурализма представляет прежде всего как культурные, связанные с принадлежностью к определенной зафиксированной группе, а не с индивидуальными особенностями их представителей, что делает его достаточно уязвимым для критики, ведь именно парадоксы взаимосвязи активного личностного, индивидуального самовыражения, в том числе и творческого, с групповой культурной идентификацией, которые игнорируются «либеральным» мультикультурализмом, стоят сегодня в центре внимания большинства пост-и междисциплинарных теоретиков, занятых не простым постулированием разнообразия, но поиском и определением новых «гибридных» и неабсолютныхмоделей и смыслов, находящихся на стыке индивидуального и группового начал, разнообразия и различия.
Леворадикальные, наиболее экстремистски настроенные мультикультуралисты, среди которых выделяются афро-американские и чикано радикалисты от культуры — феминистка белл хуке, исследователь культурного пограничья и автор термина «повстанческий мультикультурализм» Генри Жиру, в определенной мере, афро-американский писатель и публицист И. Рид, автор теории «новой метиски» Глория Ансальдуа, индейская писательница и культуролог П. Г. Аплен3, часто обвиняют либеральный «плюралистический» мультикультурализм в том, что он создает обманчивую картину гармоничного разнообразия, не имеющую ничего общего с реальностью, не учитывающую «подавления» и «неравенства», которые часто и определяют различия между культурными группами. Сами они представляют вторую, довольно обширную группу мультикультуралистов «оппозиционного» толка. Этот тип мультикультурализма не занят культивированием различий, но прежде всего, противостоит культурному и по аналогии, всякому иному подавлению, сливаясь соответственно с радикальными направлениями так называемых «культурно-критических» теорий, наследующих «неомарксизму» и «новому историзму». Подобная позиция ведет нередко к экономическому, политическому, социальному детерминизму, а значит, снова к монокультурному модусу мышления. Характерным примером оппозиционного мультикультурализма является «критический мультикультурализм», само название которого говорит за себя. Теория критического мультикультурализма разрабатывалась, в частности, чикагской школой культурных исследований на протяжении 90-х годов XX века. Среди участников этого семинара следует назвать прежде всего покойного ныне филолога Лорен Берлант, автора книги «Анатомия национальной фантазии» и редактора журналов «Критикал инкуайери» (Critical Inquiry) и «Паблик калчер» (Public Culture), Мэтью Робертса и теоретика гомосексуальной критики Майкла Уорнера4. Не далек от него и так называемый «повстанческий» или «политически активный», экстремистский мультикультурализм «противостояния», также напрямую связанный с наследием политического активизма и этнических самоопределений 60-х.
Целый ряд ученых, занятых проблемами мультикультурализма, выделяет в качестве одного из важнейших его вариантов консервативный или корпоративный мультикультурализм, основанный на отвлеченных идеях либерального толка и не заинтересованный в перераспределении власти и культурного влияния, но, напротив, отвлекающий внимание от подобныхвопросов путем коммерциализации мультикультуры и превращения ее в товар. Надо сказать, что если оппозиционные варианты мультикультурализма бытуют в основном в академической и художественной среде, то выступления консервативных мультикультуралистов главным образом ориентированы на широкую публику, действуя через средства массовой информации, массовую культуру и искусство. Однако, это деление не абсолютно и встречаются разнообразные «переходные» формы — скажем, университетские профессора, популяризирующие и порой в значительной мере упрощающие мультикультурную проблематику в расчете на более широкую и менее искушенную аудиторию. Именно таковы чрезвычайно популярные среди массового читателя работы Д. Равиц, А. Шлезингера мл., Ч. Финна, Р. Брукхайзера и др.5 Их позиция намеренно размывает понятие культурной границы, отвлекая от нее внимание, и одновременно, абсолютизируя желанную гомогенность национальной культуры. Отсюда категорическое неприятие «других» языков и даже региональных и этнических диалектов и вариантов английского и особенно, билингвистического образования, стоящее в центре многих мультикультурных дебатов. Принадлежность к «белой» расе, к несколько скорректированным ценностям американизма, основанным на англосаксонской культуре, наконец, к идеалам так называемого «среднего» класса, по-прежнему рассматривается мультикультуралистами-консерваторами как норма, в соответствии с которой оцениваются все другие, маргинальные, пограничные явления. Пафосом подобного консервативного мультикультурализма пронизаны снисходительные рассуждения о преуспевании одних национальных меньшинств и неуспехе других, которыми полны сегодня американское телевидение и пресса, весьма активно занятые коммерциализацией проблематики культурного разнообразия и ее подгонкой под воображаемый, но жесткий стандарт общепринятых ценностей6. Проблема коммерциализации и омассовления мультикультурализма становится весьма насущной, затрагивая все уровни функционирования культуры и демонстрируя, в определенной мере, ее способность к пластичности, к ассимиляции даже самых, казалось бы, противоречащих ее установкам элементов. Приведем лишь один пример из сферы сугубо массовой культуры — кассовый Голливудский фильм под названием «День Независимости» (1996)7. Новый для национальной идеологии миф «культурного многообразия» немедленно опошляется попкультурой в «Дне Независимости», где в образе «других» выступают в очередной раз инопланетяне8. Но борьбу за спасение мировой цивилизации в этом фильме ведут уже не просто неразличимые внешнеамериканцы как условное целое, но афро-американцы (по-прежнему, в образе «младшего брата»), евреи (как научный мозг всей операции по спасению мира), и конечно, белые (как необходимый элемент утверждения собственной героической маскулинности, необходимый после вьетнамской неудачи). В результате создается тиражированный мультикультурный образ-клише. При этом фильм все равно состоит из весьма оскорбительных расовых, сексуальных, этнических стереотипов9. В образе президента США Уитмора (\Л/Ы1тоге)10 намешаны претензии на универсальный гуманизм и привычные рассуждения американского империалиста, расширяющего границы своей страны до всего мира. В его речи 4 июля названо днем независимости всей планеты, едва ли не всей вселенной. Этот простой пример из сферы массовой апологетики демонстрирует, что мультикультурализм не является, по существу, самостоятельной теорией с уникальной этикой и идеологией, представляя собой набор понятий, клише, стереотипов, в какой-то мере, методологию, которые могут быть адаптированы по существу любым культурным режимом. Как стало модным сегодня говорить о создании постколониальной империи, где принципы постколониального дискурса успешно используются в казалось бы прямо противоположных своему замыслу целях, так, наверное, имеет смысл говорить и о мультикультурной империи, к созданию которой объективно стремятся США в последние два десятилетия.
Коммерциализация поликультурных метафор происходит и в современных попытках переосмысления культурных стереотипов в антропологических, этнографических, филологических и других исследованиях, и, конечно, в литературе и изобразительном искусстве.
Приведем самый характерный пример такого клише, всячески эксплуатируемого сегодня в «дискурсе разнообразия», по существу превратившегося в своеобразный знак, автоматически сигнализирующий о появлении поликультурной проблематики. Речь идет о «культурном заточении», постоянно воспроизводящемся в мультикультурных текстах самого разного рода. Сама веберовская метафора заточения и несвободы, а также несоотносимости точек зрения того, кто в «клетке» и того, кто снаружи, естественно, не нова для сознания XX века. Однако идея культурного заточения и «клетки», как ее наглядного символа, получила переосмысление в связи с повсеместным распространением политики культурного разнообразия. Особенно наглядно этот процесс проявился в современном концептуальном искусстве — живописи, скульптуре, инсталляции, перформансе. Так, несколько лет назад в музее Уитни выставлялась скульптура Р. Гобера, изображавшаядетскую колыбель, сделанную из гигантской мышеловки, а также демонстрировался живьем «перформанс» К. Фуско и Г. Гомес-Пеньи во время которого оба автора сидели в «китчливо» изукрашенной клетке, пока невозмутимые гиды разъясняли публике культурный смысл их прыжков и выходок. Мексиканский художник-концептуалист Гильермо Гомес-Пенья, живущий много лет в Калифорнии — приверженец пограничья. Сегодня он включает в свою «чиканизированную идентичность» бывшего мексиканца различные элементы, в творчестве и жизнетворчестве, представляя себя как переводчика одной культуры на язык другой. Он так объясняет особенности своего пограничного художественного мироощущения: «Я существую расплющенный, в расселине между двумя мирами, в зараженной ране: в полуквартале от края Западной цивилизации и в четырех милях от начала мексикано-американской границы, самой северной точки Латинской Америки. В моей вывихнутой реальности сосуществуют две истории, два языка, две космологии, две эстетические традиции и политические системы, резко противостоящие друг другу. Многие «детерриторизированные» латиноамериканские художники в Европе и США выступают за космополитизм.я же — за пограничье. : мое поколение — «сИНалдоэ» подалось на Север, убегая от экологической и социальной катастрофы Мехико, и постепенно интегрировалось в инаковость, в поисках той «другой» Мексики. и стало «чиканизированным». Мы «демексиканизировались» — сознательно и неосознанно и однажды граница стала нашим домом, лабораторией, министерством культуры или контркультуры». «Я стал культурным топографом, пересекающим границы охотником за мифами. в том промежуточном пространстве — месте культурного общения на равных, где граница важна как переводчик культуры или возможность новой общей культурной территории, для создания чего-то постпограничного»11. Характерно, что Гомес-Пенья, как и еще целый ряд интеллектуалов постсовременной промежуточности, жителей и хозяев так называемой воображаемой «культурной столицы» (которая также может быть рассмотрена как еще одно клише дискурса разнообразия), не может удовлетвориться ни космополитизмом мультикультуралистов-плюралистов, ни откатом в архаику, пытаясь вместо этого концептуализировать и, в какой-то мере, закрепить пограничье, как устойчивое состояние, что обречено в конечном счете на неудачу. Однако важен сам факт отказа художественного сознания, чувствительного к проблеме культурного разнообразия и трансгрессии, от бинарной оппозиции — доминирующая/ подавляемая культура,диктатор/жертва. Подобная позиция пока еще не до конца оформилась в пограничном художественном, да и критическом сознании, хотя определенные ее элементы уже сформировались. На некоторых из них я остановлюсь ниже.
Американский искусствовед Роберт Хьюз, в целом негативно относящийся к «политическому концептуализму» 90-х, как он окрестил искусство современных «маргиналов», однозначно связывает это направление с художественными манифестами 1970-х, и в частности, с эпатажем группы «Горилла Арт Экшн», вывалившей в свое время коробку живых тараканов на стол для заседаний попечителей совета музея Метрополитен в качестве «протеста» против культурного истеблишмента. Называя искусство идентичностей узколобым, проповедническим, однонаправленным, в котором комплекс жертвы и ярость против поработителя на первом месте, а эстетическое начало на втором, Хьюз в какой-то мере прав12. Чего стоят, например, коллажи художницы Барбары Крюгер, напоминающие русский конструктивистский плакат 20-х годов (скажем, картина с изображением домработницы со шваброй, под названием «Мир тесен, но только если вы не должны его убирать !») или светодиодные мигающие «Трюизмы» Дженни Холзер такие, как «Деньги создают вкус», китчевые поделки Сью Уильяме, выставлявшиеся в Уитни в начале 90-х годов (особенно ее знаменитая лужица розовой пластмассовой блевотины на полу), еще один «перформанс», созданный по принципу жертва/притеснитель, где художница Карен Финли обмазывается шоколадом и засовывает в себя клубни тапиоки, чтобы наглядно проиллюстрировать «деградацию женщины в американском обществе». Но даже такой безусловный приверженец Гойи, которого он постоянно ставит в пример «политическим концептуалистам» 90-х, как Хьюз не может не признать, что в последние несколько лет это искусство в значительной мере утратило свой проповеднический, политический элемент, природу манифеста и занялось разработкой особой «эстетики пограничья» (12; р. 615). Среди наиболее интересных начинаний на этом пути следует отметить творчество художницы-фотографа Синди Шерман, создающей образы большого эстетического, эмоционального, культурного накала. Еще в 70-е годы она выставляла иронические черно-белые фотографии, на которых снимала себя самое в разных костюмах, как бы «примеряя» различные женские «я» 50-х, ненавязчиво и не декларативно подчеркивая идею условности скользящей, игровой «идентичности», ее сконструированное™13. Пародирование собственных идентичностей, а также женских социальных ролей в 80-е годы в творчестве художницы переросло в пародии, пастиш, игровые переосмысленияизвестных образов мирового искусства — гигантские, гротескные и по-барочному избыточные коллажи. Другим удачным на мой взгляд, примером развития мультикультурной эстетики в области изобразительного искусства является творчество художника Пепона Осорио, пуэрториканца, живущего в Нью-Йорке и окрестившего свой гибридный культурный ландшафт «ньюориканским». Самое известное и характерное произведение Осорио в этом смысле — его проект «La Cama» («Кровать»), где гиперболизированный «вещный» образ выступает в качестве альтернативы культурного дома, определенного пространства существования, и находится как бы «между» метафизической бездомностью иммигранта и «избыточным» в смысле тирании образов разнообразия топосом современного мегалополиса.
Панибратски называя несимпатичный ему мультикультурализм «мультикульти», Р. Хьюз, однако, неожиданно верно схватывает суть эстетического спора за и против «политического концептуализма». Он говорит о важности в искусстве «мультикультурной персоны» (12; р. 618), личности, индивида, который сложнее собственных корней и происхождения, и который способен вступать в диалог со сложностью остальных «других».
Метафора культурного заточения и амбивалентность принципа разнообразия наглядно видны во всячески эксплуатируемом сегодня теоретиками мультикультуры образе-клише пигмея Ота Бенги — живого экспоната выставки «Человеческого разнообразия»14, проходившей в Сент-Луисе в 1904 году. Позднее он и вовсе перекочевал в обезьянник зоопарка в Нью-Йоркском Бронксе, где и просидел несколько лет. Бедняга Ота Бенга, названный «африканским гомункулусом», должен был, по мысли организаторов выставки, явно желавших блеснуть своим знакомством с наиболее «передовыми» научными теориями конца XIX века, а именно, с примитивно понятым дарвинизмом и с тем, что тогда было принято называть антропологией, представили публике экспонат, иллюстрировавший «недостающее звено», самую низшую ступень в прогрессе человечества. Ота Бенга, по принуждению руководителей выставки, должен был вести себя в соответствии с их представлениями об его «инаковой» природе, а именно, обрядившись в боевой костюм, скалить зубы, рычать и просовывать сквозь прутья клетки руки и примитивные орудия, с тем, чтобы у публики составилось соответствующее впечатление об его естественной агрессивности. Мнением самого Ота Бенги, как и его многочисленных двойников15, конечно, мало кто интересовался, как и тем, что в естественной среде он скорее всего постарался бы стать невидимым, вместо того, чтобы привлекать к себевнимание, стараясь «сойти» за необычно низкорослого, угрюмого и грустного афро-американца, чтобы почувствовать себя не экспонатом, но зрителем.
История Ота Бенги сегодня обычно рассматривается культурологами и антропологами как пример полуосознанной попытки человечества (или его отдельных представителей, считающих себя и свою культуру «нормой») посмотреть на себя самое или своего ближайшего двойника-пародию как бы со стороны, как на отстраненный объект, помогающий ощутить культурное «различие» и утвердиться в собственном превосходстве. Причем для посетителей выставки они сами были неизменно исключены, изъяты из фальшивой картины разнообразия, поскольку их место в центре культуры было незыблемо и раз и навсегда дано.
Выставка, на которой экспонировали Ота Бенгу, была лишь наиболее ярким выражением подобного отношения. Существовало и бесчисленное количество локальных, незаметных, привычных способов объективации, многие из которых нашли отражение в литературе, где можно встретить замечательные примеры «Ота Бенг». Более того, если довести метафору «Выставки человеческого разнообразия» до логического завершения, надо признать, что и в современной культуре существуют пусть менее шокирующие, но сходные по природе «театры человеческого многообразия» — в форме фольклорного шоу, антологии литературы национальных меньшинств, наконец, выставки в краеведческом или этнографическом музее столь любимых американцами «тематических парков», где объективации подвергаются самые разнообразные культурные группы — от пуритан до ковбоев. Все они по-прежнему построены на дихотомии объекта и субъекта, на контрасте посетителя выставки и экспоната. Образы Ота Бенги и подобных ему символов культурного заточения, доведенных до абсурда, сегодня растиражированы и формализованы, находя выражение не только в искусстве и литературе, но и в средствах массовой информации и рекламе.
Ота Бенга становится не индивидом (личностью), но клубком «этним», если воспользоваться термином американского антрополога Роберта Кентуэла16, то есть таких простых знаков, как костюм, манера речи, музыка, и т.д., которые вызывают четкую и однозначную ассоциацию с определенной культурой, даже будучи вырваны из ее динамического контекста. Иначе говоря, речь идет о культурных клише и стереотипах, действующих по существу как тропы или фигуры речи. Они, естественно, еще больше «остраняют» реального Ота Бенгу, делая его совершенно непроницаемым для зрителей выставки,символически обкрадывая пигмея, лишая его права распоряжаться своей культурной и индивидуальной идентичностью.
Но существует и разница между Ота Бенгой — героем романизированной «биографии» Брэдфорда и Блума17, или наукообразной статьи, пестрящей постструктуралистскими терминами, как «Полет Ота Бенги глазами Джеронимо»18 Седрика Робинсона и героями таких произведений, как крохотный рассказ известной афро-американской писательницы Элис Уокер «Элеция» с его чудовищным, гротескным происшествием, незаметно перерастающим узкие местные рамки богом забытого южного городка и вырастающим до общеамериканских масштабов очуждения и стирания целой субкультуры. Загадочное и необъяснимое для окружающих стремление Элеции носить с собой скляночку с пеплом и сжигать мумии из музеев находит вполне реальное и чудовищное объяснение в рассказе о старом негре Альберте Портере, чье настоящее «чучело» выставил потомок хозяина плантации в витрине ресторана «У дяди Ала» для привлечения белых посетителей. Став чучелом, «дядя Ал» также как Ота Бенга, лишился своих истинных качеств — свободолюбия, упрямства, своенравности, приобретя взамен два ряда блестящих белых осклабленных зубов, которые настоящий Альберт потерял, по рассказам очевидцев, еще в детской драке, и не менее невозможную для себя роль подобострастного официанта. Белые на него не обращают внимания — он — часть антуража, скорее всего засиженная мухами. Для черных же он предмет гордости: «Нас в ресторан не пускают, но Альберт-то уже там !» На него ходят любоваться, как в музей. Уокер сообщает нам почти зоологические подробности об облике «дяди Ала», скажем, его «настоящие ногти» и наводят Элецию на мысль о том, что это чучело, а не муляж, словно Ал — зверь или птица, набитый опилками. Но в целом Уокер не далеко отходит от наглядной «плакатности» образа Ота Бенги19. Более интересный и неожиданный вариант художественного осмысления этой проблематики можно найти как ни странно, в рассказе писательницы, казалось бы, совершенно далекой от проблем мультикультурализма, но в силу обостренного художественного слуха, чуткости, тонкости восприятия сумевшей удивительно точно передать в мастерском сказе знакомое «ота бенговское» ощущение очуждения. Речь идет о Юдоре Уэлти и ее давнем рассказе «Дева Охра — краснокожая изгнанница». Главный герой рассказа, одного из немногих у Уэлти, основанных на реальном факте, — маленький хромой негр кроха Ли Рой, по описанию автора, поразительно напоминающий Ота Бенгу. Это типичный герой-гротеск, когда-то выступавший в дешевом цирковомпредставлении, играя роль старого как мир смешного чудовища, традиционно теряющего свою силу в результате гротескного катарсиса (его заставляли, одевшись в женское платье и изображая страшную «Охру», ловить бегавших по арене цыплят и, откусывая им головы, съедать живьем). Но что-то неуловимо меняется в рассказе и смех сменяется ужасом. Повествование ведется не с точки зрения публики, глазеющей на низкопробный аттракцион. В крохе Ли Рое Уэлти пытается увидеть человека — без сентиментальной и очуждающей жалости, а через восприятие двух других героев рассказа, чье отношение к крохе трудно однозначно назвать сочувствующим. Они неумело, интуитивно выражают леденящий душу ужас, случайно приоткрывшийся им в судьбе крохи Ли Роя. «Человеческий» поступок одного из них — освобождение Ли Роя из цирка, однако, иронически обыгрывается, снижается автором в наложении одна на другую непроницаемых друг для друга точек зрения и зыбких идентичностей. «Трикстер» Ли Рой вынужден, как Ота Бенга, играть роль зверя, но при этом жаждет услышать рассказ о себе снова, пережить происшедшее много лет назад. Его заключительные слова переворачивают всю систему ценностей, весь порядок существования, подразумевавшийся как «норма» белыми героями рассказа: «Нынче, когда вы все поуходили и в доме не было ни души», — говорит Ли Рой, — «к нам два белых мужика пожаловали. В дом зайти не пожелали, зато поговорили со мной про прежние времена, еще когда я в цирке служил»20.
Помимо всеобъемлющего клише культурного заточения и постоянно обыгрывающейся оппозиции жертва/притеснитель, как наиболее ярких примеров мультикультурных стереотипов, в поле стереотипизации попадают и такие понятия дискурса разнообразия, как метисация и гибридность, примеры которых приводятся ниже, в связи с анализом художественных моделей «пограничья» в американской культуре конца XX века.
Рассмотренные типы мультикультурализма были бы неполными, не остановись мы хотя бы кратко на привлекательном, по целому ряду причин, диалогическом варианте мультикультурализма, нередко с транскультурными и компаративистскими элементами. В отличие от критического и повстанческого мультикультурализма, этот тип мультикультурной чувствительности не имеет яркого и четкого выражения в коллективной деятельности группы ученых, хотя основные элементы диалогического мультикультурализма несомненно выделимы в теориях нескольких крупных фигур, в основном постколониального толка, и прежде всего, во взглядах уже упоминавшегося выше критика палестинского происхождения, давно живущего в США, профессораКолумбийского университета, Эдварда Сайда, известного широкой аудитории не в последнюю очередь своими радикальными попытками пересмотра литературного канона, а также во взглядах его многочисленных последователей, большинство из которых заметно корректирует саидовские культурные модели21. В полицентричном мультикультурализме, не отказывающемся от идеи культурной общности, акцент делается на идее мироздания, как поля со множеством «точек кипения», причем их число и смысл не окончательны, не даны раз и навсегда, но подвержены постоянным изменениям, релятивны. В отличие от умеренного и либерального мультикультурализма, не ставящего под сомнение общепринятую иерархию культур, но лишь милостливо позволяющего «другим» культурам и голосам быть добавленными к «мейнстриму», полицентричный мультикультурализм часто стремится к тому, чтобы размышлять и судить как бы с точки зрения «маргинальной» культуры, «маргинального» сознания, не просто как локальной группы со своими локальными же интересами, но как активного участника событий, влияющего на историю и культуру изнутри, из определенной, своей «точки кипения», находящейся, однако, в динамическом взаимодействии с другими точками.
Сайду удалось сформулировать важное условие полицентричного мультикультурного дискурса: «Если мы перестанем думать о взаимоотношениях между культурами, как данных раз и навсегда, совершенно синхронных и зафиксированных, но начнем представлять их как проницаемые друг для друга, являющиеся лишь защитными границами между государствами, то ситуация изменится. Если рассматривать других не как онтологическую данность, но как исторический конструкт, то разрушится прежняя модель исключения. Тогда культуры станут зонами контроля или напротив, игнорирования, воспоминания и забвения, силы и зависимости, исключения или стремления разделить с другими, и все это имеет место в глобальной истории где все мы существуем»22.
Саидовский принцип «всемирности», который он определяет в книге «Мир, текст и критик» как особый тип взаимодействия реальности и текста, находящихся постоянно в отношениях игры и взаимовлияния (взаимозаменяемости)23, причем с явным оттенком «снижения», стремления обратить внимание на то, как многосоставная и разноликая реальность вторгается в ранее сугубо высоколобую эстетическую и замкнутую сферу того же литературного анализа (не случайно, Сайд сравнивает мир с «восточнымбазаром») оказывается привлекательным и для ряда других современных ученых.
В частности, американский культуролог Клиффорд Гиртц считает господствующие представления о культуре по-прежнему страдающими от чрезмерной «сконцентрированности» на себе, а очуждающая, но все равно неизбежно оценочная «встреча с различием», с «иным», способна трансформировать этот тип культурного осмысления так, чтобы сделать всех его участников видимыми себе и окружающим, представленными как актеры, брошенные в мир, где основным принципом давно является очуждение всего и вся от всех24.
Интересно, что Гиртц воспринимает процесс культурной дислокации как пространственный. Этические дилеммы, связанные с культурным разнообразием, в его интерпретации предстают через топографические метафоры символических, противопоставленных друг другу и соположенных культурных пространств. Он пишет, в какой-то мере перефразируя Сайда с его «всемирностью восточного базара»: «Мир становится в каждой из своих локальных точек похож на «восточный базар», а не на английский клуб» (24; р. 121). Другой известный исследователь — Ричард Рорти также представляет современное «разнообразие»в виде коллажа соположенных различий. Он, в частности, отмечает, что можно попытаться создать новую миромодель (достаточно утопическую), в которой «базар» будет, образно говоря, окружен большим количеством частных (элитарных) клубов, с тем, чтобы обеспечить возможность постоянного диалога непримиримых и клокочущих точек зрения и доктрин в хаосе современного мира, успевшего стать уже своего рода новым порядком25.
Определяя принципы новой поликультурной методологии, которая находит применение в разных областях гуманитарного знания, Сайд пишет сегодня, по прошествии уже определенного времени с начала разработки им постколониальной теории, о том, что не нужно «радоваться безместности и маргинальности — их нужно привести к концу, так чтобы люди, лишенные репрезентации по причинам расы, пола, класса и т.д. могли, наконец, почувствовать себя хотя бы на какое-то время в центре, внутри культурного поля»26. «Всемирность» тогда выступает, в определенной мере, противовесом крайнему сепаратизму. При этом важно, что Сайд неожиданно возвращает в сферу научного культурологического дискурса ненавистные многим постсовременным концепциям идеалы гуманизма, казалось бы,напрочь забытые сегодня, но по его мысли, способные связать разнородные явления многосоставной культурной мозаики, не взирая на различия в языках, традициях, историческом времени бытования. «Иначе, — замечает Сайд, — они останутся сугубо информационными, этнографическими примерами, интересными лишь узким специалистам. «Национализм», «трайбализм» и «жертвенность» не обязательно и даже вовсе не предполагают гуманизма. Однако, внимание к умолкнувшим или подавленным культурным голосам также важно, будучи необходимым условием любой «всемирности», космополитизма, где ранее пограничные могут получить возможность самовыражения в своих собственных терминах» (26; р. 30—31).
Во многом близки Сайду и мнения таких американских приверженцев полицентричной модели культуры, как А. Крупат, Г.Л. Гейтс мл., которые делают упор на эпистемологическом преимуществе тех, кто обладает «двойственным», маргинальным сознанием, поскольку им доступен и органичен принцип множества границ и центров, разрушающий доминирующий национальный или государственный дискурс. Полицентризм, кроме того пересматривает застывшее, примитивное представление об «идентичности»27, как раз и навсегда данном наборе привычных действий, опыта, смыслов. Идентичность становится соответственно текучей, неустойчивой, множественной, исторически обусловленной, полиморфной категорией. Подобное понимание идентичности делает полицентричныймультикультурализм противником примитивной «политики идентичностей», повсеместной в сегодняшней Америке. Принцип диалога и взаимообмена проницаемых друг для друга, подвижных культур, «голосов» становится основным, всеобъемлющим, распространяется во временном плане, не ограничиваясь лишь последними десятилетиями, но уходя далеко в историю, вплоть до того времени, когда и Америки-то еще не существовало, в пространственно-географическом смысле, в междисциплинарной диалогичности, в диалоге высокой и низовой культуры, наконец, во взаимодействии различных национальных и мировой традиций. Особое значение здесь имеет феномен «гибридности» и синкретизма сознания, индивидуальности, культуры, которые лишь в полицентрическом, космополитическом варианте мультикультурализма находят себе законное место и сферу выражения и концептуализации28.
Наконец, хотелось бы отметить и важную корректировку мультикультурного проекта, которая выражена в точке зрения Хоми Бхабхи на проблему культурного взаимодействия в современном мире. Ключевоепонятие, выделяемое Бхабхой, и лежащее в основе переосмысления им первоначальных формулировок постколониальности в сторону их глобализации и распространения в более широком постмодернистском контексте, это «временной зазор» или «запаздывание» (time lag) — темпоральный разрыв в процессе репрезентации. Бхабха, опираясь на Ж. Лакана, объясняет, что процесс выработки нового смысла связан с тем, что при запаздывании означающее и означаемое на время разлучаются, знак лишается своей субъектности и повисает в поле межсубъектности. Следующим шагом становится новое наделение знака смыслом, уже обогащенным гибридным дискурсом, успевшим выработаться в поле темпорального разрыва. Получается, что именно это неустойчивое состояние временного зазора, когда знаки лишены субъектности, и является сутью культурной пограничности для Бхабхи29. Но это характеристика временного, исторически переходного момента, который мы переживаем сегодня, и подобное состояние должно быть каким-то образом разрешено. Особенно важной в этом смысле является попытка Бхабхи посредством идеи «временного зазора» отмежеваться как от простого и монологического в основе культурного плюрализма, когда различные культурные локалы рассматриваются в одном, условно универсальном времени, так и от культурного релятивизма с идеей сосуществования различных временных культурных контекстов в однородном универсальном пространстве постмодерна. Именно поэтому исследователь разводит время и пространство, говоря о «пространстве постмодерна» и «времени постколониальности» (29; р. 212). Важной представляется в этом смысле мысль Бхабхи об амбивалентной темпоральности настоящего, которая часто игнорируется более ориентированными на пространственные аспекты культуры постмодернистскими теориями, некоторые из которых упоминались выше.
Следует отметить, что некоторые исследователи (в частности, Седрик Робинсон, в определенной мере Дж. Кан и др.)30 подходят к проблеме мультикультурализма исторически, и склонны рассматривать под его рубрикой все существовавшие варианты трактовки «другого», его места в мире и права на репрезентацию, начиная от аристотелевской апологии рабства и представлений о культурном разнообразии, возникших задолго до того, как оформилась сама идея Запада, и органично вошедших в нее в Новое и Новейшее время, когда Запад предстал едва ли не единственной, и уж во всяком случае, главной цивилизацией, а белый европеец (или позднее американец) — единственно сознательным агентом исторической эволюциичеловечества. Мультикультурализму Нового и Новейшего времени в этом смысле противостоит анти- или постмодернистский вариантмультикультурализма, впервые ставящий под сомнение многие непреложные для прежнего времени идеи. Так, для Дэвида Тео Голдберга, редактора одной из заслуживающих внимания коллективных монографий31, посвященных проблеме мультикультурализма, последний является постоянным атрибутом культуры, причем монокультурные и ассимилятивные ее модели также оказываются своеобразными вариантами мультикультурализма, обретая историческое измерение, в частности, благодаря довольно распространенной идее об относительной культурной гомогенности, господствовавшей до Нового времени и постепенном усилении гетерогенности, обусловленной, не в последнюю очередь, миграциями и стремлением к движению, начавшими сильнее проявляться в Новейшее время. Несмотря на крайнюю условность деления между Новым и Новейшим, современным и постсовременным, исторический подход к оценке мультикультурализма и попытки проследить его часто уходящие в древность истоки, на мой взгляд, довольно важны для современных поликультурных дебатов, поскольку позволяют отойти от сиюминутного, политического наполнения и обрести более широкий, обобщающий взгляд на проблему, почувствовать моменты сходства и различий этих дебатов с исторически предшествовавшими. Так и возникают переклички, стыки и «диалоги» 30-х, 60-х, 90-х, особенно интересно и неожиданно преломляющиеся в художественной форме.
В последние годы усилился интерес не только к этно-расовым идеалам и разнообразию как самоцели, но снова стала актуальной проблема человеческого единства и гармонии, неожиданным образом возвращающая нас на новом витке истории к несколько переосмысленным идеалам Просвещения и неоуниверсализму. Как ни странно, новый «глобалистский» подход акцентирует вновь личностное, индивидуальное начало и примат индивидуального же выбора во всем, что касается восприятия и смены различных миромоделей, в противовес примитивной политике идентичностей, где господствует групповое, стереотипное в застывшем, раз и навсегда данном смысле.
Неоуниверсалистский крен и возврат к переосмысленным идеалам Просвещения характерны для сравнительно небольшой группы ученых в США (здесь можно назвать Иегуди Вебстера, автора книги «Против мультикультурного проекта», в какой-то мере постколониального критика Сатью Моханти, уже упоминавшегося социолога Рональда Такаки и др.)32, нопользуются гораздо большим авторитетом в Европе. Возможно, одной из причин является упоминавшаяся выше тесная и более долгая по времени связь американской национальной онтологии с просвещенческой моделью и ее сравнительно более позднее знакомство с постструктуралистскими и постмодернистскими европейскими теориями, успевшими порядком надоесть самим европейцам. Отсюда такие характерные мнения, как точка зрения Цветана Тодорова, высказанная им в статье «Раса», писательство и культура»33. Истоки особого варианта расизма и расовой проблематики в США он связывает с демократией: «По иронии, расизм обретает все большее социальное воздействие по мере того, как общество приближается к современному идеалу демократии. Возможным объяснением этого факта может служить то, что в традиционных обществах, построенных на системе иерархий, социальное неравенство подразумевалось как норма в общепринятой идеологии и потому физические отличия играли менее важную роль. Было важнее знать, кто хозяин и кто раб, а не чья кожа светлее, а чья темнее. В демократическом обществе все иначе. Хотя истинное равенство не наступает, идеал эгалитаризма становится общепринятым, различия.продолжают существовать, но идеология отказывается их замечать. Потому акцент переносится на непреодолимые, естественные, физические различия. Именно отмена рабства привела к подъему расизма в США, и расе стали приписывать то, что ранее приписывали социальным различиям» (33; р. 371), — пишет ученый. Прослеживая тесную связь, а порой и приравнивание понятий расы и культуры уже в XIX веке (а следовательно, приравнивание культурных различий к расовым, с которым так активно борются современные исследователи), Тодоров пытается защитить Просвещение и особенно просвещенческий гуманизм, так часто становящиеся мишенью критиков-этноцентристов, в своем отказе от универсализма все равно приходящих к претензиям на новый универсализм, только этноцентричного толка. Идеал «общечеловеческой и при этом личностной идентичности» (человек не равен своей культуре или тем более расе) и стремление показать, что инаковость никогда не является абсолютной, радикальной, а значит, остаются и возможности поиска диалога, компромисса — волнует не только европейца Тодорова, но и американских ученых, которые в попытках создать идеал новой культурной парадигмы стремятся соблюсти некое равновесие между общим и особенным, иным и тем, что может быть разделено всеми.
Необходимо и различать культурную многосоставность как объективный феномен и мультикультурализм. Не стоит думать, что«поликультура» автоматически является идеалом и основным феноменом-объектом изучения и пропаганды всех разнообразных мультикультуралистов. Как различны очерченные выше типы мультикультуральной чувствительности, так разнится и понимание культурного идеала их поборниками. Для мультикультуралистов-экстремистов (нередко этноцентристского толка) актуальной и значимой является лишь единая культура своей группы или нескольких групп, поэтому понятие мультикультуры, особенно в отношении к национальной традиции, их попросту не интересует. Как уже отмечалось выше, подобная точка зрения тяготеет скорее к монокультурной модели, поскольку основана на тех же онтологических принципах.
На другом полюсе находятся те, кто считает мультикультуру предельно широким понятием, которое может включать не только канонические и неканонические американские тексты, но и феномены из иных культур, традиций, цивилизаций, вплоть до паневропейской, панамериканской или «всемирной» модели поликультурности. Обе точки зрения являются, в определенной мере, крайностями. Необходим компромисс, при котором исторический подход к идее культурной многосоставности в США, учитывающий ее давние аспекты, оказался бы органично связан и продолжен в этно-расовых, мультиязыковых, контркультурных и иных аспектах пол и культуры.
Не менее важно различать мультикультурализм и «политику идентичностей», как массовую и на данный момент официальную форму его бытования. Парадокс политики идентичностей в том, что она с одной стороны, является частью наиболее экстремистских вариантов мультикультурализма (к примеру, афроцентризма и «чиканизма»), а с другой, быстро и органично вошла в официальную идеологию «политической корректности», как пародии на общество и культуру разнообразия34. Сторонники «политики идентичностей» на деле являются приверженцами фундаментальных, универсалистских ценностей, вызывая закономерный ужас у постсовременных мыслителей самого разного толка, поскольку, свято веря в самоценность и данность различий, абсолютизируют их, тем самым постулируя и собственное раз и навсегда данное превосходство. «Политика идентичностей», воспринятая как абсолютное правило, причем и в своей монокультурной форме35, и в форме мультикультурного, бесконечно дробящегося многообразия, обрушивается на вечно меняющийся, незавершенный мир и пытается заставить его застыть и перестать меняться. Подобная цель естественно обречена на провал.
Если «политика идентичностей» представляет собой лишь внешнее, нередко политизированное, наименее серьезно влияющее на суть культурного взаимообмена понятие, то в основе спора по поводу культурного многообразия лежит все же более широкая и глубокая проблематика,связанная с взаимодействием культурной гомогенности и гетерогенности — иначе говоря, единообразия и разнообразия или множественности. Не случайно, именно эта проблема становится камнем преткновения в спорах мультикультуралистов с монокультуралистами, по-прежнему отдающими предпочтение общественной идентичности, основанной на идее всеобщего единообразия, и лишь милостливо оставляющими сугубо частной сфере личностного выражения право на отличие. На этой дихотомии, как известно, строятся общепринятые, устоявшиеся и в большинстве своем консервативные и охранительные идеи государственности, национализма. С нею ассоциируется и сама возможность познания, основанная в традиционном понимании на необходимом наборе единых и общедоступных ценностей и точек отсчета, на упрощенном позитивистском восприятии знания и истины — простой и однозначной, а не многогранной и полифонической. Сам факт огромного реального многообразия мира воспринимается тогда как досадная и непонятная (рационально не объяснимая) «неудача», нечто, требующее немедленного исправления путем восстановления идеала единообразия, как традиционного и «нормального» состояния для монокультуралистов. Их более чем уязвимые доводы в защиту гомогенности чаще всего сводятся к так называемому натуралистическому (биологическому) аргументу (все люди от природы стремятся к себе подобным и к исключению «инаковых», а следовательно, к единообразию) и к «историческому» доводу, согласно которому склонность людей к сохранению традиций и обычаев должна поддерживаться посредством замкнутой, интроспективной, исключающей все «иное» и гомогенной модели самовосприятия. «Множественность» и многообразие тогда должны восприниматься как наиболее отдаленное от нормы состояние, нередко отождествляемое с регрессом, энтропией, психоэтическими отклонениями, если речь идет о человеческой личности.
Проблема еще и в том, что сегодня, в эпоху окончательно «разрушенных» терминов, практически невозможно договориться по поводу значения таких понятий как «раса», «культура», «нация», «этнос», «регион» и т.д. Каждый из типов мультикультурализма делает акцент на том или ином аспекте, при этом вкладывая в него свой, особый смысл, и нередко переводя эту проблематику сугубо в сферу языковой репрезентации. Сила словтерминов «раса», «этнос», «культура» реальна и связана с долгой, запутанной историей их употребления. Здесь внимательный исследователь постоянно сталкивается с противоречиями — «раса» не равна «культуре» или этносу. «Белая раса» — и вовсе сконструированное понятие, которое, однако, имело, как известно, весьма ощутимые последствия. Невозможностьудовлетворительно разрешить эти проблемы без того, чтобы отказаться от потерявших смысл терминов и создать новую систему отсчета, приводит приверженцев политики культурного разнообразия к попыткам компромисса и дальнейшей контекстуализации и сознательного ограничения сферы своих исследований и влияния. Легче ведь не строить новую модель культуры как целостности, универсума, а ограничиться «своей кухней», по выражению афро-американской писательницы Поль Маршалл, именно там искавшей для себя смысл культуры и собственной идентичности36.
Компромиссной попыткой поликультурного осмысления социокультурной реальности Америки является нашумевшая несколько лет назад книга Рональда Такаки «Другое зеркало» (1993), где автор заявляет, что будет рассматривать сосуществование различных культур внутри США, но на деле говорит сугубо об истории этно-расовых взаимоотношений, по сути так и не подходя к проблеме определения как существовавшей, так и формирующейся, новой структуры культуры. Промежуточным решением в случае с Такаки становится пан-этничность, по существу возвращающая его к риторике и аргументам начала XX века, вкратце обозначенным выше. Автор только заметно расширяет пан-этничность, включая в нее новые группы — азиатско-американский пан-этнос, латиноамериканский и др. Пан-этнос ближе к представлению о культуре, чем просто раса. Само слово «американский» также ведь некоторое время означало пан-этнос белых, европейцев, да и все ассимилятивные теории американской культуры строились по существу на понятии пан-этноса. Однако, представив довольно точно и подробно американскую историю отсутствия взаимопонимания между старыми и новыми этносами и культурами, Такаки прибегает довольно неожиданно к либеральной риторике «демократического американизма» как единственной и весьма утопической идее, показавшей, кажется, уже ясно свою невоплощаемость, способной, однако, по его мысли, сотворить чудо и примирить Америку с самой собой. Примеры, к которым прибегает Такаки, красочны и наглядны, однако, по существу не добавляют ничего нового к простой констатации разнообразия, да и в качестве идеала порядком устарели. В изобилии цитируемый Герман Мелвилл выглядит и вовсе странно рядом с сухими цифрами статистикирасовых и этнических конфликтов и уровня безработицы: «Как команда «Пекода» в эпосе Германа Мелвилла, американцы представляют все расы и культуры мира, — пишет Такаки, — На палубе капитан Ахав и его офицеры — все белые. В трюме (в оригинале буквально — «ниже уровня палубы» — МЛ.) американцы европейского происхождения — как Измаил, африканцы, как Дагу, жители островов Тихого Океана, как Квикег, индейцы, как Таштего, и азиаты, как Федала. В команде «Пекода» существовало благородное классовое единство и демократическое достоинство»37. Разнообразие, которое для Такаки, возможно, справедливо является ключом к пониманию Америки, интерпретируется далее неожиданно в хрестоматийных и слишком, на сегодняшний день, утративших простую и счастливую однозначность категориях уитменовской «многоголосой» Америки. Вызывая в памяти ассоциации с плавильной пропагандой начала века, Такаки заявляет: «Будучи американцами, мы прибыли сюда с разных берегов и наше разнообразие легло в основу создания Америки. Наши истории хранят воспоминания о различных сообществах, но все вместе они составляют большое повествование, наполненное разными голосами Америки. Не смотря на прошлое притеснений и борьбы за равенство, американцы разных рас и этносов поют свои «мощные, мелодичные песни». Наша история, в которой нам отказывалось, теперь жаждет быть рассказанной. Когда мы слышим песню Америки, мы чувствуем, что нас приглашают принести на палубу (страны-Пекода — МЛ.) культурное разнообразие, понять и принять самих себя (37; р. 428) «Я каждого оттенка и касты», — пел Уитмен. — «И мне не нужно ничего лучше моего собственного разнообразия». Эта неожиданная в подобной книге «идиллия» в качестве вывода никак не связана и даже контрастирует с описанной автором картиной эволюции межрасовых и межэтнических отношений в США, лишь незначительно корректируя монокультурную и иерархическую модель привнесенными им новыми примерами разнообразия.модели, привычной для большинства комментаторов. Поэтому нередко оно подвергается критике как «слева», так и «справа» (в культурном, а не только политическом смысле) — и со стороны приверженцев просвещенческой онтологической модели, нередко отождествляющих мультикультурализм с постмодернизмом, феминизмом, и еще рядом «-измов», которые вызывают уСпор вокруг Просвещения.
Политике культурного разнообразия во всех ее многочисленных видах довольно сложно найти однозначную нишу в философской и социо-культурнойних безусловное неприятие, так, как ни парадоксально, и со стороны неоавангарда и собственно представителей различных постсовременных исследований, не замечающих в модели культуры разнообразия общие с ними самими методологические основы. Это не случайно, поскольку, культурное разнообразие, даже в своих наиболее привлекательных формах, занимает как бы промежуточную, до конца не выявленную позицию, прежде всего в вопросе трактовки универсализма, а также, соответственно, и релятивизма в онтологическом и этическом смыслах, что и делает его весьма уязвимым для критики. Идеалы и принципы Просвещения, которые нередко находятся в центре постмодернистского всеосмеяния, оказываются весьма важными и для поликультурных дебатов.
Не хотелось бы тратить время на обсуждение таких одиозных обвинений наиболее агрессивных и наименее образованных мультикультуралистов сепаратистского толка, как то, что Вольтер был антисемитом, а Кант, Гегель и Джефферсон — расистами и потому изучать их наследие по меньшей мере неприлично. Это типичный аргумент перехода на личности, который, к сожалению, весьма в ходу сегодня в американских культурных войнах. При ближайшем рассмотрении большинство из этих откровений оказываются просто неверными. Так, именно «расист» Джефферсон включил в первоначальный вариант Декларации Независимости впоследствии вычеркнутый пассаж — обвинение английского короля в работорговле — «пиратской войне, позорящей даже языческие государства», конечно риторическую фигуру не в меньшей мере, нежели реальное выражение точки зрения автора, действительно отпустившего на свободу только двоих из своих многочисленных рабов. И все же он неоднократно писал о «депортации» афро-американцев как единственном, с его точки зрения, возможном решении дилеммы американского черно-белого конфликта, причем не в только экономическом, но прежде всего в этическом смысле, как для рабов, так и для их хозяев. Другой американский просветитель Томас Пейн, со свойственной ему непримиримостью и критическим отношением ко всему и всем, высказывался еще в 1775 году о необходимости уничтожения «африканского рабства».
Важнее здесь не конкретные «обвинения» против тех или иных просветителей, но само отношение к наследию Эпохи Разума, как к закосневшему своду раз и навсегда данных, универсальных в дурном смысле истин. При этом критический дух и тенденция ставить под сомнение окончательные истины, сформировавшиеся во многом и в недрахПросвещения, сослужили ему самому плохую службу, очень скоро сделав жертвой подобной же практики. Как известно, история просветительских идей в XX веке была не слишком счастливой, да и сама реальность не способствовала укреплению веры в просветительские идеалы. Антиуниверсализм и релятивизм методично подрывали основы рационализма в течение всего столетия, активно перейдя на области точного знания, которые ранее считались не подверженными в такой мере релятивности38. Но эта возможность была парадоксально заложена в самом просветительском проекте. «Разумные, логические средства» ведь не гарантировали автоматически избежания «безумного результата», если воспользоваться парадоксом мелвилловского капитана Ахава. Теоретические споры по поводу правоты или неправоты просветителей в 60-е годы оказались неожиданно подтверждены вновь целым рядом реальных обстоятельств. Речь идет прежде всего о последовавших одна за другой маленьких «революциях» репрезентации. В Америке это были выступления афро-американцев в Уаттсе, феминисток в Атлантик-Сити, гомосексуалистов в Стоунуолле, многочисленные этнические возрождения. Все они боролись за признание официальной культурой реальности их существования, присутствия в культуре, и соответственно, требовали своего участия при распределении культурного влияния. Интересно, что, не сговариваясь, «новые левые» и культурные группы, настаивавшие на своей недостаточной репрезентации, формулировали свои претензии на представленность не иначе как в просветительских категориях, взывая к старой знакомой риторике «всеобщих равных прав», счастья, свободы и т.д. И тем не менее, одним лишь своим неожиданно обнаружившимся присутствием они реально меняли интеллектуальный климат и атмосферу в США. Несколько обветшавший к середине века релятивизм, ставший как бы «общим местом», получил от этих движений новый заряд, прежде всего потому, что они привнесли с собой не просто теоретизирование по поводу возможного и даже необходимого разнообразия, но само реальное разнообразие новых, доселе невидимых для национальной культуры «точек зрения». Основывая свою критику американского общества и культуры на идее равенства, сформулированной в просвещенческих терминах, эти культурные группы, тем не менее, протестовали против самого Просвещения, особенно в его американском варианте, и в частности, против идеи Америки, как выражения добра, блага и рационального начала. Это противоречие вело их часто неосознанно к тому, что, поставив под сомнение Америку как идею, они затем были вынужденысделать следующий шаг и отказаться от рациональной системы мышления и познания, которую предложило Просвещение и которая с небольшими изменениями, но все же продолжала господствовать в тот период в общественном сознании. Однако, привлекательные простота, ясность, логичность просвещенческой мысли сделали ее достаточно живучей в США, что связано, как указывалось выше, и с просветительским характером национальной доктрины, и с просветительской риторикой таких ее формообразующих документов, как Декларация Независимости и Конституция.
Практически все философские, исторические, культурные концепции постсовременности, включая и мультикультурализм, призывающие к отказу от «империалистического, расистского, сексистского» наследия Просвещения, не до конца осознают, что сами они — его дети, и что их точка зрения также обусловлена сегодняшним историческим контекстом, как и кажущиеся кому-то наивными, а кому-то манипуляторскими доводы просветителей. Не случайно поэтому, что Просвещение становится своего рода камнем преткновения в самых разнообразных современных культурных дебатах — от очерченного выше дискурса разнообразия до пересмотра литературного канона. Причем к его доводам прибегают обе непримиримые стороны, лишний раз демонстрируя как пластичность самих просвещенческих тезисов, так и манипуляторство спорщиков. Такие просвещенческие идеалы, как уважение к личности, к ее праву на достойную жизнь, на социальное устройство, которое могло бы обеспечить такое существование, прижились и давно стали общим местом, одновременно утратив в сознании многих рьяных «перспективистов» свою генетическую связь с Просвещением. А идея «всеобщего достоинства» Руссо по существу предшествует современным релятивистским социологическим концепциям и идеям политического самоопределения, являющимся как бы не до конца развернутыми и по существу неразворачиваемыми просветительскими тезисами. Идея равных и всеобщих прав, доведенная до логического завершения, приводит к мысли о том, что. есть и право быть другим, отличаться от всех остальных, и вместе с тем, разделять всеобщее право быть тем, кем хочешь быть. Восстановление этой генетической связи культурного разнообразия с идеями Просвещения в США имеет особый смысл, поскольку позволяет восстановить в правах и пошатнувшиеся идеи национального самоопределения. Отсюда и возникающий у многих исследователей, занятых проблемой мультикультурализма, тезис о том, что Просвещение нужно «просветить» еще больше, освободить от грубых ошибок, прежде всего, от деструктивных аспектов прогресса, выявившихся в связи сглобальными войнами и тоталитарными режимами нынешнего столетия, одним словом, дать проявиться его особенностям как самокорректирующейся системы. Это касается, в частности, работ Г. Джея, И. Вебстера, Т. Гитлина, Ч. Тейлора и др39.
Вместе с тем, важно иметь в виду, что просветительские идеи и концепции, определенным образом интерпретированные, оставались ключевыми и для наиболее консервативного, авторитарного, стремящегося к гомогенности слоя культуры США. Именно догматически понятые просветительская риторика и ценности отметили собой целый ряд книг (назвать большинство из них научными исследованиями было бы большой натяжкой), вышедших в последнее десятилетие XX века, и написанных с единственной целью — защитить национальную американскую культуру от посягательств «релятивистов, антиэссенциалистов, феминистов и мультикультуралистов»40. Исследования подобного толка (среди них выделяются книги А. Шлезингера мл., Д. Д'Сузы и др.) пользовались и продолжают пользоваться большой популярностью, остаются бестселлерами в течение многих лет, что сигнализирует о безотчетном стремлении массового общества убедиться вновь в собственной уникальности, в высшем предназначении Америки, в очередной раз поставленном под сомнение в конце XX века. В 1987 году вышла одна из первых и самых характерных книг такого рода под помпезным названием «Закат американского сознания». Ее автор — профессор Йельского университета, консерватор Алан Блум. Мультикультурализм для него является лишь одиозной «борьбой меньшинств за свои права»41, а пересмотр культурного канона он связывает с таким вредным, с его точки зрения, явлением, как релятивизм, а также с леворадикальными политическими движениями 60-х и остатками их активистов, которые, по мнению Блума, оккупировали английские отделения ведущих гуманитарных вузов, правления гуманитарных фондов и музеев и угрожают цельности, да и самому существованию американской культуры. Блум, а вслед за ним целый ряд его последователей — Дениш Д'Суза, Роджер Кимпбел, Артур Шлезингер мл., Кристина Хофф Соммерс, Уильям Беннет, Уильям Бакли и даже известный писатель Сол Беллоу — опасаются подмены разума, понимаемого сугубо в позитивистском смысле, «творческим началом», которое подозревают в отсутствии «знаний и игнорировании великих традиций». Пафос Блума и его последователей в какой-то мере, конечно, оправдан благим стремлением сохранить и воссоздать нравственные идеалы в американском обществе, вновь придать «американской мечте» иноеизмерение, помимо материального, как и восстановить в правах традиционный, по их мнению, для Америки культ знания, образования как залога формирования адекватной картины мира. В этой точке зрения есть, очевидно, и верные стороны. Так, Блум порой правильно подмечает недостатки одиозной программы «политической корректности».
Сама история этого термина в США довольно интересна. На ней останавливается подробно и Тодд Гитлин, утверждая, что существующий с 30-х годов XX века термин «политическая корректность» — сталинистский, впоследствии возрожденный в 60-х годах «новыми левыми». Употребление этого термина, по мысли Гитлина, сигнализировало об их собственной начинавшейся агонии, о догматизации, о гибельном стремлении к исключению инакомыслящих, пришедшем на смену импульсивной ярости и поискам новых средств самовыражения42.
Можно добавить, что в 90-е годы связь «политической корректности» с неприятием инакомыслия снова вышла на первый план, что сыграло важную роль в формировании изначально негативного, иронического отношения к политической корректности в общественном сознании. Однако сама развернувшаяся с конца 80-х годов XX века кампания против «политической корректности» была образцом примитивной демагогии и попыткой насаждения единообразия в мышлении. Иными словами, это были две идеологические крайности, страдавшие сходными догматическими принципами. Превратившаяся в пропагандистский лозунг, «политическая корректность» явилась немыслимой смесью из реальных фактов и нелепейших мифов. Она стала немедленно осмысляться в привычных терминах — ее противники прибегли к метафорике, напоминающей статьи журналистов - «разгребателей грязи» времен Теодора Рузвельта — «чистка», «крестовый поход против «политической корректности» и т.д. Их риторическое искусство и красочные примеры завораживали обывателя, льстили его самолюбию, убеждая лишний раз в его «культурности», слегка старомодной, но несомненно утонченной аполитичности, связанной с господствовавшим со времен высокого модернизма культурным каноном.
В самом начале 90-х годов Америка стала свидетелем массированной атаки в прессе, направленной против «левых безобразий», которые творятся в университетах, облеченной в форму морального негодования изданий типа «Нью-Йорк Тайме» («Растущая гегемония политически корректных: Новая ортодоксия академии»), «Ньюс-Уик» («Полиция мысли») «Нью Рипаблик» и «Атлантик Мансли» (где печатались главы из книги Динеша Д'Сузы«Несвободное образование»). Старые «новые левые» и академическая среда естественно стали защищать свои интересы — ни одна конференция, симпозиум — литературный, культурологический, антропологический, социологический — не обходились в 90-е годы без того, чтобы показать, что ностальгия правых и их попытки вернуться к догматически понятым идеалам Просвещения неуместны и одиозны, как и призывы возродить университетское образование, основанное на едином, монолитном каноне. Уже в 1993 году на телевидении появляется программа под характерным названием «Политически некорректно», в которой сразу же утверждается ироническое и часто само-ироническое отношение к новому, негативному образу американской культуры, который затем начинает активно эксплуатироваться в массовой культуре. «Политическая корректность», которую американцы тут же окрестили со свойственной им любовью к аббревиатурам «РС»43, стала повсеместной, о чем бы ни говорилось — о новых учебниках или о расовой и тендерной репрезентации в Конгрессе или на университетских кафедрах, о музейных экспозициях или о сексуальных домогательствах, о строгом речевом коде, принятом в большинстве университетов, или, наконец, о литературном каноне.
Культурная стратегия «всеобщего включения», особенно в ее политизированном, декларативном варианте, предоставляла противникам «политической корректности» благодатное поле для критики. Они с возмущением цитировали многочисленные, надо признать, весьма одиозные примеры из идеологов новой культуры: афро-центристский лозунг: «Греко-Римская культура была лишь отголоском более ранних и высокоразвитых Северо-Африканских цивилизаций», идею поборников индейского возрождения, что «Отцы-основатели целиком заимствовали свои модели создания Республики у американских индейцев», феминистские откровения типа: «Шекспира нужно исключить из вузовских программ на основании того, что его пьесы — пропаганда патриархальной культуры» или, наконец, доводы приверженцев так называемой критики «культурной работы», разновидности неомарксистского направления историко-культурного подхода, что «Моби Дик» — посредственное произведение эпохи «Джексоновской» демократии, посвященное расовым и классовым противоречиям этого периода, которое нельзя и рядом поставить с тогдашним весьма актуальным бестселлером «Хижиной дяди Тома».
Воспитательные моменты одиозной концепции «политической корректности», предполагающей на деле лишь внешнее подобие всеобщегоравенства и демократии и не интерес к другому, а скучную терпимость к нему, выражаются сегодня в раздаваемых американским студентам и профессорам в университетах памятках о недопустимости «смотризма», «красотизма» и «возрастизма» (слова-монстры, образованные специально для обозначения всех возможных способов ущемить права «другого»), в черно-белом разделении мира на «жертв» и «поработителей», характерном для наиболее экстремистски и сепаратистски настроенных мультикультуралистов. Подобное будущее, однако, было как бы изначально заложено в американской культуре (что отмечал еще А. Де Токвиль) и неоднократно находило художественное выражение в литературе и искусстве нынешнего века. Кошмар осуществившегося до конца и доведенного до абсурда эгалитаризма и парадоксальность представлений о норме легли в основу многих произведений К. Воннегута, Дж. Хеллера, Дж. Барта и др.
Уже в 1961 году Курт Воннегут в рассказе «Харрисон Бергерон»44 нарисовал всего несколькими штрихами поистине зловещую антиутопию, едва ли не вполне осуществившуюся сегодня. Действие происходит в 2081 году, когда все, наконец, стали равными «не только перед Богом и законом, но во всех прочих отношениях. Никто не был умнее другого. Никто не был красивее, чем остальные, никто не был быстрее или сильнее, чем другие. Все это равенство было обеспечено 211-ой, 212-ой и 213-ой поправками к Конституции и связано с непрекращающимся усердием агентов Инвалидного Главнокомандующего США». Воннегут рисует гротескный, уродливый мир, оставляющий впечатление физического нездоровья, в котором дикторами работают люди с дефектами речи и заики, балерины танцуют в масках и с пудовыми мешками птичьего помета на спинах, люди с «интеллектом выше среднего» постоянно носят специальные слуховые аппараты, производящие особый шум, не дающий им возможности сосредоточиться на мысли в течение длительного времени. В этом перевернутом мире за точку отсчета принята инвалидность, и потому придумывается слово «ипс!ег11апс1|'саррес1», как отклонение от нормы.
Алан Блум и его многочисленные соратники по лагерю противников политики разнообразия, связывает опасные тенденции релятивизма с дурным влиянием «европейских концепций нигилизма и отчаяния», в очередной раз «вульгарно воспринятых в США» и обернувшихся идеями «всеобщей терпимости». Он обрушивается, не особенно разбираясь, скопом, на всех релятивистов, студентов-активистов, вредные европейские философии и рок-н-ролл. Но мир в определенном смысле уже стал таким, каким Блум его видетьне хочет. И его панацея явно опоздала по крайней мере на столетие — ведь вернуть времена старой доброй непреложности этических и эстетических ценностей, абсолютного значения категорий, которыми он оперирует, как и раз и навсегда данного знания о мире и месте человека в нем невозможно. Страшнее всего для Блума оказывается онтологический релятивизм, так, словно он философ-просветитель, только без просветительского стремления к критике установленного, к пересмотру общепринятого, к вечному поиску истины. Изменилась кардинально и Америка, за сохранение которой ратует Блум. Иммигранты и сегодня хотят ассимилироваться, но Америка, в которую они ассимилируются — совершенно иная, она всячески подчеркивает и даже культивирует свою гетерогенность, так что в современной Америке принадлежность к ней определяется не в последнюю очередь тем, что вы немного отличаетесь от остальных, хотя и вполне определенным и предсказуемым образом — иначе говоря, в соответствии со сложившимся стереотипом.«Небелая» и «неевропейская» этничность и особенно гибридность и метисация считаются сегодня более интересными и модными, обеспечивающими наличие культурной, а не только индивидуальной идентичности. Так, например, растет число экзотичных «кейджунов»45, и уменьшается количество обычных этнических французов, американизировавшие свои имена в начале века евреи теперь с удивлением наблюдают, как их внуки возвращают прежние фамилии. В мире экономического упадка и «творческого разрушения» последних десятилетий XX века очень легко и удобно искать причины собственных неудач в подвернувшемся под руку «другом», «отнявшем» работу, учебу, место под солнцем. Усиливающаяся в последние годы «беспомощность» государства в США внушает американцам раздражение, никого не волнует по большому счету политика и парадоксы общественных установлений, уровень жизни незаметно падает и надежд на улучшение в будущем, увы, никто не питает. Парадокс американского бытия конца века состоит, таким образом еще и в том что несмотря на тотальную глобализацию всех областей жизни, казалось бы, «объективно» интегрирующую людей, реальность их повседневного существования, в том числе и духовного, и эмоционального, становится все более и более локальной, местной, узкой. Абстрактная общность и раздражающая «одинаковость» более не удовлетворяют и поэтому американцы ищут новых, но при этом еще и традиционных (в смысле поиска новых или забытых традиций) связей и культур, с которыми можно было бысебя ассоциировать. Это часто полуосознанное желание человека принадлежать хоть к какой-то зоне, месту, локальности, защищенной от доминирующей власти усредненности и отличаться от общей нивелирующей массы. Легче всего подобную общность, естественно, сконструировать создать с людьми ближайшими, которые выглядят и ведут себя так же как он сам. В этом обещание корней, традиции, будущего, места в жизни и ее смысла. Стремление к поиску и смене собственных «идентичностей» сегодня охватило практически всю Америку а вовсе не только «политически неблагонадежных» с точки зрения истэблишмента и «обделенных судьбой». Женщины, афро-американцы, геи соседствуют в «революции идентичностей» с южными баптистами и флоридскими евреями, луизианскими кейджунами и освоителями виртуальной реальности, калифорнийскими сикхами и различными представителями контркультуры, от остатков хиппи до «поколения X». Иными словами, реальное бытие последних десятилетий избыточно и многообразно отвергает «традиционные ценности нормальных, средних американцев, к которым постоянно апеллирует Блум, действительно камуфлируя свое «частное» под «универсальное».
На деле, особого противоречия между признанием различий и общих равных прав и целей не существует — это искусственное противопоставление, ведь людей многое и связывает, а не только разделяет, что понимает сегодня все большее число приверженцев культурного многообразия. Однако, не в силах примириться с реальным многообразием жизни и точек зрения на нее в США, многие американцы, вторя охранительной стратегии Блума и его единомышленников, сигнализируют о своей «нормальности», отрицая поликультурные и диалогические модели американского общества, представление о которых у них складывается благодаря негативной интерпретации в средствах массовой информации и в многочисленных популярных неоконсервативных книгах, подобных «Закату американского сознания». «Праведное», пусть и порой несколько истерическое стремление оживить «либеральный национализм», которое лежит в основе подобной оценки, ведет и к восприятию мультикультурализма не как возможной политики будущего, пусть и с оговорками, но как запоздалой реакции на «черный радикализм» 60-х. Менее консервативные сторонники Блума развили его аргументы, сделав критику «политической корректности» и шире — мультикультурализма более прикладной и конкретной, притушив в них идеологические моменты в чистом виде и догматически понятые идеалы и принципы Просвещения.
Однако практически все они отмечены одним общим элементом — даже утверждая, что американская «история — волшебный и триумфальный марш двух принципов — свободы и равенства», эти труды в защиту монокультуры, как ни странно, не оставляют в целом впечатления прославления прекрасной и гармоничной культуры-победителя. Скорее, на их портрете Америка выходит снова. еще несуществующей, не созданной до конца. Все идеальное для них лежит в прошлом, но чаще, опять же — в будущем. Правда, существенным изменением является отказ даже Блума и его последователей от идеи уникальности Америки. Она теперь и для них становится лишь. «одной из культур», причем не очень «крепко сшитой», рассыпающейся целостностью, мозаикой, которую они отчаянно хотят собрать по кусочкам. Беда только в том, что картинка-образец, которую имеют перед глазами «монокультуралисты», довольно проста и понятна — на ней ново-английская идиллия или фронтирная зарисовка, небоскребы Нью-Йорка или Маунт Верной, а вот те «кластеры», что и должны составить реальную американскую мозаику, на поверку оказываются совсем другими, не укладывающимися в жесткие рамки образца. Кроме того, их заметно больше, чем нужно для того, чтобы собрать хрестоматийную Америку, так что незадачливые игроки неизбежно оставят зияющие пустоты в мозаике и кучку лишних деталей, которым не нашлось места.
Это не всегда осознаваемое беспокойство и сомнения по поводу того, какой должна быть национальная идентичность и должна ли она вообще быть, звучат даже на страницах «Заката американского сознания». В очередной раз Америка оказалась перед национальной дилеммой — нужен был новый враг, новое «иное» в связи с исчезнувшим внешним врагом (СССР), чтобы поддержать привычное национальное определение «от противного». «Политическая корректность» и либеральная профессура, еще недавно участвовавшая в леворадикальных движениях 60-х годов, заменили исчезнувшего «врага» и создали необходимый прецедент для того, чтобы, наконец, сплотиться и. «выгнать феминисток, геев, мультикультуралистов прочь», очистить академическую среду, по непостижимым и возмутительным для неоконсерваторов от культуры причинам, поменявшую окраску и ассоциирующуюся теперь с неприличной политической активностью, с антирационализмом, антиканонизмом и антиконсерватизмом.
Монокультуралисты постоянно утверждают, что американская культура сегодня центробежна и разваливается буквально на глазах. Но тогда, что же представлял собой этот почти уже развалившийся центр — «бесшовную фактуру текстуальности», «общую культуру», «мейнстрим» — некий сводрасплывчатых принципов, индивидуальных прав и «возможностей», связанных с по-прежнему святой верой в уникальность общего дома — Америки, «сердца западной цивилизации» ? Определить этот центр сколь-нибудь убедительно не смогли даже самые горячие его защитники, да это и невозможно, так же как, в принципе, невозможно определить однозначно и основы «политики различий», под прикрытием которой сегодня успешно сосуществуют порой совершенно различные по своим задачам и пафосу культурные движения. При этом риторические (порой демагогические) приемы, к которым обращаются сторонники обоих непримиримых лагерей внутри американской культуры, почти неразличимы.
Центр определяется и его защитниками и противниками как «западные либеральные ценности», «культура», «цивилизация», наконец, «разум» и связанная с ним «истина», ухватить которую способны (по мнению монокультуралистов) только представители западной цивилизации, и выразить которую можно только на «достойных» языках — английском, французском, немецком, древнегреческом. Несколько обветшавшее, но по-прежнему популярное у обывателей прославление американского величия при этом обычно основывается на каноне западной историографии и литературы, активном неприятии любых выступлений за групповые права и групповое мышление ( как «не западное», не основанное на индивидуализме) и подтверждении свободы речи как величайшего завоевания американской демократии. Противники «политической корректности» и «политики разнообразия» смогли успешно слить все эти элементы в массированной атаке на мультикультурализм, внеся в понятие культурного центра (в противовес периферии, пограничью) дополнительный оттенок сознательного консенсуса, соглашения рационально мыслящих «нормальных» американцев по поводу культурных приоритетов, образа жизни, в очередной раз переосмысленной «мечты», морально-нравственных устоев и т.д.
Если сторонники культурного единообразия несколько запоздало продолжают пропагандировать «универсальные» ценности, то их противники напротив, дошли уже кажется до полного отказа от самой идеи общности и любых обобщений. Не случайно, их часто называют «перспективистами», подчеркивая четко обозначившееся стремление ограничиваться частным, контекстуальность, отличающие современных борцов против всего, что «маскируется под всеобщее». Многие участники культурных баталий при этом редко задумываются о том, что сам их постсовременный скепсис по отношению к универсализму, имеет корнем просветительскую идеючеловеческого равенства и разнообразия, идеал самоопределения и отказа от авторитарной власти.
Отношение к универсализму сегодня является лакмусовой бумажкой, с помощью которой проверяют принадлежность к тому или иному лагерю в культурных войнах в США. По мнению антиуниверсалистов, не существует более высокой социальной организации, чем местная группа, и нет и не может быть исторически необходимого и обоснованного универсализма, но только повсеместная «вселенная различий». Эти группы с различными интересами лишь иногда, случайно и на короткое время могут сойтись, если их интересы пересекутся. И думать по другому значит питать рационалистические или метафизические иллюзии. Эта довольно мрачная точка зрения, к сожалению, довольно близка к реальности, поскольку защитники универсализма и формирования «культуры общности», понимают, что на сегодняшний день это скорее уже практически недостижимый, хотя быть может и желанный идеал. Антиуниверсализм в своих наиболее доступных массовому сознанию формах столь же быстро стал частью «коммерциализированной политики различий», сколь и остальные, менее пугающие элементы мультикультурализма46.
В этой не имеющей, казалось бы, очевидного разрешения ситуации позиция приверженцев «всемирного» или космополитического идеала культуры, представляется наиболее плодотворной, хотя также достаточно уязвимой. Одной из своих целей они ставят обеспечение культурного диалога и полифонии, создание и изучение «культурных гибридов» и критику узкого «трайбализма», а также выработку идеалов, которые могли бы быть поняты и возможно разделены. пусть не всеми, но все же хотя бы еще кем-то, помимо узкой группы единомышленников.
Парадоксально сохраняя веру в гуманизм в давно «дегуманизированном» мире, культурные «космополиты» пытаются по существу несколько модернизировать старые просветительские ценности, при этом учитывая и «культурные различия», и культурное многообразие. В эпоху ставшего общим местом релятивизма, популярной стала мысль о том, что все мы глядим на мир через собственную призму, и иногда она становится тюремной решеткой, а наша точка зрения неизбежно — ограничением. Представители «всемирного» мультикультурализма несколькоидеалистически пытаются доказать, что это ограничение не абсолютно, поскольку не исчез условный просветительский идеал «всеобщего блага» и по-прежнему существует вера в то, что различные точки зрения могут быть еслии не разделены, то хотя бы потенциально поняты другими — посредством диалога, объяснения, наконец, простого сострадания.
Не случайно поэтому, в последние годы многие сторонники пересмотра культурного канона в сторону его расширения, смены взаимоотношений центра и границ, в том числе и «либеральные» и даже «радикальные» мультикультуралисты стали понимать, что полный отказ от идеалов и риторики Просвещения для них не только не выгоден, но и просто вреден. Это не в последнюю очередь связано и с критикой мультикультурализма, с противоположной стороны — а именно, из лагеря неоавангардного истеблишмента, со стороны ряда постструктуралистов, деконструктивистов и некоторых других представителей постсовременных гуманитарныхисследований.
В этом смысле характерным примером «компромисса» между Просвещением и постсовременными теориями разнообразия (в частности, в вопросах трактовки гражданской лояльности — с особым вниманием к проблемам национального и этнического определения) является точка зрения на проблему мультикультурализма и шире, судьбы национализма и самого понятия нации-государства, выраженная Юлией Кристевой в книге «Нации без национализма» (1993)47. Кристева защищает так называемый гражданский национализм, основанный на знакомой просветительской теории «договора», противопоставляя его этническому как примитивному и тем самым намекая косвенно на то, что американский вариант нации, основанной не на «кровном родстве», но на сознательном выборе, является более развитым и просвещенным, нежели европейские. Книга Кристевой написана на французском материале (что лишний раз доказывает актуальность этой проблематики в мировом масштабе) и является помимо всего прочего непосредственным откликом на войны французских «мультикультуралистов» (в частности, организации «S.O.S. Rasisme», основанной в 80-х годах для защиты прав арабских иммигрантов) и правых антииммигрантских организаций типа Французского Национального Фронта Ле Пена. Кристева и пытается найти компромисс между эти двумя точками зрения непримиримых культурных экстремистов, заявляя прямо о своих «универсалистских» и космополитических настроениях, высказывая идею о том, что гражданский национализм, не озабоченный проблемой этнического происхождения, способен своим договорным, «легальным» характером открыть реальный путь «другому» для вхождения в национальную культуру, не объявляя ее при этом целиком расистской и «исключающей». Закономерно и обращение бывшейболгарской иммигрантки к идеям Просвещения (в ее случае — французского) для доказательства плодотворности понятия гражданского национализма и «уважения иммигрантов к гостеприимным хозяевам», к наиболее «просвещенным», по ее словам, элементам просветительской идеологии, которым были известны объективные ограничения национализма и которые недвусмысленно ставили космополитизм выше национальных интересов. Кристева предлагает не отказываться от идеи государства-нации, но воспринимать ее не в абсолютном смысле, а в соответствующей перспективе, определить которую ей оказывается неожиданно легче в просветительских терминах. Подобным же пафосом политической и социо-культурной «умеренности», нарочитой взвешенности и попытками примирить идеи Просвещения с постсовременной реальностью, пронизана и книга Цветана Тодорова «О человеческом многообразии. Национализм, расизм и экзотизм в истории французской мысли» (1993)48, и исследование американца Дэвида Симпсона «Романтизм, национализм и бунт против теории» (1993)49. Эти и некоторые другие книги последних лет лишний раз демонстрируют, как идеи Просвещения в «постпросвещенческом культурном пространстве» не теряют своей актуальности, занимая воображение и культурных экстремистов правого и левого толка, и умеренных либералов, и сторонников просветительского рационализма, и постструктуралистов, которые, казалось бы, весьма далеки от культурно-политических реалий современности. Наиболее обещающим для мультикультурного проекта представляется поэтому, на сегодняшний день, взгляд на Просвещение как на надежду, приглашение к сотрудничеству и возможность хотя бы иллюзии взаимопонимания, восприятие его не как архива или энциклопедии готовых ответов, данных раз и навсегда истин, но как поля для конструктивного диалога.
Мультикультурализм ипостмодернизм. Вопрос о соотношении мультикультурногопроекта во всех его многочисленных проявлениях и постмодерна как эстетико-онтологического комплекса требует специального внимания. На первый, самый поверхностный взгляд, культурное смещение 90-х годов XX века в США выразилось прежде всего в угасании интереса к теориям, принесшим десятилетие назад моду на «симулакр» и «гипертекст», а полки известных книжных магазинов сегодня вместо повсеместных еще несколько лет назад Ж. Бодрийара и Ж. Дерриды заполнены книгами о женщинах стран третьего мира, проблемах СПИДа, антологиями «гейской»прозы и т.д. Отчасти, закат популярности ведущих культурных теорий 80-х связан с тем, что многое из того, что они пытались вывести за рамки реального существования, «деконструктивировать» до нуля, оказалось на редкость живучим и не желающим исчезать. «Телесность» или проблемы «объективации», например, могут, конечно, расцениваться как сугубо социально и контекстуально обусловленные, но СПИД, озоновые дыры, дурная экология, продолжающееся в новых формах культурное порабощение настойчиво заявляют о своей вполне «реальной» — в ненавистном для постмодернистского теоретизирования смысле, природе. В связи с этим интересно вспомнить программную статью «Литература пополнения»50 (1979) признанного американского «практика» постмодернизма Джона Барта, где он точно улавливает обусловленность популярности постмодернизма (на Западе) определенным временем — а именно, 1970-ми годами, и рассказывает, как слово, еще не попавшее в современные словари и энциклопедии, вытеснило остальные темы университетских курсов, научных конференций и семинаров, как в мгновение ока сам он (как и ряд других писателей) сделался «живым корифеем» новомодного течения. Как известно, довольно быстро произошла канонизация, а затем и «застывание» постмодернизма как художественной практики в виде догмы, несмотря на всячески пропагандировавшиеся его адептами открытость, диалогичность, вселенскую иронию и даже (в случае с самим Бартом) демократичность.
Сегодня слова Барта о повсеместности постмодернизма, ставшего удобным, «резиновым» термином, способным вместить в себя великое множество явлений разного порядка, можно легко применить и к мультикультуре, решительно вытеснившей своего предшественника с культурной арены и нередко угрожающей в конце 90-х XX века также превратиться в догму, несмотря на «открытость», «децентрацию», «диалог культурных миров», релятивизм и особенно «мультиперспективизм», позаимствованные ею несомненно из общего с постмодернизмом философского источника.
Отпочковавшись от постмодернизма, как его частный случай, как еще одна из форм пересмотра установленного «порядка», академического канона, господствующих политических идеологий, причем, точно соответствующая эпохе, отмеченной ростом этнического разнообразия в США и в мире, значительным усилением экономической и культурной интеграции, мультикультурный проект стал попыткой наиболее пластичного приспособления к этим изменившимся условиям бытия. И все же, знакомыеконцепции культурной деиерархизации и децентрации, «эпистемологическая неуверенность», отказ от логоцентризма, повышенный интерес к проблеме «другого» остаются основными и для большинства мультикультурных теорий, хотя и применяются в отношении совершенно особого материала, не всегда лежащего в сфере интересов теоретиков высокого постмодерна, за исключением тех, кто специально занимался этими проблемами, а именно представителей постколониального и посткультурного проектов. Так, например, из выделенного М. Фуко ряда — слабых, социальных изгоев, безумцев, извращенцев, пациентов, преступников и, наконец, просто «других»51, которых можно вдруг обнаружить в дебрях собственного подсознания, мультикультурализм выбирает прежде всего метафизически маргинальных субъектов, «других» не по своей воле, но из-за цвета кожи или нескрываемого акцента, тем самым корректируя (пусть и путем конкретизации или даже некоторой примитивизации) само понятие «инаковости».
Мультикультурное «разнообразие» в сущности не так уж далеко от постмодернистского «различия». А отсюда и общий принцип — познавать и описывать «иное» так, чтобы не нарушить его претензии на субъектность, как и предельная контекстуализация любых теоретических выкладок и вариантов художественного осмысления этой проблематики, также позаимствованные сторонниками политики культурного разнообразия у постмодернистов, и мультикультурное «разрушение» определенных, актуальных для поля современной культуры обобщающих понятий. Не случайно, деконструктивизм активно используется мультикультуралистами как метод анализа и как определенная направленность в выборе художественных приемов. В последние годы представители мультикультурных и постколониальных исследований — прежде всего здесь речь идет о Г. Спивак, Э. Сайде, X. Бхабхе, Г.Л. Гейтсе мл. Р. Броумли и др.52 — все чаще осознают и анализируют природу внутренних связей и преемственности между постмодерным теоретизированием и мультикультурным и постколониальным проектами, как прикладного, так и теоретического характера. Проблема культурной инаковости и различия так, как она формулируется в постколониальном и мультикультурном дискурсах, несомненно связана с более ранними по времени антилогоцентрическими выступлениями постмодерных теоретиков. Адепты культурного разнообразия поэтому не случайно обращаются к наследию Ж. Дерриды, Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Лакана, наследуя при этом нередко и определенные внутренние противоречия, свойственные концепциям этих ученых. Однако, наибольший интереспредставляют как раз те случаи, когда мультикультурные и постколониальные теоретики пытаются, сознательно оттолкнувшись от постмодернистских идей, предложить их дальнейшее развитие и корректировку. В частности, это касается концепции «различения» (в русской традиции также «разграничение», «различие») — «сШегапсе»53 и трактовки феномена «другого», как важнейших для мультикультурного и постколониального дискурса постмодерных понятий. Идеи Ж. Дерриды о «столкновении путем разделения, как единственном не насильственном способе трактовки проблемы «другого»54 особенно активно переосмысляются, в частности, Г. Спивак, которая в работе «Постколониальный критик: интервью, стратегии, диалоги» (1990)55 размышляет о принципиальной невозможности понятия абсолютного «другого», обосновывая свою мысль отчасти психологически, отчастиэтически тем, что человеку свойственно переводить любую инаковость в знакомые ему термины и категории, тем самым делая ее неабсолютной и приближая к себе, сближая хотя бы до некоторой степени объектность с субъектностью.
Постмодернистские идеи различ(ен)ия в сочетании с моментом «эпистемологической неуверенности», как они нашли отражение в понятии «сМегапс!», в частности, в интерпретации Ж.-Ф. Лиотара56, оказались также весьма актуальны, особенно в их социально-политическом и культурном измерении, для постколониального и мультикультурного дискурсов. Постколониальная культурная «жертва» при этом оказывается почти идеальным примером человека или группы людей, не имевших доступа к репрезентации в рамках того или иного метарассказа — национального, международного, светского, религиозного. Эти «жертвы» тем самым были выброшены за границы проектов модерна, постмодерна, демократии, и т.д. что дало основания, скажем, тому же X. Бхабхе говорить о «контр-модерне» (29; р.6), как особом культурно-историческом поле, в котором существуют субъекты его социо-культурного анализа. Важно иметь в виду, что сама идея «эпистемологической неуверенности» и связанный с ней постмодерный релятивизм, подвергаются в постколониальном дискурсе значительным корректировкам и уточнениям. Дальнейшую деконструкцию претерпевает многообразие и неоднозначность интересов постколониальных субъектов, бывших или нынешних «жертв». Их цели как бы проскальзывают сквозь привычную сеть нормообразующих принципов и понятий, характерных для постмодерного мироосмысления. Идея «различ(ен)ия», сам момент «неуверенности», «нерешительности» для постколониального имультикультурного дискурсов оказываются двойственными, могущими принести бывшей или нынешней культурной «жертве», которая к тому же часто являет собой лишенного определенного локала индивида, как вожделенный голос, так и новую невидимость. Если абсолютный релятивизм классически постмодерного толка нередко предполагал тупик, отказ от самой возможности взаимопонимания между культурными группами и индивидами, бесконечное постулирование и тиражирование различий и разнообразия, то для Г. Спивак и X. Бхабхи релятивизм предполагает, как ни странно, этический, нравственный выбор, когда момент нерешительности, неуверенности, «временного запаздывания», рождающий новые смыслы, позволяет застывшим ролям поработителя и «жертвы» стать менее абсолютными.
Культурная полифония нередко выделяется сегодня как универсальное свойство и осмысляется не только как психологическое состояние, но и как личностное выражение последствий постмодернистского повсеместного культурного взаимообмена. Отсюда и повышенный интерес к языку и дискурсу «другого», пограничного, того, кого заставили говорить на неродном языке кто оказался вынужден мыслить и существовать в парадигме чужой культуры или принадлежать более чем одной культуре одновременно. В современном дискурсе, где жизнь воспринимается нередко как текст, язык приравнивается к сознанию, к «эпистеме», интерес к пограничным и поликультурным формам закономерен. Поиск инаковости в самом себе — важнейшая часть формирования этой новой эпистемы. Но это и ситуация, типичная для гибридного сознания и контекста, что подтверждает мысль многих исследователей о том, что все пограничные культурные группы и личности объективно являются выражением постмодернистской ситуации и чувствительности.
Приведем слова И. Ильина, на наш взгляд, довольно точно сформулировавшего суть постмодернистской основы поликультурной и маргинальной проблематики: «Насколько мифологема «нового трайбализма»57 с приписываемой ему тенденцией к разрушению, размыву общественных, социальных, духовно-идеологических и эстетических границ, реализующей свою разрушительную силу вследствие плюралистичности своих интересов, ориентаций и вкусов, окажется убедительной в характеристике грядущих перемен, ответ даст лишь время. В принципе это «идеологическое бегство» от всевластья крупномасштабных общественных структур позднего или потребительского капитализма к «новой социальности малых групп» и оно представляет собой один из вариантов духовного эскапизма — путь, в своевремя проделанный коммунами хиппи, и завершившийся, как известно, ничем»58 Можно только уточнить, что полное отождествление «нового трайбализма» с эскапизмом хиппи все же не совсем верно, их разделяет неуловимый, но весьма существенный временной зазор, разница в типах чувствительности, хотя точки соприкосновения безусловно имеются. Фраза же «закончилось ничем» незаметно выводит к политической, социально-экономической сфере, чего эскаписты всех времен неизменно старались избежать, пусть и наивно и неудачно. Подобная точка зрения близка взглядам многочисленных «левых» и особенно неомарксистских критиков, ругающих сегодня поликультурные теории за эскапизм и глубинную социальную неангажированность.
Перекликается с подобными идеями и мнение Умберто Эко, высказанное им в довольно давней статье «Существует ли контркультура ?»59 где он предлагает делить культуры на самовоспроизводящиеся (в том числе и саморазрушающиеся) и зависимые (или паразитические). В качестве примера первой ученый приводит либеральную буржуазную культуру (в которой конкуренция включает в свое поле всех, даже аутсайдеров). К паразитическим культурам Эко относит, в частности, наркокультуру, предполагающую обязательное наличие более широкой коммерческой культурной модели, в которую она включена, а также хиппи и всех остальных «эскапистов», воссоздававших, по его мнению, искусственно идиллический контекст прошлого за счет современных средств более сильной культурной модели, позволяющих им существовать на своей периферии. По существу, в разряд контркультурных явлений, как их определяет Эко, должны попасть и такие феномены, как новый трайбализм (хотя специально эту тему он не оговаривает). По мысли ученого, причиной нежизнеспособности подобных культурных групп является не их неумение выразить адекватно свои взгляды, но отказ признать собственную зависимость от доминирующей культурной модели. Эко считает любые претензии на отказ от политики и возвращение к сфере глубоко личностной, камерной в конечном счете, проявлением культурного паразитизма. Для того, чтобы выжить, культура должна быть способной осознавать и критиковать себя самое, а также другие культурные модели, в том числе и доминирующую.
Эко связывает позитивное определение контркультуры не только с критическим определением ядра или центральной доминанты, но и с признанием возникающих культурных инвариантов, связанных с альтернативными способами трансформации существующих социальных,научных, эстетических парадигм. Это единственная культурная манифестация, которую доминирующая культура никогда не примет, поскольку в отличие от паразитирующих контркультур, эта модель способна теоретически осмыслить свою инаковость и отличие от доминирующей модели и тем самым предложить собственную модель, способную к самовоспроизводству.
Наиболее важной точкой соприкосновения постмодернистской чувствительности и современных поликультурных концепций является, таким образом, «маргинальность», то есть «продукт ценностной и нормативной амбивалентности», не соответствия норме, не связанной в данном случае лишь с культурной географией. В культурологии и социологии этно-расовая и культурная специфика и иные социальные стратификации очень часто рассматриваются как вещи одного порядка (например, преступная среда приравнивается к этносу, наркокультура или культура хиппи, как и вообще любых «эскапистов» с вполне убедительными доводами оказывается по основным признакам сопоставима с бикультурной и межкультурной маргинальностью). Об этом писал еще социолог Р. Мертон, выделяя как основные типы реакций, ведущих к возникновению субкультур, — инновацию, ритуализм, ретретизм (отказ от общепринятых целей, средств) и бунт, тесная взаимосвязь которых с вариантами развития пограничных (или в данном случае субкультурных) типов реакций, на мой взгляд, достаточно очевидна. Более того, сами концепции маргинальности, как они возникали в 20—30-е годы в теориях Р. Парка, Э. Стоунквист, были непосредственно связаны с проблемой миграций, стоящей в центре пограничья и теперь, и с проблемой этно-расового культурного взаимодействия.
Характерно в этом смысле, что современное движение мультикультурализма довольно быстро потеряло лишь этно-расовую или национальную окраску, сделав при этом акцент на явлениях, традиционно оценивавшихся в контексте нравственно-этической маргинальности. Рефлексируя этно-расовый и поликультурный маргинализм, многие комментаторы (причем, это касается прежде всего в большей мере художественных попыток осмысления подобной проблематики, в частности, в произведениях Г. Ансальдуа, Ч. Морага, И. Рида, Т. Моррисон, Э. Уокер, Ф. Чина, П. Г. Аплен, А. Рич и др.)60 незаметно и легко переходят от описания, на первый взгляд, достаточно объективного эмпирического «пограничья» к «маргинальному» отклонению от социо-культурной и этической нормы, как ключевому свойству культурного «гибрида». Но в отклонении от нормы видится и потенциальная возможность одновременного «бытия в обоих мирах»— нормальном и аномальном, способность «жонглировать» культурами. Происходит динамическое взаимодействие объективных и субъективных факторов в развитии пограничного и шире — маргинального мироощущения — пол, цвет кожи, сексуальная ориентация, социальный статус — сравнительно более объективны, нежели политический, нравственно-этический маргинализм. Такое символическое пограничье — довольно коварное понятие, поскольку определить его границы практически невозможно. Ведь по существу любое достойное внимания художественное явление (как и позиция его автора) в чем-то «погранично» по отношению к подразумеваемой «норме», в чем-то отлично от мифического центра, выражаясь порой в форме общей «выключенное™» из любой культуры (реальной, воображаемой, нормативной, маргинальной). Примеров последнего, метафизического и абсолютного остранения в американской литературе всегда было достаточно много, хотя они лишь теперь, в связи с постмодерным осмыслением мира, стали рассматриваться как часть традиции пограничья и шире — маргинальное™. Мелвилловский писец Бартльби в этом смысле — не только герой-экзистенциалист, вполне в духе «Постороннего» Камю, но и «человек пограничья», пассивно сопротивляющийся «нормальному» (нормативному) окружению. Таковы и герои многочисленных и сегодня практически забытых произведений 30-х годов, вроде романа «Люди дна» (1930) Эдварда Далберга— безработные, бездомные, опустившиеся скитальцы, обитатели трущоб — «маргинальные люди», выбирающие «жизнь на дороге» не по своей воле или особой философии (как через 20 лет — герои Дж. Керуака), но в силу обстоятельств, и некого остаточного натуралистического детерминизма их авторов, и начисто лишенные романтики, поисков смысла существования, или даже просто попыток быть услышанными, как генетически близкий им, казалось бы, герой знаменитой абсурдистской пьесы Э. Олби «Что случилось в зоопарке».
Пограничье не равно маргинализму, как периферийное™ по отношению к обществу, его культурным, социальным и этическим ценностям, но тесно с ним связано, так что граница между пограничной этикой и этикой пограничья размыта и проницаема.
Сущностное сходство и единый источник мул ьти культу рал изма и постмодернизма редко осознается высоколобыми деконструктивистами и еще меньше писателями «неоавангардного истеблишмента», отказывавшими вплоть до самого недавнего времени мультикультуралистам в их претензиях на знакомство, а порой и слиянность с культурными теориями и практикамипостмодерна. Этот факт, вероятно, можно было бы объяснить посредством вполне постмодернистской идеи о том, что обе стороны здесь оперируют в пределах «своего» дискурса и не являются в этом смысле правыми или неправыми, но всего лишь ограниченными рамками своей контекстуальности. Отсюда и весьма живучие иерархические «деления», о некоторых из которых мы говорили выше, когда постмодернизм рассматривается неизменно в отдельной рубрике, как и «этнические» литературы, и подобные аморфные категории, как «женская проза», по существу никогда не смешиваясь. Это недоразумение, однако, довольно быстро корректируется самой жизнью, поскольку большая часть мультикультурной художественной продукции конца XX века, как и антропологических, литературоведческих и этнологических исследований, занятых проблемами культурного многообразия, явно несет на себе печать близкого знакомства, если и не родственной связи с культурными теориями постсовременности.
Попытки представить мультикультурализм скоропреходящей модой оказываются в итоге столь же несостоятельными, сколь и его абсолютизация. Скорее представляется реальным дальнейшее развитие основных принципов мультикультурализма (в его «всемирном» варианте), в результате чего многие из них, как и художественные явления, которые они описывают, станут частью изменившего свой смысл канона, пресловутой «общей культуры», потеряют свою маркированность, как это произошло и с другими явлениями американского культурного поля. Более сложным является вопрос об интерпретации художественных явлений, связанных с понятием поликультуры, поскольку существующие принципы и методы интерпретации, как правило, связаны либо с традиционным, каноническим и монодисциплинарным подходом и не способны оценить явления, выходящие за его рамки, либо с попытками отказаться от сугубо филологического или литературоведческого анализа и заменить или во всяком случае дополнить его антропологией, этнографией, культурологией и т.д. Компромисс между этими крайностями, наверное, и способен дать необходимый толчок к выработке нового критического аппарата и главное, типа мышления, восприятия, интерпретации, которых требует мультикультура.
Мультикультурализм и проблема пересмотра культурного канона.
Оценивая мультикультурализм в его взаимосвязях с различными аспектами современной культуры, невозможно обойти вниманием понятиекультурного и литературного канона. Это не случайно, ведь активный пересмотр канона, идущий в США с переменным успехом в течение уже нескольких десятилетий, напрямую связан с явлением мультикультурализма. По существу, последний является частью первого. В связи с этим, имеет смысл кратко остановится на эволюции идеи литературного канона в США, на различных типах канонов, существовавших в американской традиции и на их взаимосвязи с явлением мультикультурализма.
Нынешний активный пересмотр канона — далеко не первая волна «демократизации» американской литературы и представлений о ней в XX веке. Еще в 1900-е годы Г.Л. Менкен и Т. Драйзер боролись, каждый по своему, с господствовавшей «благопристойной» традицией в литературе, с абсолютизацией чисто «английской» природы американской культуры и за включение авторов не англосаксонского происхождения в канон национальной словесности. В 1918 году Ван Вик Брукс написал известную статью «О создании пригодного к употреблению прошлого»1, в которой противопоставил общепринятый, «конформистский» канон американской литературы свободным, творческим, независимым, по его мнению, канонам европейских литератур, отвергая тенденцию к беспрекословному подчинению нормам «благопристойности». Вместо национализма, как главного канонического идеала, Брукс предлагал идеал культуры, основанный на допущении, что «духовное прошлое не обладает объективной реальностью и позволяет нам постичь только то, что мы хотим в нем увидеть» (1; рр. 220—221). Он призывал американских писателей стать независимыми не только от европейских «салонов», но и от диктата американского провинциализма, постоянно подчеркивая необходимость создания национального канона в соответствии с независимо сформулированными эстетическими принципами. Для него канон становится одним из главных орудий в борьбе против культурного конформизма. Этот аспект бытования канона был развит такими критиками, как В. Л. Паррингтон, Л. Триллинг и др. В 30-е годы идея канона, заявленная Бруксом, активно дискутировалась и подвергалась изменениям и дополнениям, главным образом, с целью обратить внимание на современных авторов, ранее игнорировавшихся, и поменять местами некоторые шахматные фигуры на доске американской словесности. В частности, это пытался сделать нобелевский лауреат 1930 года Синклер Льюис в речи «Страх американцев перед литературой», выделяя по-прежнему непопулярных Драйзера, Уиллу Кезер, Шервуда Андерсена, Хемингуэя и потеснив непривлекательный для него, но все еще актуальный идеал «нового гуманизма», проповедовавшегосяв свое время Ирвингом Бэббитом и Полем Элмером Мором. Уже в 1937 году Малькольм Каули опубликовал сборник статей о современных«неканонических» авторах под названием «После благопристойной традиции». Своеобразным требованием, которому должны были отвечать все писатели, о которых шла речь в сборнике, была именно их «неканоничность», однако само стремление возвысить молодых Хемингуэя, У. Кезер, К. Сэндберга, Т. Драйзера, Синклера Люиса, Юджина О'Нила и др. все равно находило выражение в привычных канонических категориях — их сравнивали с Шекспиром, Толстым, другими «классиками», позднее, после появления нашумевшей статьи Элиота о мифологизме и «Улиссе» — находили параллели их творчества с античными мифами с тем, чтобы возвести в канон саму «неканоничность» новых американских писателей. Однако, неожиданно актуальными для данного исследования являются не всем известные работы Ван-Вик Брукса, М. Каули или В. Л. Паррингтона, но вышедшая в том же 1930-м году малоизвестная сегодня книга Эдвина Гринлоу под названием «Место литературы»2, где вместо узкого, прикладного понимания канона автор предлагает идею литературной истории, которая почти буквально будет повторена в 80—90-е годы XX века сторонниками так называемой «культурной критики» в США. В ней на первый план выходит изучение истории цивилизации, причем необходимость или напротив, необязательность выработки канона в подобных цивилизационных исследованиях остается достаточно открытой и тогда и теперь3.
В 1932 году появилась статья известного американского литературоведа Карла Ван Дорена под названием «К новому канону»4 (1932), в которой автор, развивая идеи Брукса и Гринлоу, предлагал возможную «творческую» альтернативу общепринятому американскому«националистическому» канону. Статья была написана в качестве положительной рецензии на вышедший тогда увесистый том «Истории американской литературы» под редакцией Л. Льюисона, который Ван Дорен представил в качестве возможной «модели» национального канона, не как свода документов, но как символической духовной истории народа — открытой, незавершенной, романтически текучей и допускающей изменения, в противовес ортодоксальному, школярскому варианту канона как наиболее инертному элементу американской культуры, удовлетворяющему лишь потребности «издателей, публикующих антологии, да школьных учителей, умеющих преподавать Хоуэллса, но не Драйзера, Лонгфелло, но не Эмили Дикинсон». Ван Дорен верно подметил особенность большинства известных пересмотровканона, заявив, что академическая среда не способна реально содействовать смене одной канонической модели на другую, лишь пассивно ожидая, пока эта работа будет осуществлена «кем-то другим», а затем, получив новый, переосмысленный канон, станет упрямо настаивать на невозможности и недолжности никаких последующих изменений. Эта не слишком приглядная роль американской «академии» будет скорректирована лишь в последние несколько десятилетий XX века, когда именно профессора заявят о необходимости пересмотра канона и выступят его организаторами. Исключения, впрочем, есть и теперь. Взять хотя бы нашумевшую недавно элегию о каноне Гарольда Блума, полившую бальзам на сердце приверженцев элитарной идеи каноничности.
Представление об истории американской литературы как отдельной дисциплине, не говоря уже о ее объективном многообразии, долгое время — практически до середины XX века — оставалось новым, непривычным, скованным идеями англо-саксонского превосходства, постепеннотрансформировавшимися в характерно американский национализм с одной стороны, и не менее губительный для объективной картины культурного развития элитарный эстетизм, с другой. Пересмотр канона, связанный с включением все новых, ранее «невидимых» групп и фигур в культурный контекст Америки и в ее литературную историю, растянулся на несколько десятилетий. Однако, теоретическое осмысление и глобализация процесса расширения и пересмотра канона и представлений о нем, пришлись лишь на 80—90-е годы XX столетия и оказались связаны в своем наиболее плодотворном, космополитическом варианте с именами таких критиков, как Лесли Фидлер, Френк Кэрмод, Поль Лаутер, Эдвард Сайд и др. Именно теперь стало принято говорить не столько о расширении канона, о включении в него новых фигур, мифов, героев, книг и одновременно, смене места, казалось бы, устоявшихся корифеев, классиков, шедевров, а скорее о явном, общем стремлении (каким бы невыполнимым оно и не оказалось в итоге) не строить новый культурный канон на ранее существовавших принципах, а вовсе отказаться от подобной идеи. Не случайны в этом смысле и попытки некоторых исследователей, особенно компаративистов, поставить под сомнение не только литературный канон, но и само понятие «американской литературы», предлагая вместо этого говорить о разнообразных и «диалогичных» по отношению друг к другу «литературах Америки» или даже «литературах Америк». Последнее предлагает, в частности, ряд критиков панамериканскойнаправленности, а также теоретиков «пограничья», рассматривающих словесность двух Америк как условное единство.
Следует отметить, что сама идея литературного канона сравнительно нова для США, поэтому и мультикультуралисты и монокультуралисты не правы, когда рассуждают о гомогенности и незыблемости национальных вариантов каноничности, активно отвергаемых противниками канона сегодня. Об этом говорят даже такие безусловные приверженцы идеи «великой западной традиции», как Гарольд Блум, который в заключении известной книги «Западный канон» (1994) задает себе риторический вопрос о том, существовала ли когда-либо так называемая «культурная столица» в США, и отвечает на него отрицательно, утверждая, что американская культура не случайно доминирует в эпоху хаоса, поскольку была изначально хаотичной, и добавляет, что ни «Моби-Дик», ни «Листья травы» не могут претендовать на звание подобной точки отсчета. Вывод Блума поэтому безрадостен для него самого: «Никогда не существовало официального американского канона и никогда не могло существовать, поскольку эстетическое в Америке имело место лишь в форме одинокой и отъединенной идиосинкразии», — пишет он5.
Правда, справедливости ради отметим, что Блум все же несколько сгущает краски. Ведь практически с 1776 года (т.е. времени «официального» возникновения Америки) американские журналисты, критики, художники, писатели все время выступали за необходимость создания уникальной и своей, кардинально отличной от европейской, «американской» культуры и прежде всего, словесности, пытаясь сформулировать ее основные принципы. И хотя эти зачастую нативистские, предельно идеологизированные призывы влияли на формирование национальной литературы, в реальности она, естественно, развивалась не совсем и не во всем в унисон с подобным пафосом, становясь все более многоголосой, полиязыковой,разнонаправленной и не укладывающейся в «канон», чьи онтологические и эстетические принципы заимствовались из европейской традиции, а на американской почве дополнялись еще и своими «ограничениями» — от пуританизма и «благопристойности» до более поздних цензурно-идеологических мотивов, в том числе и набравшего сегодня новую силу «поствьетнамского синдрома». Тот вариант канона, с которым борются антиканонисты, в том числе и мультикультуралисты, был окончательно сформирован по существу лишь к середине XX века, в дальнейшем лишь подвергаясь некоторым корректировкам.
Сегодня нередко канон воспринимается в сугубо прикладном смысле — пересмотра устаревшей программы хотя это лишь один, и не самый важный, хотя и наиболее очевидный аспект его функционирования. Столь же неоднозначны и взаимоотношения популярности (читабельности) и каноничности, причем зазор между ними особенно характерен для американской литературы. Если ограничиться пониманием канона, лишь как рекомендуемого «списка литературы», выяснится, что сам предмет «американская литература» возник в вузовских программах недавно. В первые четыре десятилетия XX века интерес к американской (национальной) литературе был уже достаточно велик, но в университетских программах она была слабо представлена. Так, в 1928 году «скандинавская» литература преподавалась в американских колледжах так же часто как «американская», а «испанская» и «немецкая» даже в три раза чаще, Чосеру и Мильтону было посвящено больше курсов, чем всей американской словесности вместе взятой, даже в период между мировыми войнами лишь около 20 % университетских курсов имели дело с национальной литературой, по-прежнему воспринимавшейся как нечто не слишком серьезное, во всяком случае, не достойное осмысления на теоретическом уровне. Так что рассуждения о разрушении национального канона как векового, незыблемого устоя в США выглядят по меньшей мере странно. Он только успел сформироваться к середине нынешнего века, как сразу же подвергся массированной атаке со стороны всевозможных разрушителей канона — «кэнон-бастеров» (от английского сапоп-Ь^ег, т.е. буквально, разрушитель, ниспровергатель канона), как их окрестило уже нынешнее поколение критиков, знакомых с компьютерными играми, голливудскими поделками в стиле «фэнтези» и интернетовским игровым гипертекстом. Именно «кэнон-бастером» должны были бы мы сегодня назвать Т.С. Элиота, перевернувшего представление о каноне в первые десятилетия XX века. Среди самых известных американских «кэнон-бастеров» сегодня выделяется прежде всего Поль Лаутер, автор уже упоминавшейся книги «Каноны и контексты», в статье «Литературы Америки — компаративистская дисциплина»6 предлагающий отказаться от канонических делений на «большую» и «малую» литературу, «мейнстрим» и «задворки», выделяя наименее оценочный с его точки зрения термин «маргинализированные» (а не маргинальные) литературные традиции. Кроме того, именно Лаутеру принадлежит идея создания «сравнительной американистики», основанной на компаративной модели. Подобная не характерная ранее для «академии» активная роль в культурных войнах настороне открытых и полиморфных моделей, а не догматической каноничности, стремление к смешению канонического и популярного и немыслимые ранее «снижение» или «смена» эстетических стандартов и норм, порой вызывают отторжение более ортодоксально настроенных коллег, продолжающих, в основном, исповедовать слегка подновленные принципы школы Новой Критики.
После второй мировой войны канон был окончательно осмыслен как мощное идеологическое и воспитательное средство поддержки идей «американской исключительности» и глобальной мировой миссии, которая могла теперь зиждиться не только на хрестоматийных текстах Декларации или Конституции, но и на творчестве вновь найденных или понятых и оцененных по прошествии достаточного времени своих, национальных писателей, главным образом, конечно, уже успевшего «сформироваться» и омифологизироваться прошлого — XVII — XIX веков. Списки литературы поэтому основывались на текстах, прославлявших американский национализм и «уникальную миссию великой цивилизации», воспитывая «лояльных граждан» демократической страны и одновременно, по возможности, ассимилируя не-англосаксов -иммигрантов в культуру США.
Важно отметить, что оформление идеи «канона» почти целиком совпало в США с развитием модернистских литературных теорий, и хотя в свое время американские модернисты также ниспровергали предшествующие «каноны», утверждая свои представления об эстетических, философских, иных ценностях, по существу они очень скоро стали ассоциироваться с каноническими, во всяком случае, в академической среде, благополучно просуществовав, с небольшими модификациями, вплоть до самого недавнего времени. Таким образом, примерно с 40-х годов XX века неоформленное понятие канона и отсутствие общепринятого, единого представления о нем сменяются на довольно четкое деление — на «канон», как выражение национальных ценностей, идеологии и доктрины (наиболее доступный массовой аудитории и замешанный на идеях американского превосходства), и канон антипопулистский, элитарный, чаще всего также достаточно консервативный и охранительный, хотя и в несколько ином смысле, созданный как реакция отторжения «башни слоновой кости» на идеологизированнуюдействительность и диктат ее канона. Эти два основных варианта канона, как и последующие попытки их совмещения, от идеи канона как выражения национальной политики до деклараций «культурной независимости» критического авангарда, от инструментов оттачивания творческогосовершенства до источника энциклопедических, мифических или исторических культурных метаповествований, просуществовали в США на протяжении всего XX века. Задачей же сегодняшних «кэнон-бастеров» стали попытки оценить и совместить различные варианты прежних и нынешних «канонов» в формировании представления об американской культуре как о явлении крайне многообразном и плохо поддающемся дихотомическим классификациям.
Конец XIX — начало XX века — не только время возникновения плавильной метафоры, о чем говорилось выше, но и важный период возникновения и развития параллельно с каноном «академическим» канона «демократического», рассчитанного на запросы среднего американца, что связано не в последнюю очередь с изменением общей обстановки в производстве и потреблении литературной продукции, с развитием массового книжного рынка. В этом контексте нормативное и воспитательное значение канона усиливается. Огромное количество писателей (обычно средней руки) «творит» с возросшим сознанием собственного мессианства, пропагандируя примитивно понятые национальные ценности, создавая видимость интереса к индивидуальным нуждам каждого читателя. Модернисты нещадно иронизировали по поводу «демократического», массового канона рубежа веков, выразившегося прежде всего в огромном количестве издававшихся «списков» важных и полезных книг, прочитав которые человек мог считать себя «культурным» и «образованным», а также сформировать свое самостоятельное эстетическое суждение (вкус), важное для создания «верной» картины мира и адекватной личности. Парадокс в том, что порой защитники и создатели этих списков «желательной», «полезной» литературы для массового читателя оказывались менее догматичными и более открытыми, отличались большей терпимостью к элементам культурного разнообразия, чем такие утонченные, высокие «эстетические» судьи, как Э. Паунд или Т.С. Элиот, чей «антиканонизм» стал расхожим мифом, не всегда выдерживающим критику.
Массовый «канон» беспокоил всех — от писателей до учителей, от журналистов до президентов, от священников до ученых. В этот период удешевления и количественного роста печатной продукции, в США выходит в общей сложности более сотни различных «канонических списков» рекомендованной литературы, написанных с тем, чтобы средний читатель не растерялся и не принялся читать «не те книги». В основе образовательного пафоса этих явлений лежала довольно старая идея о хороших и плохих, иначе говоря, полезных и вредных книгах. В рассуждениях создателей и защитников массового, демократического канона присутствовали некоторые моменты,почти буквально повторяющиеся сегодня «антиканонистами» и прежде всего, мультикультуралистами, нередко преподносящими их как нечто новое, найденное впервые. Так, в 1909 году Арнольд Беннет публикует книгу «Литературный вкус — как его сформировать», в которой пишет, что определять литературу направлениями, правилами, школами, канонами недопустимо. И судить о стиле автора нужно так, словно мы оцениваем живого человека, соотнося литературу с жизненными нормами. Беннет призывал к открытости ума, к ломке границ между людьми и реальной культурой. Назидательные элементы канона несколько теряли в интерпретации Беннета свой авторитарный смысл, оставляя хотя бы видимость возможности игрового переосмысления. Он не призывал вовсе отказаться от классики, но отмечал, что читать классиков нужно не потому, что они входят в канон, а потому что доставляют эстетическое наслаждение и расширяют горизонты мышления7. Многие из этих идей оказались в центре современных дебатов по поводу канона, высокой и низовой культуры, места и роли индивидуального вкуса, традиции и т.д. в формировании эстетического суждения.
Уже в конце XIX века возникают основные типы «демократического» (или массового) канона, которые станут органичной частью современных диспутов по поводу каноничности. Они весьма близки по своему пафосу к сегодняшним попыткам корректировки канона в сторону его расширения, включения в него разнообразных культурных и литературных традиций. Идея отказа от раз и навсегда данного канона, свода истин, «великих» книг, явственно звучавшая в списках полезной литературы Беннета и его последователей оказалась неожиданно актуальной для современных переосмыслений канона. Это касается и канонической модели, предложенной в конце прошлого века Сэром Джоном Лаббоком, автором популярной программы самообразования под названием «Выбор книг» (1886)8. Над этим и подобными ему «списками» основательно поиздевался в 30-е годы в книгах «Как читать» и «Азбука чтения» Эзра Паунд, предложивший поэтический принцип «конденсации», согласно которому из истории литературы выбрасывались целые «блоки» под видом освобождения от канона. Но делалось это в угоду тому новому индивидуальному, высшему канону, который создавал «прозорливый поэт», один способный отделить зерна истинного искусства от плевел повседневной и злободневной пошлости9.
Наиболее важной и влиятельной для культуры США оказалась тенденция в развитии идеи каноничности, связанная с именем Т.С. Элиота.
Элиотовский вариант канона сегодня подвергается особенно яростным нападкам со стороны новых борцов с «великой западной традицией». Они указывают на консерватизм Элиота и его уход в «чистое чтение», прочь от реальной культуры и социального начала. На деле, как отмечалось выше, в начале XX века канон выступал прежде всего инструментом тех самых общественных сил — национализма, конформизма, «законопослушания», от которых радикально настроенные критики открещиваются и сегодня. И именно против такого «канона» общепринятой и псевдопатриотической усредненности и выступал, в сущности, Элиот в своей ранней книге «Священный лес» (1920), ассоциируя канон с внутренней, ритуальной и полуосознанной ортодоксией мысли. Он, например, предостерегал от абсолютизации наследия Аристотеля и ассоциировал каноническое со слепым подчинением авторитету, с недопустимым смешением живой жизни с классическими и, увы, вымершими реликтами прежних канонов. Оригинальность подхода Элиота была в том, что он не выдвигал требования следовать общепринятым эстетическим нормам и правилам, как и не составлял «списков» достойных авторов, чья неортодоксальность могла бы служить своеобразным заменителем канона. Он создавал основы для изучения современной литературы, при этом с уважением относясь к мастерам прошлого, но не канонизируя их. В статье Элиота «Традиция и индивидуальный талант», ставшей сегодня неотъемлемой частью западного канона, присутствует внутренний антиканонический заряд, ведь вслед за известным и часто цитируемым тезисом автора о том, что творчество поэта необходимо мерить нормами прошлого,. следует уточнение — «мерить, но не ограничивать, не оценивать, лучше он или хуже, чем мертвые и уж конечно не оценивать с точки зрения канонов мертвых критиков»10. Это раннее представление о каноне у Элиота является идеей «порядка» (а не хаоса), но порядка, безусловно, иного, нежели упорядоченность «национальных» канонов, романтически-синтетический канон Ван Дорена или строгая правильность христианской ортодоксии, откуда извлечет принципы нового понимания каноничности позднее и сам поэт. Здесь обращает на себя внимание ярко выраженное практически у всех ранних модернистов неприятие самого института каноничности — даже включение имени писателя в канон расценивается ими нередко как оскорбительный знак «компромисса» в пользу социальной значимости и против чистого творческого воображения и высшего эстетического начала.
Следующая веха в развитии американских представлений о национальном каноне связана с именами Ф.О. Маттисена и Л.Триллинга.
Многие современные радикальные «кэнон-бастеры» называют, возможно излишне категорично, середину XX века в американской истории расцветом гомофобии, ксенофобии, антисемитизма, ненависти к инакомыслию и патологической боязни «других», когда многим писателям и критикам11 приходилось прибегать к спасительной мимикрии национализма с тем, чтобы выжить, сойти за норму, выражая свои истинные взгляды на национальную литературу лишь косвенно и аллегорически, часто в результате того, что они пострадали и выучили затем урок «ассимиляции» на зубок.
Известный американский литературовед, весьма популярный и у нас в стране, автор книги «Американский ренессанс» Ф. О. Маттисен еще в 1929 году провозгласил, что пришло время «переписать» историю американской литературы, так, чтобы «новый канон» состоял из авторов, преданных идеям и возможностям «американской демократии»12. Идея демократии, весьма специфически интерпретированная, становилась для него как бы сущностью американской цивилизации13. Маттисен решил, что напишет книгу, которая будет касаться «самой литературы, а не социологии, формы, а не содержания»14. Поэтому он сразу же предлагает список авторов, которые интересны лишь социологу или «историку вкуса», называя среди них Бичер Стоу, Марию Каммингс, Уиттьера, Лонгфелло, и др. и решительно открещиваясь от них. Маттисен по существу пытается сохранить элитарный канон модернистов, но при этом связать его с идеями американской исключительности и особой миссии, придав ему национальный статус и общепризнанность, что оказывается едва ли выполнимой задачей. Отсюда и противоречия в интересной и важной для своего времени книге исследователя. Постоянно апеллируя к демократическому духу У. Уитмена, Маттисен тем не менее закономерно игнорирует его идеи о человеческом братстве, равенстве, как и сознательно суживает реальное многообразие американского опыта, создавая универсалистский, внеисторичный идеал национальной культуры. Рука об руку с подобной политикой изучения «шедевров» шла и пресловутая методика внимательного, скрупулезного чтения («close reading»), царствовавшая на университетских кафедрах и в толстых журналах в течение нескольких десятилетий, уводившая в конечном счете прочь не только от условного понятия «реальной жизни», но и от попыток осмысления культурного контекста в мало-мальски широком смысле, в котором только и может существовать национальная традиция, как бы она ни понималась15.
Характерным примером гибрида между модернистскими эстетическими принципами и национализмом стала концепция американской литературы, предложенная другим известным критиком средины века — Л. Триллингом. Он также достаточно скептически относился к либерализму, постоянно подчеркивая высшую эстетическую ценность произведений Н. Готорна, Г. Джеймса, чья «сложность» и «трагическое видение» обеспечивали им центральное место в национальной культуре, вытесняя оттуда идеологичных и однонаправленных авторов, о которых писали В.Л. Паррингтон и «леворадикальные» критики 30-х. По мнению Триллинга, освобождение от повседневности могло прийти лишь посредством мощи индивидуального таланта, гения, стоящего над обстоятельствами и политикой. Этико-эстетическая проблематика литературных текстов и стала полем интерпретативной деятельности Триллинга, своеобразно преломившего интересовавшее его философское, культурное, интеллектуальное наследие иудаизма с его трагическим видением, антиутопической вселенской иронией, историческим скептицизмом, в попытках «вчитать» его, пусть и в завуалированном виде, в американский культурный контекст. Взгляды Триллинга (были ли они попыткой мимикрии или искренним выражением его точки зрения) оказались очень популярными в академической среде и надолго утвердили в американском литературоведении идею о том, что хорошим тоном является поиск в книгах «трагического мироощущения»16.
Существовал, впрочем, и еще один вариант канона, в определенной мере послуживший связующим звеном между ставшим догматическим модернистским каноном и безудержным антиканонизмом сегодняшних критиков. Речь идет об известных теориях канадца Нортропа Фрая, представителя так называемой «мифологической» критики, автора знаменитой и сегодня уже вошедшей в западный литературно-критический канон книги «Анатомия критики» (1957), попытавшегося предложить альтернативный вариант каноничности, не связанный с определенными устоявшимися именами, не ограниченный строгими рамками, основанный на идее культурной открытости и взаимодействия, формально построенный на системе мифов и архетипов, понимаемых Фраем, впрочем, достаточно вольно и даже эклектично, и определяющих, по его мнению, развитие мировой литературы. В какой-то мере, проект Фрая может быть, вероятно, сопоставлен с «Исторической поэтикой» А. Веселовского, особенно в его культурологической части, хотя мифы и архетипы, к которым они обращались — естественно, совершенно различны, а эволюционистский уклон, характерный дляВеселовского, у Фрая дополняется структуралистскими элементами. Одновременно, альтернативный канон Фрая может быть рассмотрен и в качестве непосредственно предшествующего пересмотру канона Э. Сайда, также предложившего не просто его локальную корректировку и включение нескольких новых имен, но совершенно новое представление о каноне и идее каноничности, спустя всего лишь несколько десятилетий.
Формирование канона «эстетических шедевров» в течение 40—70-х годов XX века привело постепенно к тому, что из вузовских программ, с полок магазинов, из критических дискуссий, антологий и т.д. исчезло огромное количество авторов, фигурировавших там с конца XIX и примерно до 30-х годов XX века. Характерным примером в этом смысле является эволюция Историй литературы США, издававшихся в Америке в последние десятилетия. Приведем в пример лишь две из них. Известный трехтомник Спиллера17, несмотря на избыточное количество персоналий, создававших видимость многообразия, тем не менее был закономерно почти целиком «белым» в расовом смысле, практически не содержал материалов о писателях-женщинах, в нем целая глава была отведена, например, весьма посредственной (с эстетической и любых иных точек зрения) литературе «Старого Юга», но не упоминались вовсе автобиографии беглых рабов, стоявшие у истоков афро-американской традиции. «Колумбийская История американской литературы» под редакцией Эмори Эллиота18 1988 года наглядно демонстрирует, как переосмысление культуры влияет и на прикладное представление о литературном «каноне». Принцип «разнообразия» в этом издании выражается уже более тонко, принимая форму статей об авторах-женщинах19 и некоторых литературных субтрадициях (прежде всего, мексикано-американской и азиатско-американской). Однако в целом сохраняется модель истории литературы, основанной на «шедеврах» и «корифеях», которым посвящены отдельные главы. При подобном наложении новых элементов на старую основу национальная культура все равно оказывается представлена несколькими каноническими фигурами, едва ли не приравниваясь к их творческому и философскому выражению. Сохраняется и миф о ее единстве и в какой-то мере, даже об исключительности американского опыта, хотя и не всегда теперь толкуемый безусловно положительно. Выработка новых подходов, в том числе и структурных, чаще всего сугубо прикладных к изучению национальной словесности в последнее десятилетие в США выдвинулась в число приоритетных проблем. Успехов в этом смысле достаточно много, хотя большинство из них — исследования сознательно ограниченные каким-либоаспектом бытования национальной культуры, чаще всего это аспект ранее выключенный из культуры или маргинальный. Что касается попыток выработки целостного представления об истории американской литературы, они как бы отошли на сегодняшний день на второй план, прежде всего, в силу вышеозначенных причин предельной контекстуализации и антиуниверсализма, как ведущих настроений эпохи. Современные пересмотры канона в большинстве своем повторяют логику сомнений Ван Вик Брукса и Т.С. Элиота, обращаясь то к идее канона, отвечающего внелитературным нормам, то к представлению о каноне, как целиком лишь выражении независимой эстетической позиции, и, в последние годы — к попыткам выработки компромисса. Ученые, занятые пересмотром канона во второй половине XX века — Эдвард Сайд, Джонатан Каллер, Нортроп Фрай, Поль Лаутер и др. соответственно не предлагают отказаться от идеи канона вовсе и стараются избежать нежелательного сведения антиканонического диспута лишь к аспектам идеологии, ведь в реальности различные каноны прошлого даже в одной только Америке в XX веке отличались значительным многообразием20.
В последней трети XX века активные попытки переосмысления и расширения канона, включения в него ранее невидимых и маргинальных традиций и голосов, закономерно смыкаются с повсеместным влиянием таких ключевых концепций, как философские теории Р. Барта, Ж. Дерриды, М. Фуко и других ученых, в результате чего литературная критика, как и другие гуманитарные науки, начинает «ставить себя под сомнение», в том числе и активно разрушая и пересоздавая собственные инструменты и методы формирования эстетических суждений. В последние десятилетия, как известно, усилилось и влияние социологии на литературную критику, что также способствовало начавшейся активной контекстуализации критических суждений и интерпретаций. В результате, метатеоретический, социологический, антропологический аспекты литературной критики, ранее бывшие для нее в целом, маргинальными, в конце XX века незаметно вышли на первый план, в том числе и в связи с дебатами по поводу формирования нового канона.
Все это привело к тому, что многие критики стали выступать за категорическую отмену не только канона, но и самого предмета, дисциплины истории «словесности» на английском языке, предлагая взамен «риторику» с семиотическим оттенком21, «культурный материализм», наконец, «культурную критику», которую точнее было бы называть «культурной политикой» в силу ее значительной политической ангажированности. В определенной мере к нимпримыкает и американский вариант «нового историзма», также отмеченного стремлением к отказу от существующих канонов, и «реалистический подход» к анализу культуры, основанный на философском течении «реализма»22. Практически все эти антиканонические движения, отказываясь от общепринятых представлений об истории национальной литературы, культуры, на деле создают новый канон, своего рода, догму, своих культурных героев и кумиров, свои тексты-памятники, и «выводя на чистую воду» инструменты культурного диктата прошлых десятилетий, нередко оставляют собственные принципы интерпретации скрытыми, неразъясненными, тем самым не отвечая невыполнимой до конца установке на критическую саморефлексию. В результате, нередко новые «радикальные» каноны, занятые проблемами пересмотра авторитетов, власти, культурной гегемонии, на деле оказываются не менее ограничивающими, чем те, что основывались лишь на «шедеврах».
Наиболее привлекательными поэтому являются те канонические модели, в которых сохраняется не только политическое или утилитарное значение канона, но и восприятие его как высокой планки для писателей, создающих настоящие «произведения искусства», как старой модернистской идеи «эстетического порядка», не мешающей при этом и постоянным попыткам проникнуть в закономерности мира «иного». Именно это счастливое сочетание и имеет место в случае с «открытым каноном» Эдварда Сайда. В основе на первый взгляд абсолютного антиканонизма Сайда лежит его противоречивое отношение к культурному колониализму и империализму. В ряде известных работ, посвященных этой проблеме23, он связывает понятие «западного ориентализма» с соответствующим ему каноном, согласно которому и происходит восприятие западной культурой всего, что считается ее полярной противоположностью. Сайд создает и наиболее привлекательный, хотя возможно и утопический, поликультурный идеал, как ни странно, точнее всего описывающий тот образ культуры, как целостности, к которому объективно стремится большинство американских мультикультуралистов.
Вторя М. Фуко, Сайд утверждает, что дискурс является всегда стратегией власти и подчинения, включения и исключения из культурной видимости, обладания голосом или немоты. Исследователь закономерно критикует «идеологию гуманизма» канонов, основанных целиком лишь на «идее порядка» (так Сайд называет раннемодернистский канон), а также отмечает опасности, связанные с по-прежнему популярным демонстративно аполитичным каноном, подавляющим, вольно или невольно, культурысубъекты24. Предостережения Сайда против скрытой догматичности и инерции существующих канонических парадигм, более не удовлетворяющих реальности постколониального, постсовременного мира, где вновь возникающие секторы, сегменты, группы борются за свое определение и репрезентацию, не так уж новы и оригинальны. Интересно другое: для Сайда главная проблема состоит не в том, чтобы сменить одних авторов в каноне на других или просто добавить к нему новые фигуры. Проблема — в каноническом складе ума, в привычке мыслить канонически, соответствовать неким нормам, правилам, отказаться от которой труднее, чем создать очередной вариант канона. Принесшая Сайду заслуженную известность метафора «Ориента» — Востока, как маргинального общества и маргинального коллективного сознания, является термином-зонтиком, придуманным Западом, чтобы отгородиться от «иной» культуры. Знание же иных культур и, в частности, литературных традиций, согласно Сайду, должно менять и наше восприятие западного канона.
Сам он легко и свободно движется в своих исследованиях между различными дисциплинами, временами, мыслительными модусами, уровнями культуры, так что М. Фуко соседствует у него с «Тысячей и одной ночью», Дж. Свифт с Дильтеем, Блейк с Гадамером. Освобождая тексты от канонической «упаковки», Сайд не случайно, предпочитает и представлять их в свободной наименее канонической по его мысли, форме эссе, фрагмента, яркого эпизода культурного бытования, стремясь создать не противостоящий существующему канону неповоротливый «монумент», не проложить магистраль, но скорее лишь пройти тонкой, едва заметной, исчезающей тропкой, легкими штрихами обозначить иронический контраст, сопоставить несопоставимое, почти никогда и ничего не отрицая и не утверждая абсолютно25. Участвуя в канонических дебатах в целом на стороне антиканонистов, Сайд понимает вместе с тем, что их слабой стороной является часто неспособность предложить альтернативный набор текстов освобождающего, анти-канонического значения, а также каноничность, как по-прежнему сохраняющаяся модель мышления. Он показывает, что современные каноны представляют собой стремление критиков сохранить по-прежнему «священные» для них принципы интерпретации, пропагандистскую активность злободневного культурного национализма, и ностальгию по особой эстетической сфере, которая была бы ограждена от современных катаклизмов.
В этом смысле он довольно близок таким современным теоретикам культуры, как Цветан Тодоров, который довольно справедливо обвиняетмультикультуралистов-экстремистов в стремлении к отказу от литературно-критического канонического аппарата и призывах каждой культурной группе замкнуться в своей субтрадиции. Не имея ничего против самой ревизии аппарата терминов и понятий, Тодоров, а в определенной мере, как ни странно, и Сайд показывают, что слишком часто «новые» принципы и системы оценки, предлагаемые наиболее активными кэнон-бастерами, оказываются столь же претендующими на каноничность, как и то, что они отвергали ранее. Рассуждая о возможных принципах нового понятия «неканонической каноничности», Сайд останавливается на неразрешимой проблеме культурной репрезентации, как бы стараясь заглянуть по ту сторону китайской стены Западной традиции и рассмотреть культуру, которая была (и осталась) всегда в этом западном понимании, иррациональной, алогичной, ненаучной и лишенной здравого смысла, в ее собственных категориях. Аутсайдерская позиция самого Сайда, как и его все больший отход от литературоведения как такового в область культурологии, одновременно делают его уязвимым для критики узких гуманитарных специалистов, и заявляют о новом, гибридном идеале гуманитарного знания и исследований, которые Сайд подразумевает, как основные в будущем.
Важным представляется введенное Саидом понятие западного канона отрицания, основанного на поддерживаемой по-прежнему «идеологии различий», предлагающей свод правил для насаждения национального (расового, этнического) превосходства посредством стратегических культурных лакун, исключений, стереотипизации «иных», «менее совершенных» культур, когда ирония, фантазия, сатира заменяют героический эпос, как основной троп. Вместе с «оценочным» каноном, основанным на «идеологии гуманизма, и занятым в основном сохранением национальных памятников, представляя их в квази-эпическом свете, канон отрицания зиждется на защите образа западной авторитарности и абсолютной правомерности западных ценностей и точек отсчета»26.
Новый, подвижный, способный к изменениям, «открытый» канон Сайда должен сформироваться не в аудитории, и возможно, вне непосредственного поля деятельности существующих культурных и политических систем, но скорее всего на стыке различных культур и областей знания. Он выступает не за полное растворение канона, но за его «переразмещение», за текучий канон переходности, подвижное поле «культурно ценностных» текстов, которое будет менять форму согласно меняющимся контурам более широкой и глобальной культурной арены. Отсюда логически и вытекает очерченный выше идеал«всемирное™», который развивает в работах последних лет Сайд. «Всемирность» как принцип культурной репрезентации противостоит культурному сепаратизму, хотя и настаивает на важности внимания к умолкнувшим или подавленным культурным голосам, как необходимому условию космополитизма, при котором ранее пограничные явления могут получить возможность самовыражения в собственных терминах и на своих языках.
Создание поликультурной модели Америки, к которому стремятся многие из перечисленных выше исследователей, является насущной необходимостью зашедшего в тупик национального сознания. Но мультикультурный проект выходит, в конечном счете, далеко за рамки одной дисциплины, одной национальной культуры, одной миромодели. В наиболее диалогическом, многополюсном, децентрированном своем варианте, тесно связанном с постмодерным переосмыслением мира, и однако, не отрицающем ни понятия национальной традиции, ни наследия Просвещения, ни идеи культурного канона, мультикультурализм, вероятно, способен заметно повлиять на формирование культуры США в XXI столетии.
Литература «пограничья» — художественные модели поликультурной реальности в литературе США конца XX века.«Мы живем во времени и пространстве, где границы, как в буквальном, так и в переносном смысле, существуют повсюду.Граница отмечает собой некий предел; она впускает и выпускает людей из определенного пространства; она разделяет безопасные и опасные зоны. Столкновение с границей и тем более пересечение ее связаны с огромным риском. Обычно люди боятся трансгрессии. Они хватаются за мечту об утопии, не замечая, что существуют и творят в мире гетеротопии».
Алехандро Моралес «Подвижные идентичности гетеротопии»Плюралистичные модели американской культуры, связанные с существенными изменениями в осмыслении реальности, истории, национальной традиции, создаваемые в русле новой мифологемы «разнообразия и различий», предлагают достаточно широкий спектр возможных альтернатив монокультурному обществу и сознанию. Большинство из них касаются попыток создания утопий и «гетеротопий» культуры будущего, будучи основаны на довольно предсказуемом наборе расхожих принципов, от справедливой и равной культурной репрезентации до расплывчатого «разнообразия» и «терпимости». В по необходимости беглом обзоре этих поликультурных теорий мне пришлось хотя бы схематично соотнести их с различными вариантами художественного претворения, которые в значительной мере корректируют и переосмысляют эти идеалы. Особенно это касается литературы, а также изобразительного искусства, кино, театра, массовой художественной продукции, где все большее число авторов занято осмыслением проблемы определения национальной культуры и взаимоотношений общего и частного, центра и границ внутри нее.
Переходя к попытке осмысления собственно художественных моделей мультикультуры, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что акцент на ранее не включавшихся в поле американской культуры «пограничных» явлениях, занимающих нередко центральное место в большинстве современных интерпретаций, ни в коей мере не связан с полным отказом от понятия национальной традиции и, пусть весьма условной, культурной целостности. Задачей наиболее привлекательных, с моей точки зрения, теорий как раз и является попытка включить (а не исключить) в сферу своих интересов как можно более широкий спектр культурных и художественных феноменов. Приэтом размываемые понятия «центра» и «периферии» в культуре, как, скажем, и профанного и элитарного, не означают отрицания тех ее элементов, которые считались (или стали) само собой разумеющимися, вошли в национальную культуру, составив ее неотъемлемую часть.
От региональности к культурной многосоставности.
Этот раздел является по существу переходным, связующим некоторые культурные модели и теории, обусловленные феноменом «разнообразия», о которых шла речь выше, с собственно литературными (суб)традициями, разными по времени возникновения и бытования, составляющими мозаичный культурный контекст США сегодня. Исследование ни в коей мере не претендует на воссоздание полной картины американской словесности конца XX века. Более того, даже просто перечислить все составляющие ее элементы в пределах одной работы вряд ли окажется возможным. Моей задачей является скорее показать, как в нескольких совершенно различных по типу субтрадициях происходит осмысление основных категорий и элементов мультикультурного дискурса, каковы возможные точки соприкосновения и пересечения основных онтологических, в некоторых случаях — эстетических моделей, определяющих специфику той или иной субтрадиции.
Региональность в американской культуре представляет собой феномен внутренне весьма родственный мультикультурному дискурсу и однако, «неочевидный» и неактуальный в качестве объекта анализа для большинства американских исследователей, интересующихся проблемами культурного разнообразия. Воспринятая в одном ряду с такими явлениями, как этно-расовая «инаковость», шире — «пограничье», она способна послужить примером культурной пластичности и адаптивных свойств определенной субтрадиции внутри внешне единой культуры. Уже с 30-х годов XIX века, то есть с того времени, когда Америка начала себя осознавать как единую культуру, зазвучали рассуждения о том, что стирание различий между регионами и внутри них очень скоро приведет, если уже не привело к полной унификации. Таким образом, «смерть» региональности предрекалась очень давно и ее конец ассоциировался с образованием единой национальной традиции, что воспринималось цивилизацией, по-прежнему лишь стремившейся к своему созданию, как положительный момент. Конец же всякой региональной традиции связывался с ее вкладом в общенациональную культуру по принципу: «локальное стало универсальным». Под эту нехитруюсхему затем подгонялось творчество разнообразных писателей, художников, многие из которых и не помышляли о преодолении региональности. Сегодня это клише значительно корректируется, хотя тоже не без эксцессов, поскольку теперь «универсальность» любого рода воспринимается чуть ли не как бранное слово, от старой формулы пришлось отказаться и внимание исследователей закономерно переключилось на локальное, частное, причем, иногда в неожиданных сочетаниях и в тех областях и на границах региональности, которые ранее оставались «невидимыми».
Региональность ассоциировалась с культурой, с частным, индивидуальным развитием, а цивилизация, напротив, должна была стремиться к общей идеологической основе, стиравшей те культурные аспекты, которые мешали ее центростремительному развитию. Соревнование между культурой и цивилизацией, о котором писали многие мыслители рубежа XIX и XX веков, в США выражалось, в частности, и путем подавления культурных различий, прежде всего, региональных.
Если раньше в рассуждениях о литературной региональности противопоставление шло по линии местный колорит/регионализм, потенциально преодолевающий собственную ограниченность, то теперь, когда многие элементы обеих частей этой дихотомии формализовались, потеряли свою абсолютность и превратились в клише и «трюизмы», по определению исследователя южной культуры Фреда Хобсона, возврат к частному идет на совершенно иной основе, имеющей общепостмодернистский характер, связанный с расширением канона, мультиперспекгивизмом, анализом, принципиально противопоставленным синтезу, попытками собрать непосредственный «живой» материал и воссоздать сиюминутный и, в этом своем качестве, наиболее верный облик субкультуры с принципиально иных, ранее неизвестных точек зрения. Эта модель, характерная для многих проявлений американской культуры, на Юге имеет свои особенности.
В южном этосе, как известно, добрая половина ценностей противоречила «общеамериканским», прежде всего, речь идет о семье и прошлом, о циклической модели времени и абсолютизации топоса. Среди мало известных, в определенной мере экзотических и созвучных современному дискурсу «разнообразия» южных примеров можно отметить своеобразный культурный анклав внутри Юга, обладавший определенными уникальными особенностями, сочетавшими в себе аспекты многих других пограничных явлений. Имеется в виду причудливая культура Луизианы, постоянно переходившей от одного государства к другому, и оказавшейся в результатенемыслимой и взрывчатой смесью совершено различных культурных напластований, где возникло абсолютно специфически толкуемое понятие «креола»1.
В культуре Луизианы смешались основная креольская струя — наследие потомков французских и в меньшей мере испанских переселенцев, обогащенное за много лет сосуществования и активного взаимодействия с индейскими и негритянскими влияниями, довольно легко ассимилировавшиеся «кейджуны», немецкие, ирландские, итальянские элементы, наконец, культурные вкрапления многочисленных беженцев с Кубы, Барбадоса, Мартиники, островов Карибского моря и Индийского Океана. С этим великолепием и пришлось столкнуться англо-саксонской в основе культуре молодого американского государства в начале XIX века, когда Луизиана была продана Наполеоном американскому правительству. Креольская доминанта и франкоязычная культура продолжали главенствовать еще долгое время, так что искавшим в Луизиане легкой наживы американцам приходилось чувствовать себя аутсайдерами, хотя всего через несколько десятилетий им уже удалось довольно успешно навязать в Луизиане свой образ жизни, идеи, взгляды, что привело уже ко второй половине XIX века к значительному сокращению влияния креольской культуры, на глазах формализовывавшейся, находя выражение все чаще лишь в различных бытовых и материальных проявлениях. Впрочем, этот процесс не завершен и по сей день — ведь и сегодня Старый Квартал, креольская музыка, знаменитая кухня, в определенном смысле, французский язык, остаются осязаемыми знаками присутствия креольской струи в культуре Луизианы. Условность и мифологичность креольского мира и представлений о собственной истории и групповой идентичности усложняли и без того трудную задачу их сосуществования и приспособления к американскому владычеству. К примеру, вопрос о цветной крови, центральный для всей креольской культуры, так и не был удовлетворительно решен ни тогда, ни теперь. В прошлом веке креолы-аристократы безоговорочно лишали своих цветных соотечественников (не только мулатов, но и квартеронов, октаронов и т.д. — по степени уменьшения наличия цветной примеси) права именоваться креолами, несмотря на то, что в Луизиане было невиданно большое для Америки количество свободных цветных, имевших даже специальное название2 и особый юридический статус — не раба, но все же и не полноправного члена общества, своей медиативностью и неразрешенной дуальностью напоминающийпроблематику многих мультикультурных диспутов нынешнего времени,связанных с понятием этно-расового «притворства» (желания сойти за белого) и идентичностью «полукровки»-аутсайдера. Обычно игнорировался тот факт, что большинство этих «цветных» креолов были людьми, воспитанными на «высокой» французской культуре и языке, прочно связанными с французским культурным наследием (в частности, креольские писатели продолжали творить по-французски, нередко на многочисленных креольских диалектах, ориентируясь на европейскую традицию натурализма, символизма, а не на американскую «благопристойную» традицию).
Чужеродность креолов проявлялась на многих уровнях — они были «инаковы» и по отношению к Америке, и по отношению к остальному Югу, также весьма неоднородному в культурном смысле. С приходом американского владычества на первый план вышла естественно проблема языка, причем первое время английский воспринимался креолами как «жаргон», приравненный к индейским бесписьменным наречиям. Интересно однако, что в целом, проблема билингвизма, столь болезненная для культуры США 90-х годов XX века, решалась в Луизиане начала XIX довольно успешно — в школах где обучение ранее велось по-французски, ввели обязательное изучение как минимум двух языков — английского и французского, постепенно начали выходить газеты на английском языке, наконец, уже после Гражданской войны, поставившей Луизиану практически на грань вымирания, начала создаваться литература о креолах и о Луизиане на английском языке, которая также не вполне соответствовала типично южной специфике. Так, писатель Дж. В. Кейбл в историческом романе «Грандиссимы» поднимает тему «обратной» ассимиляции, поскольку чужаком, аутсайдером является там не реликтовый креол или полукровка с каплей цветной крови, но чистокровный американец-пуританин Фраунфилд, которому, по мысли креольских героев романа, и предстоит ассимилироваться в луизианскую культуру. Роман Кейбла пронизывает верно схваченное им ощущение относительности и зыбкости культурных норм и точек отсчета, при котором ни позиция креолов, ни перспектива американца не предстают как нормативные и окончательные. Это ощущение, как и некий почти неосязаемый остаток креольского присутствия (прежде всего, в лингвистическом, стилевом смысле) сохранятся в культуре Луизианы и по сей день, свидетельством чему могут послужить произведения нескольких талантливых луизианских авторов последних лет, например, романы покойного Уокера Перси.
Луизиана была лишь одним, может быть, наиболее ярким примером причудливого поликультурного и мультиязыкового модуса существованиявнутри американской культуры, причем достаточно рано сформировавшимся и сохранившимся на протяжении довольно длительного времени. Другими общеизвестными примерами были, конечно, штаты Среднего, а затем и Дальнего Запада (по мере того, как фронтир продвигался все дальше к Тихому океану и все южнее, к будущей границе с Мексикой), чьи субтрадиции во многом формировались под воздействием различных культур Латинской Америки, а также неожиданные, на первый взгляд традиции, как, скажем, китайская и японская, не только сохранившие свое воздействие, но значительно активизировавшиеся сегодня.
Проблема региональной составляющей культуры США достаточно разработана и в американской, и в отечественной традиции в историко-филологических исследованиях3. Характерной чертой большинства из них, однако, является естественное желание охватить как можно более полно все элементы многообразной культуры США, приходящее в столкновение с концепцией региональности, не всегда способной, особенно в XX веке, вместить в себя многие реалии, находящиеся вне или на стыке региональной парадигмы и других аспектов бытования культуры. Отсюда и не всегда понятные попытки «добавить» к региональности такие не вполне вписывающиеся в нее элементы, как, скажем, культура афро-американцев, индейская культура, другие «этнические» культуры. Этот момент легко объясним, если учесть, что за большинством региональных концепций, как американских, так и отечественных, стояла идея культурного прогресса и эволюции, согласно которой из отдельных, в данном случае, региональных элементов, выкристаллизовалась в конце концов единая национальная традиция. Сегодняшний постлиотаровский повсеместный отказ от метаповествований привел и к скепсису по отношению к идее культурной эволюции и единой общенациональной традиции. В США второй половины и особенно конца XX века это заставляет исследователей заметно скорректировать концепцию региональности, не в смысле отказа от нее — это было бы неверно, но в смысле отказа от ее абсолютизации, а также попыток надстроить над ней иную модель развития национальной культуры, где региональность займет одно из важных, но не единственное место, а также окажется поставлена в контекст более сложного внутри и межкультурного взаимодействия. Подобным пафосом проникнуты многие исследования, посвященные анализу понятия мультикультуры и выработке мультикультурного дискурса в последнее десятилетие. Назовем лишь работы Л. Каплана, Д. Джонсона, Р. Кастраново, Р. Канинхема, рассматривающих региональныепроблемы в контексте культурного пограничья и маргинальное™, Роберта Пэка и Дж. Парини, в предисловии к антологии «Современные мультикультурные голоса» справедливо предлагающих рассматривать региональность как самый ранний и уже вполне освоенный американской культурой вариант принципиально неразрешимой многосоставности4.
В этих исследованиях осуществляется попытка совместить ранее существовавшие концепции американской культуры, прежде всего, региональную, с новыми элементами, которые надстраиваются поверх устоявшейся модели. Примером последнего является, в частности, введение к 1-му тому «Истории литературы США», выражающее, в определенной мере, методологически переходный момент, возникший в связи со сменой гомогенной модели осмысления культуры США на плюралистичную, что не могло не затронуть и отечественных специалистов. Во введении указывается на «многослойность современной американской литературы, связанной с исходным регионализмом и значительной децентрализацией американского общества.» и далее, помимо уже привычных афро-американской и индейской литератур, среди этнических традиций выделяются «американо-китайская, американо-японская, не говоря уже о мощной испаноязычной струе.», так что традиционный «евроцентризм» дополняется «движением во второй половине XX столетия в сторону Азиатско-тихоокеанского региона»5. Далее справедливо говорится об «истории литератур США, окончательной интеграции которых не происходит, о плюрализме взаимовлиянии но не слиянии» (5; стр. 35), но. не происходит в определенной мере и интеграции старой модели литературного развития и новых элементов, которые оказываются еще как бы не переваренными, не находят себе места в этой модели. Поэтому согласно привычным классификациям «реалистическая литература», выделяемая авторами как основная, соседствует с беглым перечислением нескольких этнических традиций, тендерной спецификой и т.д. Не вполне понятной остается и природа подобного противо/сопоставления. Проблема здесь, наверное, в некоторой методологической путанице, ведущей к ненужной мозаизации, основанной на проблематичном признании фиксированности тех или иных «традиций», их данности раз и навсегда, в результате чего под одной рубрикой рассматриваются часто авторы, которых не связывает ничего, кроме цвета кожи, происхождения, пола, сексуальной ориентации. Так называемые этнические литературы, как и, скажем, феминистическая традиция, выступают как отдельные культурные ячейки, стоят особняком, наряду с модернизмом или реализмом, так словно им нет туда дороги в силу какой-то особойпримитивности, будто они только тем и определяются, что полом или цветом кожи. Гибридные, пограничные формы, которые всегда наиболее интересны и плодотворны для культуры и литературы, таким образом, снова остаются за бортом, просачиваются сквозь чересчур редкое сито литературного анализа.
Концепция региональности, представленная в трудах наших ученых, способна послужить толчком и отправным пунктом на пути новых исследований Америки, как поликультурной реальности. Дополнить их могли бы не только в большинстве своем прикладные изыскания американских коллег, но и более общие исследования закономерностей культурного развития, выполненные нашими учеными — в частности, речь идет об идеях М.М. Бахтина о монологическом и полифоническом в культуре, «диалоге культур», работах Ю.М. Лотмана, Г. Гачева, Г. Померанца, в частности, предложившего актуальный сегодня, хотя и несколько утопический идеал концерта (диалога) культурных миров6.
Южная региональная Региональность сегодня нередко осмысляетсятрадиция — конецили как один из специфических вариантов субкультуры, вотрансформация ? многом, хотя и не во всем отвечающий саидовскойсхеме культурного империализма. Юг в этом смысле является едва ли несамым удачным примером — это «долгоиграющий» регион, небольшаямодель поликультурного сообщества, причем с довольно солидным, поамериканским масштабам, опытом, в течение многих десятилетийпретворявшего в реальности (повседневной и художественной) тумногосоставность, о возможности существования которой спорят теперьприверженцы моно и мультикультурализма.
Американский исследователь Дж. Хамфриз верно отмечает южное стремление к рассказыванию историй, к мифологизированию собственного существования, как ключ к пониманию устойчивости южной традиции: «Ничто не является более бессмысленным чем полное поражение и потеря идентичности — в культуре, в личной судьбе — и ничто не вызывает поэтому более сильного желания рассказывать и мифологизировать, придавая смысл отрывочным, хаотичным осколками потерянных идентичностей»7. Этот момент — ключевой для Юга практически со времени осознания им себя как отдельной культуры, роднит и художественные искания южан с литературой «пограничья», не обязательно регионально отмеченной. Амбивалентный миф поражения с его внутренним трагическим зарядом уникален для Юга и остается залогом жизнеспособной литературной традиции и сегодня. Трагическое жеощущение потери, столь часто приписываемое южному сознанию, в последние годы получило неожиданный резонанс в других «культурах пограничья», став своего рода одним из конституирующих факторов пограничного сознания и чувствительности.
Хамфриз, хотя и предлагает несколько примитивную типологию южных мифов и героев, на мой взгляд, все же верно указывает на пограничность и неустойчивость южного мифа и соответственно, трудноопределимость и хрупкость южной идентичности. Словесная форма мифа — южное «рассказывание» — создается для того, чтобы придать смысл бессмысленной реальности, обманчиво напоминая ее и, парадоксально, отчасти замещая реальность, поскольку, придумав его, южане начинают немедленно воплощать и имитировать этот миф. Этот тезис Хамфриза подтверждается многими произведениями южан последних десятилетий, среди которых можно назвать книги К. Эджертона и Р. Прайса, Дж. Уилкокса и Р. Уэллс. Поэтому исследователь прав, когда пишет о том, что «южность», как художественная категория, родилась не из желания описать реальность, но как отчаянный ответ на отсутствие в ней смысла, как попытка подавить и скрыть это отсутствие (7; р.124).
Сегодня происходит расширение «южного канона» по всем направлениям, причем обращает на себя внимание прежде всего увеличившаяся открытость, полифония и устойчивое воспроизводство южной культуры и литературной традиции, их способность вместить в себя весьма разнообразные и даже противоположные элементы, при этом не растворившись до конца, не потеряв узнаваемо южное. Объективные многосоставность, полиэтничность, культурное многоголосье Юга8 в последние годы заметно усилились, также повлияв на изменение южных представлений о каноничности собственной культуры. «Неродная» для Юга этничность прорывается, порой, в типично южных по месту, атмосфере, колориту произведениях — например, в завоевавшем Пулицеровскую премию сборнике рассказов Роберта Оулена Батлера «Аромат со Странной Горы», повествующем о культурном опыте выходцев из Вьетнама на Атлантическом побережье Луизианы. Куба, Вьетнам, Гаити, Китай и даже Индия, вкупе с «пересаженными» янки — «новыми» южанами все больше расширяют и размывают границы южной культуры. Юг как бы становится весь одним проницаемым «пограничным полем», где можно встретить совершенно различные фигуры, тем не менее имеющие не только «географическое» отношение к родному региону. Здесь Ричард Форд, для которого «место —там, где писателю лучше пишется» будет соседствовать с Элис Уокер, Эрнестом Гейнсом, Рейнольдсом Прайсом — афро-американскими авторами, воспринимающими южную проблематику лишь как часть более общих и важных для них дилемм американской культуры, связанных с этно-расовым определением. Популярный писатель Кормак Маккарти, местом действия большей части книг которого и вовсе является Мексика, окажется рядом с упоминавшимся уже Батлером, чей топос смещается от произведения к произведению с Аляски в пустыню Алямагордо, из Сайгона во вьетнамские поселения Луизианы, где местная культура (вудуизм, креольская традиция) смешивается с «чужой», вьетнамской. Одна из самых традиционно южных писательниц Ю. Уэлти окажется рядом с современным последователем У. Фолкнера, абсурдистом Барри Ханной, написавшим недавно автобиографию «Бумеранг», сочетающую пародийные элементы мемуарного повествования и исповеди «маргинала», не столько в традиционном смысле «южанина», противопоставленного остальной Америке, сколько «чужака» внутри собственной региональной культуры.
Пример Б. Ханны особенно типичен для современного состояния гораздо менее каноничной южной постфолкнеровской традиции: сказ, основные «координаты» южного повествования — «топос», поглощающий «время», и соответственно груз «прошлого» и «памяти» и особенно, «жестокость» и «мрачная готика» для него не менее важны, чем для Ю. Уэлти или У. Перси. Но решение этих проблем — совершенно особое и не характерно южное. Монтажная композиция, коллаж из разноплановых впечатлений и повествовательных моделей, нанизанные одно на другое посредством свободной ассоциации воспоминания, сшитые на живую нитку лишь весьма условным, хотя, надо признать, достаточно впечатляющим опять-таки своим жестоким, разрушительным началом, образом бумеранга — памяти, ударяющей воспоминаниями в сознание пустившего его человека, также не говорят в пользу того, чтобы безоговорочно отнести Ханну к южанам.
Однако не все так просто — как же тогда объяснить внутреннюю эволюцию в творчестве писателя, заставившую его уйти от разорванных, абсурдистских рассказов, перенасыщенных «черным юмором» и построенных прежде всего на жестокости, развиваемой на всех уровнях — от содержательного до «насилия» над языком — в последние годы ко все более явному возвращению к Югу и южной общине (т.е. групповому сознанию), как возможному выходу из кризиса одинокого, неприкаянного и «заряженного яростью» героя — alter ego автора.
С годами в творчестве Ханны нигилистическая бравада и абсурдизм, как и чистая игра сменяются, на подобие интроспекции, на некое более осторожное, противоречивое, не разрешимое до конца суждение, в котором робко брезжит возможность позитивного начала, сразу же по привычке отметаемого автором, но все же заявленного хотя бы как возможность актуализации. Уже в 1987 году, в романе «Привет, Джек» Ханна не случайно затрагивает тему двойственности групповой и личностной идентичности — это история, рассказанная «корейцем по имени Гомер» о странных жителях маленькой общины в Миссисипи, обладающей лишь коллективной культурной идентичностью. Метафора очищающего насилия, центральная для Ханны, в автобиографическом «Бумеранге», повествователя которого зовут так же как автора, обретает овеществленные очертания. Символ бумеранга связывает воедино яркие, резкие, представленные крупным планом образы, создавая почти кинематографическое качество в этой своеобразной панораме жизни на Юге за последние 50 лет. Книга пронизана метафорами безумия и безверия, как это нередко бывает у Ханны. Относительное единство разорванного, фрагментарного повествования достигается, как обычно, лишь музыкальной метафорой (повествование уподобляется то джазовой импровизации, то рок-концерту). Читатель, знакомый с художественным миром этого автора, может быть и догадается поставить под сомнение даже этого, казалось бы такого «реального» Ханну «Бумеранга» и те события, что с ним «происходят», но грань между литературной персоной и самим Ханной проведена нечетко, как бы не до конца осознанна автором, напоминая о поэтике сна или кошмара. Такими же вымышленными, нередко рожденными из клише и стереотипов постсовременной массовой культуры, персонажами являются и практически все герои «Бумеранга».«Бумеранг» — гибридное повествование, он принадлежит Югу в той же мере, что и унифицированному попкультурному пространству США. Автор избегает традиционной южной интроспекции, повышенного внимания к собственным «я» к тому, как и каким он предстает миру, вместо этого регистрируя в гротескном, предельно очужденном виде то, что его окружает в Оксфорде, Миссисипи. В пределы этого всеочуждения и всеосмеяния попадает и он сам, воспринятый как бы со стороны, нередко в третьем лице. С другой стороны, в «Бумеранге» становится особенно отчетливо видно, что южная, культурная (групповая) идентичность в итоге оказывается для Барри Ханны важнее личностного самовыражения. Поэтому он заканчивает «автобиографию» словами: «Мы живем в Оксфорде, Миссисипи и охраняем его от«саквояжников», — так иронически суммируя свою «жизненную цель» на ближайшие десятилетия.
Таким образом, можно сказать, что в последнее время в силу вступают «негеографические» и необластнические атрибуты южности, следы которых можно найти даже у авторов, казалось бы, совершенно ушедших от южной проблематики. Происходит определенная формализация региональное™, само это понятие размывается и в значительной степени расширяется. К примеру, в контексте южной региональное™ ранее не рассматривались писатели-афроамериканцы, выходцы с Юга. Причиной тому была не только культурная дискриминация и отношение к ним, как к вторичным, изначально выключенным из национальной или региональной традиции, но и общепринятая жесткая структура деления литературных субтрадиций внутри американской культуры. Теперь творчество Р. Прайса, Э. Гейнса, Э. Уокер, И. Рида и др. все чаще входит в южный канон, порой корректируя стандартный набор тем, художественных элементов, предлагая новый ракурс восприятия, не перестающий при этом быть южным.
В связи с этим все чаще можно услышать термин «негеографический» регионализм, звучащий достаточно парадоксально (ведь регионализм предполагает прежде всего как раз географически реальное место, с особым региональным сознанием и способом осмысления реальности), как бы сам себя разрушающий, одновременно сигнализируя об упрямом нежелании отказаться от самого регионального мироосмысления. Многие элементы южной традиции, с которыми продолжают иметь дело авторы-южане, давно не имеют реальной опоры в жизни Юга. Но сам миф и связанная с ним традиция сохраняются, хотя отношение к ним у многих авторов и неоднозначное. Юг становится все больше не конкретным местом, но скорее идеей, историей со множеством вариантов, которая придумывается и переосмысляется всякий раз заново с тем, чтобы придать смысл миру, Югу, себе самим.
Южанка Энн Тайлер, размышляя о современной южной литературе, отмечает, что не исчезли три ключевых, с ее точки зрения, элемента, которые и создают все вместе уникально южное художественное единство — это «южный акцент» (а с ним и особая музыкальность завораживающего, самовоспроизводящегося диалога или монолога со многими вариациями), южное отношение к повествованию (рассказ не просто о том, что случилось но и с кем), влияющее на ход сюжета и характер фабулы, и южное ощущение принадлежности группе — сознание, что это «мы», а не «я» рассказываем историю9. Каждый из пунктов, выделенных Тайлер, по отдельности можно легкоотмести, но в целом она верно отмечает этот уход южного начала в стиль, в повествовательные модели, в проблему точки зрения, при том, что привычные южные ориентиры, такие как топос, поглощающий время, семейные корни и традиция, метафизическая черно-белость этого мира, исторические, крупномасштабные медитации и сильнейшее религиозное начало — сегодня нередко исчезли как из реальности, так из книг южных авторов. Следует добавить, что выделенные Тайлер элементы, кроме того, в полной мере отвечают не только южному, но любому субкультурному, маргинальному сознанию внутри США, оказываясь тем самым весьма характерным примером мультикультурной или, в данном случае, маргинальной чувствительности, которая может быть рассмотрена в диахронической динамике.
Сознательное культивирование частного, локального, отказ от универсальных обобщений и оценки преодоления региональности как «положительного» знака вхождения в национальную традицию, на Юге имеет ряд особенностей, что связано с более сильной, устоявшейся и по-прежнему, достаточно жизнеспособной собственной традицией, по сравнению со многими другими вариантами «пограничности», а также, с более явным и многообразным диалогом с этой традицией10.
Подобная зависимость от традиции не отличает, пожалуй, ни одну из современных пограничных и, в частности, региональных культур в США в такой степени. Многие молодые «этнические» литературные субтрадиции отказываются полностью от предшествующих фольклорных, мифологических, национальных, этнических и других корней, а возможный диалог с ними носит сугубо негативистский характер. Южная же «инаковость», как давно устоявшееся и признанное свойство, более сложна и не всегда легко прочитывается. Кроме того, подобно афро-американской доминанте, она не может быть целиком воспринята как иное, находящееся вне поля культуры США, поскольку является ее неотъемлемой частью. Проблемы личностного и культурного самоопределения для южной субтрадиции не то, чтобы менее насущны, но обретают достаточно противоречивые формы диалога с традицией, как южной, так и национальной. Новая культурная идентичность Юга, которую воссоздают современные авторы, инакова и по отношению к остальной Америке, и по отношению к собственной прежней традиции. Скажем, давняя южная тема перемены, потери и попыток героев ухватить контуры исчезающего на глазах мира, не ушла из южной литературы, но смысл потерь героев незаметно переместился целиком в воображаемую, символическую плоскость. Писателей сегодня волнует, например, уже не то, что исчез самСтарый Новый Орлеан, но что исчез ассоциировавшийся с ним особый кодекс чести. Застывание культурных стереотипов, нередко их переход в китч, стереотипизация — темы, волнующие южан в той же мере, что и авторов так называемых «молодых» традиций в американской литературе. Если раньше южный культурный контекст был узнаваемым и всем знакомым, а задачей автора было создание героя, в полной мере аутентичного той или иной южной культурной среде, то теперь писателям приходится, образно говоря, «придумывать» и контекст для своих персонажей, в котором они выглядели бы достаточно органично. Успешное аккумулирование элементов и деталей реальности нередко сообщает новым южным книгам свежесть и живость восприятия, чаще всего гротескно или комически окрашенного. Но одновременно, теряется серьезный эффект звучания героя в унисон со своим миром, их слиянность в единстве «своей» культуры. Подобный диссонанс опять таки роднит южную прозу с культурой «пограничья».
Вопрос о будущем литературы и культуры Юга часто звучит так: станет ли литература Юга через несколько десятилетий столь обширной, неоднородной и плюралистичной, что мы не сможем уже отличить ее от остальной Америки. То есть опасения здесь не в усиливающейся гомогенности национальной литературы, но в усиливающейся гетерогенности южной прозы. Более того, Юг отдал и продолжает отдавать многие из своих проблем общеамериканскому культурному пространству — среди них на первом месте, конечно, расовая проблематика, но и южный акцент, слышащийся теперь повсеместно, даже с экрана телевизора, и чувствительность к «топосу», как духовному понятию. Хотя на самом Юге сегодня скорее можно говорить не о чувстве места, а о чувстве многих мест — словно южане превратились в растения, пускающие все новые корни на воздух, не прикрепленные ни к какой почве. Практически точное повторение этой «садоводческой» метафоры обескоренения и трансплантации, столь распространенной в поликультурном «дискурсе дислокации» здесь тоже отнюдь не случайно.
Очуждение и гротеск, как его художественное выражение, были всегда свойственны южному мировосприятию, как и барочность, отличавшая южное художественное сознание и литературу. Все эти элементы сегодня получают новое наполнение, нередко осознаваясь как часть сугубо современного плюралистичного мироосмысления. Нередко приходится сталкиваться с парадоксами : на патриархальном, кастовом, жестоком Юге, как ни странно, всегда присутствовали терпимость и разнообразие, даже если они и были выключены из «видимого», официального культурного канона. Это касается,в частности, героев-гротесков, весьма характерных для южной культуры, большинство из которых были аутсайдерами, чужаками, трикстерами, оставаясь при этом органичной и необходимой частью южного микрокосма, создавая эффект равновесия в противопоставлении чужака некой общности, коллективному сознанию. «Деревенский дурачок» или гомосексуалист, загадочный трикстер (и с белой и с черной кожей) или мулатка, как ни странно, воспринимались в южном захолустье с неожиданной терпимостью, с человеческим и личностным интересом, специфически южным любопытством к «другому» (пусть и в форме сплетни, порой остракизма или двойных моральных стандартов).
Юг не случайно выбран в качестве примера современной «негеографической региональности». Ведь остальные регионы США не отличались южной степенью инаковости по отношению к официальной культуре, более того, в случае с тем же Западом поначалу инаковые элементы довольно скоро стали неотъемлемой и немаркированной как «иное» частью общеамериканских стереотипов. На Юге же и высокая, и низовая культура остались разительно отличны от американских и по сей день, войдя в национальную традицию в форме «чужого», хотя при этом, и ее важной части. В этом смысле пример Юга уникален и весьма показателен.
Этно-расовые Элементы «старой» региональности, насубтрадиции в которых я вкратце остановилась выше, находят контекстекультурной параллели как в новых, так и в достаточномногосоставности. устоявшихся этно-расовых субтрадициях, оказывающих сильнейшее влияние на культуру США. К «старым» этно-расовым субтрадициям можно отнести достаточно хорошо изученные как на Западе, так и в нашей стране афро-американскую, еврейскую, индейскую, в то время как азиатско-американская, напротив, относится скорее к «новым», малоизвестным традициям, к тому же быстро и активно развивающимся. Существуют и промежуточные варианты, такие, как, например, латиноамериканская субтрадиция внутри культуры США, рамки которой и по времени, и по культурной географии, и по степени адаптации национальной традицией достаточно размыты. Архаичные индейские мотивы, нередко с полным основанием подвёрстывающиеся под рубрику латиноамериканской субтрадиции, и культура «чиканос», как и мексикано-американская традиция вообще — одна из самых старых на культурной карте США, более позднее кубинское влияние и недавние поэтические возрождения среди выходцев изПуэрто-Рико в Нью-Йорке, — все это и многое другое нередко сливается в неком аморфном и неразличимом, изрядно стилизованном «латинском» присутствии, на что нередко сетуют сами представители этой условной субкультуры.
Проблема усложняется и тем, что в творчестве многих современных писателей США собственно американские или «пограничные» в культурном смысле элементы сливаются и испытывают влияние как национальной традиции и различных более или менее самостоятельных субтрадиций, так и мощное воздействие констант собственно латиноамериканской литературы. Речь здесь идет прежде всего о таких гигантах, как X. Л. Борхес, чье сильное влияние на американскую литературу ощущалось особенно в прошедшие десятилетия моды на постмодернизм, и Г. Гарсиа Маркес, чьи творческие искания оказались закономерно созвучны многим произведениям сегодняшних писателей-мультикультуралистов. Многие из стилевых и онтологических элементов, основополагающих для этой литературы, опять-таки находили параллели в тех или иных субкультурах внутри США (среди самых известных назовем «барочность», формообразующую для культуры американского Юга). Здесь, впрочем, особенно наглядно сказалась опасность скатиться к стереотипам, от героя-клише «латиноса», «мачо» до стереотипного произведения традиционалистской, преимущественно фольклорной, лирической направленности, в духе трилогии Родольфо Анайя «Благослови меня, Ультима» (1972), «Сердце Астлана» (1976) и «Тортуга» (1979).
Характерным примером такого стереотипа в смысле воздействия латиноамериканской традиции на литературу США является, в частности, популярность в последние годы в Северной Америке так называемого «магического реализма», ставшего едва ли не общим местом и нещадно эксплуатируемого авторами, нередко не разделяющими необходимых основ, на которых может строиться подобная поэтика и эстетика. В качестве примера можно привести Дж. Апдайка, упорно строящего свои последние, весьма неудачные романы на модели «магического реализма»11.
В литературе и искусстве современных латиноамериканских по происхождению авторов в США проблема латино-идентичности решается по-разному, от иронического диалога с традицией до полного ее неприятия и использования западной (американской) повествовательной модели. Понятие «культурного пограничья» и гибридности закономерно выходит на первый план в большинстве художественных и теоретических моделей, создаваемых авторами и критиками латиноамериканского происхождения вСША, как тех, что озабочены в основном лишь уравниваем границ в правах с центром, так и более глобальных по своему пафосу, направленных на создание нового понимания национальной и мировой культуры и многосоставной традиции. В этом смысле мексикано-американская субтрадиция является особенно интересной. Она характеризуется крайней многосоставностью, интенсивным культурным взаимодействием фронтирного характера, гибридностью индейских, испанских, мексиканских, англосаксонских элементов внутри своего поля. Хотя литературное творчество, преимущественно на испанском языке и в форме дневников, исповедей, записок, ориентированных главным образом на испанскую, мексиканскую, латиноамериканскую культуру, существовало в мексикано-американской традиции уже со второй половины XIX века, ее влияние на культуру Юго-Запада США сводилось в основном к иным формам — музыке, фольклору, прикладному искусству, кухне и т.д. После мексиканской революции 1910—1917 годов ситуация несколько изменилась, что привело к значительной актуализации словесного творчества, по-прежнему в большой мере ориентированного на Латинскую Америку.
Именно в недрах мексикано-американской традиции формируется тот набор онтологических и в определенной мере эстетических элементов, которые постепенно оказываются усвоены и другими художественными субтрадициями и даже научным дискурсом в последние десятилетия. Проблематика идентичности и взаимосвязи личностного и культурного начал, амбивалентность гибридного или синкретического сознания, лежащие в основе пограничной чувствительности, относятся к группе ключевых понятий, активно разрабатываемых всеми маргинальными и маргинализированными субтрадициями внутри условного поля культуры США. В англоязычной культурологии сегодня уже успел утвердиться испанский термин «mestizaje»12, во франкофонной — «metissage»13, а отношение к гибридным формам полностью сменило знак в последнее время — с отрицательного в Европе и США на положительное, причем термин был немедленно узурпирован культурным ядром, приспособившим его достаточно пластично к своим нормам, лишив при этом традиционного политического и исторического наполнения и перенеся на явления, ранее не рассматривавшиеся в контексте культурной гибридности. Прежний феномен «mestizo», как агрессивно индихенистская форма идентификации, превратился в «new mestizo», и соответственно, «frontera» — в «transfrontera», где индейский элемент потерял свое главенствующеезначение, и едва ли не любое культурное взаимодействие, приводящее к интересным, новым результатам, сегодня получает название «mestizaje».
Так, например, исследователь Эрнст Рудин рассматривает проблему заимствования и смены смысла термина «mestizaje» современной испанской и англосаксонской культурами Юго-Запада США, в статье о «новых метисах»14, указывая, что параллельно с изменением и расширением значения понятий культурной гибридности и пограничья в целом, происходит и ресемантизация конкретных культурных феноменов и традиций, в частности, это касается традиции «чиканос». Прежнее значение этого термина было связано скорее с экстремистскими, групповыми по своему пафосу, «идентификационными» выступлениями политических групп определенного социального и этнического субстрата («chicanismo»), с заимствованной из «официальной» идеологии индихенизма концепцией «La Raza Nacional» и мифологемой «украденной» завоевателями древней «потерянной» родины — Астлана (см. например, манифест El Plan Espiritual de Aztlan, написанный Родольфо Гонсалесом в 1969 году). Чикано-идентичность 60-х резко противостояла «vendidos» (или «agringados») — ассимилированным слоям, отказывавшимся именоваться «чиканос», предпочитая более нейтральное и соответствовавшее тогдашнему культурному климату США «мексикано-американцы». В 80-е же годы XX века под определение «чиканос» заметно более широкое и размытое, стали попадать все мексикано-американцы, без учета их политической, социальной, этно-расовой окраски и исторической обусловленности. Астлан при этом окончательно превратился в метафору, одновременно расширившись в смысле культурной географии и поглотив весь американский Юго-Запад, перешедший США по договору Гвадалупе Идальго 1848 года, включая Южную Калифорнию, Аризону, Техас, Нью-Мексико, Южное Колорадо и т.д., как особый «топос» пограничья, поле деятельности «нового метиса», ставшего в конце XX века главной темой и символическим ориентиром в значительно переосмысленной и почти потерявшей свое экстремистское политическое измерение культурной традиции «чиканос».
В современных исследованиях принято, как известно, выделять устойчивые, классические цивилизации — великие культуры, изучение которых превалировало в предшествующие эпохи, и так называемые пограничные или лимитрофные. Определяя общие структурные составляющие пограничных цивилизаций и/или культур, ученые относят к ним, в частности, «низкий уровень структурированности., внутренние напряжения и противоречия какпостоянный конститутивный фактор., циклические «разрывы» процесса формирования, регулируемые механизмом инверсии развития, синкретическую доминанту, неспособность к саморазвитию, сосуществование в структуре культуры феноменов, принадлежащих различной исторической хронологии. и постоянную активизацию архаических феноменов; акцент на субъективном, растворение субъекта в культурном синкрезисе, экстенсивный характер, неспособность к динамическому развитию»15. Комбинация традиционного и современного определяет нестабильность структуры пограничных культур, раскол, инверсию, как механизм развития. Проблема самоидентификации, в отличие от современной цивилизации, становится важнейшей и переживается пограничной культурой крайне болезненно. «Пути к идентичности могут прокладываться на основе архаикотрадиционалистской (консервативный вариант), на модернизированной основе (прогрессистский вариант), на основе комбинирования арахаико-традиционалистских и «современных» элементов. Последний вариант наиболее типичен для пограничных культур, блуждающих в лабиринтах поисков идентичности, всегда размещенной в зоне неопределенного и утопического будущего» (15; стр. 243).
В современных пограничных культурах существуют все три вышеназванные модели, хотя полная ассимиляционная модель и стремление к мимикрии, или «криптоэтничности» сегодня и не столь распространены. Речь идет, к примеру, о проблеме интерпретации доли индейской крови в соотношении с условно «европейской» в культуре «чиканос», стремлении «сойти за белого», об ассимилятивных в основе попытках совмещения англосаксонской «общественной» идентичности и мексиканской «частной, личностной» сферы, что ярко отразилось в литературе «чиканос» 40—50-х годов XX века. Назовем лишь весьма популярную не только в мексикано-американской, но и в англосаксонской среде романтическую мелодраму «Мексиканская деревня» (1945), построенную на стандартной для многих этно-расовых субтрадиций фабуле — истории жизни не имеющего право на существование гибрида — Боба Уэбстера, незаконнорожденного сына мексиканки и американца, и роман X. А. Вильяреаля «Почо» (1959), где мексиканский герой достаточно искусственно оказывается помещен автором внутрь североамериканской, а не латиноамериканской повествовательной модели.
Консервативный или культурно-экстремистский и деструктивный в основе путь, как стремление ограничиться, замкнуться в себе под лозунгом —нашу границу не поймет никакая другая граница — встречается достаточно часто, хотя в целом характерен скорее для 60-х годов. Так, традиция «чиканос» в культурном контексте США и Америк в целом, для которой феномен пограничья является формообразующим, в 60-е годы отличалась политическим и культурным экстремизмом, в литературе господствовали социальная проза, поэзия и драматургия протеста. Речь идет о крестьянском театре («teatro campesino») Мигеля Вальдеса, о деятельности издательства «Quinto Sol» (созд. в 1967 году), отмеченной пафосом борьбы с «цензурой невнимания» и связанной с именами писателей Томаса Ривьеры, Роландо Инохосы, Родольфо Анайи и др., резко противопоставлявших официальной американской свою «чикано-идентичность», основанную на устной фольклорной традиции «cuentos», возрожденном и переосмысленном мифе Астлана, который они не всегда удачно пытались соединить с реалистическим изображением жизни «городского квартала» («barrio») 50-х годов. Характерно, что лишь Анайя писал свои произведения по-английски, хотя и с элементами caló — своеобразной смеси английского и испанского специфически мексикано-американского характера, языке городской трущобы. В целом, период существования мексикано-американской субкультуры в границах «barrio» завершился к середине XX века, когда дальнейшая урбанизация, усиление миграций, процессы культурной интеграции привели в значительной мере к переразмещению этой традиции в крупные мегалополисы.
Наиболее характерной для современного культурного контекста является пластичная, «гибридная» модель — тенденция открытости, становления, сочетания западного и, условно говоря, незападного дискурсов. Это неустойчивое третье время-пространство, «место, где третий и первый мир трутся друг о друга и постоянно кровоточат, пока не родится нечто новое»16, означенное дефисом, который будет не границей абсолютного разделения, но воображаемым мостом, образом объединяющим, оставляет исследователю очень узкую тропку между традиционной фольклористикой, этнографией и универсалиями, выработанными западной логоцентрической традицией. Метафора моста является поэтому особенно важной для мексикано-американской традиции в 80—90-е годы. Так, современные писательницы-«чиканы» Глория Ансальдуа и Чери Морага в антологии мультикультурной художественной прозы и эссеистики, во многом определившей эволюцию этой субтрадиции в последние десятилетия, активно осмысляют образ моста, как связующего начала17.
Основными жанровыми формами в мексикано-американской литературе остаются и на сегодняшний день романы становления, мемуары, автобиографии, исповеди, свидетельства, в центре которых неизменно стоит тема индивидуального духовного становления, развития, где важнейшая роль принадлежит семье, дому, топосу. Все это проблематика весьма характерная для пограничных традиций, стремящихся войти в «мейнстрим». Отсюда и посягательство на типично американские темы успеха, мечты, ассимилиляции в последние десятилетия. Однако, ассимиляция все чаще рассматривается иронически, пародийно, двойственно. Здесь примером может послужить не только «фальшивая» автобиография Р. Родригеса, речь о которой ниже, но и романы-пародии на американские англосаксонские ценности и мифологию О. Акосты — «Автобиография бурого буйвола» (1972) и «Восстание тараканьего народа» (1973), а также пародийный двойник американского дома-мечты — «Дом на улице Манго», стоящий в центре повествований С. Сиснерос, где Америка предстает «землей автоматических прачечных» и техасских «принцев», только что сошедших с экрана мыльной оперы.
С середины 80-х годов XX века стало возможным говорить о появлении внутри мексикано-американской субтрадиции небольшой группы авторов, с полным правом относимых к американскому «мейнстриму». Самым характерным примером среди них является Сандра Сиснерос, автор романа в рассказах «Дом на улице Манго» (1984), завоевавшего книжную премию Фонда Доколумбовой Америки, и ставшего первым чикано-романом, опубликованным в мейнстримовском издательстве «Рэндом Хаус». Несмотря на обманчивую простоту композиции виньеток Сиснерос, «Дом на улице Манго» — гибридное произведение в жанровом и дискурсивном смысле (лирическая проза на грани поэзии, по определению самого автора), оглядывающееся на латиноамериканскую традицию, в частности, Сиснерос настойчиво называет среди своих условных «учителей» X. Л. Борхеса, но и не игнорирующее сугубо американского опыта. Отсюда и два казалось бы взаимоисключающих и постоянно сополагаемых топоса в романе — Чикаго и Мехико, «между» которыми и существует Эсперанса.
Межпространственность, символическая безместность, неразрешимые культурная и социально-гендерная неприкаянность определяют жизнь и становление молодой героини в жестоком мире чикагского «barrio».
Акцент в анализе пограничных культурных явлений в последнее время не случайно переносится на их динамику, метаморфозы, неустойчивость, как ключевые признаки, а также на синхронную и диахронную соотнесенность сдругими феноменами, и прежде всего, с культурным ядром ведь, по словам Ренато Росальдо, «зоны культурного пограничья всегда находятся в движении, а не застыли для инспекции»18. Так, эволюция пограничной субтрадиции «чиканос» внутри культуры США в 80—90-е годы шла по пути постепенного отказа от политического и культурного экстремизма и с одной стороны, все более органичного вхождения в национальную традицию, которую сегодня уже нельзя представить без этой доминанты, а с другой стороны, панамериканским пафосом и, наконец, в лучших своих проявлениях, свободным, «космополитическим» оперированием множеством традиций, эстетических и философских систем. Речь идет о таких авторах, как прозаики Рон Ариас, Ана Кастильо, Альма Вильянуэва, поэт Гари Сото и др. Современный теоретик пограничья X. Д. Сальдивар не случайно, рассуждая об особенностях культурных зон, чувствительных к проблематике гибридности на Юго-Западе США, выделяет уже не собственно пограничные элементы, но грани между фольклорным началом и иными формами маргинальных дискурсов, между высокой и низовой культурой, между людьми, принадлежащими определенной культурной традиции и теми, кто существует между культур, а также останавливается на эстетике современного пограничья, выделяя как основной элемент фрагментарность гибридного культурного повествования или даже спектакля и его особое качество видеоклипа, предполагающего одновременное существование множества способов самовыражения19В связи с этим следует отметить развитие некоторых новых, ранее не характерных для мексикано-американской традиции обертонов в разработке эстетико-онтологического комплекса «пограничья». Теперь оно все чаще осмысляется в литературе и искусстве посредством метафоры стирания или смены знаков в границах между внутренним и внешним миром, причем в предельно экспрессивном, пластическом и гротескно-карнавальном смысле, где оказывается стерта граница между физическим телом и внешней реальностью. Объективно близки к этой пластичности и ключевые для пограничья метаморфоза или превращение, как варианты выражения важной для него поэтики «очуждения», выражающейся во всеобъемлющем гротеске, открывающем ряд новых выразительных возможностей. «Метаморфоза» воспринимается как бесшовное перетекание одной формы в другую, образ «незастывшей магмы» между двумя и более культурными мирами20, где архаика и цикличность третьего мира просачиваются в рационализм и линеарность первого. Так, в постмодернистском романе-«перекрестке» современного писателя-чикано Рона Ариаса «Дорога в Тамасунчале» (1975),построенном целиком на метафоре пересечения всевозможных границ, от вполне реальных до самых условных, фантастических, гротескных, «недобрая» метаморфоза занимает едва ли не центральное место. Это взаимопревращения мертвого и живого (мотив ожившего мертвеца, возможно позаимствованный автором из рассказа Г. Гарсиа Маркеса «Самый красивый в мире утопленник»), реального и нереального в смысле пространственных измерений (на героя нападает выскочивший буквально из телевизора человек, а затем и сам он превращается в телевизор), древнего и современного (герои постоянно переносятся из прошлого в настоящее и назад, попадая из «barrio» в современном Лос-Анджелесе в колониальное Перу и наоборот), наконец, условной реальности книги и нескольких «вымыслов» в системе координат этой реальности (пьеса, кинофильм, «вписанные» в предсмертную исповедь героя). При этом «межпространственность», в которой оперируют герои Ариаса, носит явно панамериканский характер, что подчеркивается, в частности, в образе «дороги» — панамериканского шоссе, бегущего из США в Мексику и далее — в реальные и вымышленные пространства. Подобный же панамериканский и в каком-то смысле даже космополитический пафос отличает и созданный Аной Кастильо символический образ Сапогонии (Sapogonia: An Anti-Romance in 3/8 Meter, 1990) — воображаемой «страны пограничья», находящейся «между» современным Чикаго, Центральной и Южной Америкой, Европой, «откуда родом все культурные гибриды (метисы), вне зависимости от их национальности, личной и расовой принадлежности и гражданского статуса».
Вместо характерной ранее для литературы чиканос ограниченности культурно-пространственными рамками «barrio», «идентификационного беспокойства» и политической декларативности в романах Ариаса, Кастильо, А. Вильянуэва, Р. Родригеса и др. топография оказывается весьма проницаемой, а темпоральность произвольной, элементы нового латиноамериканского романа переплетаются со стилистикойсевероамериканского постмодернистского повествования, что выражается в эпистемологической неуверенности, в обращении авторов к пародии (в том числе и на устоявшиеся жанровые формы собственной субтрадиции), фантастике, палимпсесту, парафразу и т. д. Важнейшее для литературы понимание границы, как грани между вымыслом и реальностью, обретает таким образом в литературе пограничья мексикано-американской субтрадиции особый смысловой оттенок. Обманчиво реалистические детали постоянно ставятся под сомнение, максимально очуждаются в игровом взаимодействииавтора, текста, героя, скользящего между, вопреки, в обход привычных культурных схем. Менее рассчитанные на массового, в том числе и американского читателя, в определенной мере «эстетские» варианты латино-присутствия в культуре США последних десятилетий включают совершенно разнообразные фигуры. Здесь Рон Ариас и Ана Кастильо соседствуют с автором, принадлежащим в целом к более раннему поколению. Речь идет о техасском писателе Роландо Инохосе, создающем свои романы и на английском, и на испанском, иногда объединяя языки в пределах одного повествования. Мифопоэтическое пространство романов Инохосы напоминает Йокнапатофу У. Фолкнера, только со специфическим пограничным оттенком — действие его «Долины» (романа, написанного сначала по-испански под названием «Estampas del valle у otras obras» (1973), а затем переизданного по-английски в 1983 году) происходит в воображаемой части Техаса — городке Клейл-Сити, напоминающем его родной Мерседес, в десяти милях от мексиканской границы, где мексикано-американцы живут с середины XVIII века. Автор заостряет внимание на неразрешенной культурной раздвоенности своих героев, являющихся американскими гражданами с мексиканскими представлениями о жизни и о себе, т.е. практикующими криптоэтнический вариант культурной самоидентификации. Его поэтому закономерно интересует разработка наиболее очевидного и болезненного, искусственно-географического аспекта пограничного в культурном смысле существования, причем, в отличие от той же Сиснерос, лишающей переход границы магических обертонов, в том числе и путем обратного ее пересечения (развоплощения), Инохоса, развенчивая одни мифы пограничья, тут же создает новые.
Важное свойство пограничья — постоянное переключение культурных, понятийных, языковых кодов и дискурсов. В современных этнорасовых субтрадициях и прежде всего, если говорить о США, в мексикано-американской, азиатско-американской и в определенной мере индейской, это явление культурного «перевода» или напротив, непереводимости понятий одной культуры на язык другой, оказывается особенно наглядным и актуальным, выражаясь в активном пересоздании языка («языковых вывихах», «переломах»21, взрывчатых экспрессивных метафорах), в полилингвизме, в почти повсеместной стилевой избыточности и диалоге повествовательных форм и моделей, взятых из разнородных и часто, на первый взгляд, взаимоисключающих традиций.
Таким образом, «пограничье» расширяется, включая в свое поле все более обширный и неожиданный спектр явлений. Объективно близкий ему «дискурс разнообразия», к которому обращается сегодня большое число исследователей, не случайно оставляет риторический вопрос о том, существует ли «типично американский» писатель, художник, наконец, просто «типичный» или «нормальный» американец, без ответа. Значительно расширенное понятие культурного пограничья, выходящее на первый план во многих современных американских осмыслениях культуры, дает возможность определить не только основательно утративший свои позиции «центр» (здесь снова срабатывает американская логика определения себя, национальной культуры и идентичности от противного), как «нулевую» культуру, но и мультикультуру или «культуру разнообразия», собрание «пограничий», как постсовременный суррогат культурной целостности.
Можно говорить о многозначности понятия «пограничья» для культуры и литературы США. Оно присутствует в национальном сознании и традиции в течение уже длительного времени в форме идеи фронтира (реального и символического, связанного с реальным же и символическим топосом), иными словами, (про)движения в определенном линейном, пространственном направлении (идея западная, экспансионистская) и соответственно, в форме культурного столкновения, взрыва, (взаимо)уничтожения. Географическое пограничье и культурное смешение, как его основной признак, связанное с этносом, в меньшей степени, с социальными классами и полом, соседствуют в США с пограничьем, как несоответствием норме в более глубинном и не связанном с культурной географией смысле. Здесь речь идет о маргинальности, взаимосвязи которой с пограничной проблематикой были рассмотрены вкратце выше.
Для «молодых» в смысле возникновения и в смысле получения культурной «видимости» традиций, нередко создающихся уже как отклик на культурные войны и политику разнообразия последних десятилетий, важным становится само завоевание места под солнцем. Здесь — в силу изменившейся общекультурной ситуации — процесс «нахождения голоса» той или иной традицией нередко заметно убыстряется, так что приходится говорить уже о некоторой формализации подобных маргинальных субтрадиций, которые, образно говоря, не успев возникнуть, уже успели превратиться в набор клише и стереотипов. В этом смысле характерным примером является азиатско-американская традиция. На поверку оказывается, что это понятие, в целом, весьма условное. Культурный, этно-расовый, социальный, эстетическийразброс представителей этой традиции так широк, что она оказывается крайне неоднородной (китайско-американская не похожа и развивается не одновременно с филиппино-американской, индо-американская не равна японско-американской, пакистанская и гавайская традиции и вовсе относятся к самым новым элементам, возникают едва ли не в последнее десятилетие). В каждой из них есть свои историко-культурные вехи, определившие развитие: так, для японско-американской традиции, это судьба интернированных и лишенных гражданства в связи с событиями второй мировой войны, для китайско-американской традиции — Закон об «исключении» китайцев (принятый еще в 1882 году) и дискриминация вплоть до лишения гражданства, как, впрочем, и конфуцианство, своеобразный вариант китайского домостроя, причудливо перенесенный на американскую почву, и уже совершенно американская история строительства железных дорог на дальнем Западе. И все же можно говорить и о некой целостности сравнительно молодой азиатско-американской традиции. Это момент, волнующий всех ее авторов, неизменно подчеркивающих именно американские черты своей идентичности, наличие уже сугубо американского культурного наследия, проблемы ассимиляции и культурного и социального отчуждения.
Характерно, что подобно всем молодым традициям, азиатско-американская стремится к экспансии степени давности собственного существования в США, утверждая, что наличествовала уже более ста лет назад. Отдельные авторы, действительно писавшие еще с конца XIX века (главным образом, это были автобиографии, вплоть до конца второй мировой войны, и, как их жанровая разновидность, — исповеди), однако, вряд ли могут свидетельствовать в пользу наличия «традиции», тем более, что большинство из этих писателей создавали свои произведения на родном, а не на английском языке и лишь после переводились для белой аудитории, способствуя скорее поддержке евроцентристского монокультурного стереотипа о себе, как об иностранцах, экзотических, не способных в принципе быть американцами, напоминая поверхностный взгляд и туристскую перспективу писателей «местного колорита». К подобным произведениям относится, в частности, книга Гамильтона Холта «Жизнь и истории неизвестных американцев» (1906). В 1921 году Суи Син Фар под псевдонимом Эдит Итон публикует рассказы «Миссис Весенний аромат», где американо-китайское начало проявляется лишь в наборе стереотипов, оказавшихся очень живучими в восприятии и интерпретации этой субтрадиции вплоть до сегодняшнего дня, преломившись особым образом в массовой американской культуре. Таковы, например,вьетнамские и японские солдаты-монстры из фильмов типа «Рембо» и азиатские гангстеры из телесериалов, вроде снятого по пьесе Фрэнка Чина «Года дракона», более старые «стереотипы» комичных слуг или беспомощных «восточных» злодеев, которым противостоят, естественно, во всем превосходящие их мужественные англосаксы, активно разрушаемый сегодня стереотип «послушной» восточной женщины — часто экзотической секс-рабыни или, во всяком случае, «объекта», и наконец, коллективный стереотип всех азиато-американцев как «примерного меньшинства», каким представляет его американская пропаганда.
Исключений из логики стереотипов было, впрочем, тоже предостаточно, хотя они и не попадали в поле зрения американской читающей публики и критиков. Взять хотя бы талантливую японско-американскую писательницу Хисаи Ямамото, принадлежащую ко второму поколению японских иммигрантов и проведшую некоторое время в лагере для интернированных японцев в Аризоне в 1942 году, чей рассказ «Семнадцать слогов» (1949) стал сегодня едва ли не классическим во многих антологиях поликультурной репрезентации. В нем традиционная тема столкновения японской и американской культуры в душе иммигранта, конфликт поколений, формализация семейной и личной истории, решена на примере взаимоотношений матери, для которой создание классического «хоку» из семнадцати слогов, становится способом заявить о своей связи с японской культурой, и дочери, отказывающейся от этого наследия и повернутой лицом к Америке и к будущему. Среди других примеров азиатско-американской литературы середины XX века можно назвать китайскую «автобиографию» Джейд Сноу Уонг «Пятая китайская дочь» (1950), роман японки Моники Соун «Дочь нисеи» (1953), книгу во многом предваряющую стилистику романов Мэксин Хонг Кингстон — одной из самых талантливых современных азиатско-американских авторов, филиппинского иммигранта, бывшего поэта, наемного рабочего и бродяги-пикаро Карлоса Булосана «Америка в сердце: личная история» (1946), наконец, сатирический роман Луиса Чу «Съешьте миску чая» (1961).
Однако все же серьезно о творчестве азиатско-американских авторов стали говорить лишь с конца 60-х—начала 70-х годов XX века, воспринимая ее прежде всего как «не азиатскую», но уже американскую, обладающую рядом своих, специфических признаков. Настоящее рождение этой субтрадиции для «мейнстрима» произошло по существу лишь с публикацией известной книги Мэксин Хонг Кингстон «Воительница» в 1976 году. Хотя несколько ранее китайско-американский драматург Френк Чин вместе с группойписателей и критиков успел опубликовать антологию азиатско-американской литературы «Ашеееее !»(1974), где особое внимание уделялось тому, как автобиографии азиатско-американского пограничья подтверждали, игнорировали или отрицали культурное влияние и литературные истории, характеризовавшиеся расистскими обертонами в отношении азиатских иммигрантов, а также «учебники по мимикрии и успешной ассимиляции» и автобиографические повествования «обращенных».
Сама же литература расцвела еще позднее — в 80—90-е годы. При этом речь идет чаще всего об авторах, родившихся и выросших в США (хотя есть и исключения, скажем, Бхарати Мухери) — в давних азиатских культурных анклавах — в Калифорнии и на Гавайях, или в особых пол и культурных топосах, таких как Аляска начала XX века (Т. Каназава). Однако есть и множество азиатско-американских писателей, которые формировались в культурной изоляции, даже находясь в непосредственной близости от всплеска азиатско-американских культурных движений в том же Нью-Йорке или Чикаго (Лидия Минатойя, Мария Хонг, Дэвид Мюра).
Жанр автобиографии для азиатско-американской традиции имеет особый смысл, поскольку связан с реальными обстоятельствами иммиграции, скажем, для тех же китайцев. Вновь прибывавшие иммигранты из Китая, отвечая на вопросы иммиграционных служб, пользовались фальшивыми идентичностями и автобиографиями, придумывая целые семейные кланы, доказывая, что они были действительно родственниками тех легальных иммигрантов, которые за них поручались, согласно специальным китайским книгам-инструкциям, что предлагали правдоподобные модели поведения и взаимоотношений иммигранта и его мнимых родных. Так возникали фиктивные сыновья и отцы «на бумаге» — из «стратегических соображений». Реальные жизненные обстоятельства иммигрантов китайского происхождения и их настоящие биографии оказывались напрочь забытыми или засекреченными, а наиболее любознательным потомкам предстояло в дальнейшем восстанавливать осколки и обрывки этих семейных и личных историй. Автобиография по-прежнему остается одним из основных жанров, хотя появляются и другие литературные формы, ранее не характерные для азиатско-американской литературы.
Азиатско-американские авторы, художественно претворяяповседневное существование в Америке, считавшей их по-прежнему иностранцами, пытались до самого недавнего времени главным образом оценить свой коллективный опыт как этно-расового и культурного меньшинства,существовавшего за границами мейнстрима, в качестве аутсайдеров американской культуры, показать прежде всего, что более древний культурный пласт, связанный с азиатским наследием, уже перестал для них играть основополагающую роль и они стали американскими писателями. Личные истории воспринимались поэтому прежде всего с точки зрения типизации и художественного обобщения некого разделяемого всеми культурного опыта, оформлявшего, в свою очередь, и саму азиатско-американскую традицию, что сообщало этим произведениям определенные общие особенности, выделяемые и в других культурах пограничья в разные периоды их развития (хрестоматийным примером здесь может послужить афро-американская традиция, прошедшая подобный этап несколько ранее). Вопросы, волновавшие первое поколение азиатско-американских авторов, были связаны с определением себя как американцев, несмотря на отказывавшую им в этом господствующую культуру, использовавшую в качестве основы объективации такие внешние проявления «чужеродности», как «другой» этно-расовый тип, восточное, а не западное сознание, культуру, мировосприятие и т.д. Неразрешимым вопросом оставалось долгое время отсутствие места в культуре США для всех людей, из чьих личных и групповых историй она, по сути, складывалась. Вместо прикладной этнографии и ориентализма, в восприятии азиатско-американской истории и опыта, о которых писал Э. Сайд, или «фальшивки», как резко определил это стереотипизирующее восприятие азиатско-американских культур, как нехитрого набора традиций и обычаев главным образом материальной культуры Фрэнк Чин, поколение азиатско-американских авторов 80—90-х попыталось привлечь внимание к другому — к тому, как те же осколки материальной и духовной культуры оказались инкорпорированы, иногда при этом полностью изменив свою семантику, в культуру современных США. В этом смысле книга Кингстон «Воительница» стала важной вехой на пути развития азиатско-американской субтрадиции, поскольку в ней произошел довольно явный отход от групповой модели художественного сознания, и она отразила растущий интерес к индивидуальному опыту пограничной личности, а не к типизации и обобщению, и весьма двойственное отношение и к азиатской, и к американской традициям, как и скепсис по поводу их гармоничного сосуществования. При этом, несмотря на уверения Кингстон, что она не стремилась в «автобиографии» представить и суммировать весь китайско-американский опыт, но напротив, хотела поставить его под сомнение, причем восприняв сквозь призму личного опыта своей героини, претворив «художественно», ее книга долгое времявоспринималась как типичная «этническая автобиография», основанная на реальной, фольклорной китайской традиции. Книги Кингстон стали уже своего рода современной азиатско-американской «классикой», переведены более чем на 8 языков, а сама она является самым «преподаваемым» автором в США.
Среди наиболее интересных современных азиатско-американских писателей выделяются не только весьма популярная, особенно среди белой аудитории Эми Тэн, автор бестселлеров «Клуб счастья» и «Жена кухонного бога» (1991), но и японский иммигрант в третьем поколении Дэвид Мюра, написавший книгу «Превращаясь в японца». Индо-американская писательница Бхарати Мухери соседствует в списке наиболее интересных авторов с японско-американскими поэтессой Гаррет Каоро Хонго и прозаиком Синтией Кадохатой, с талантливым драматургом более молодого поколения Дэвидом Генри Хуангом, написавшим нашумевшую и удачно экранизированную пьесу «М. Баттерфляй» (1988). Следует назвать и китайско-американскую писательницу Гиш Иен, автора иронического, сатирического романа «Типичный американец» (1991), где главный герой Ральф Ченг добивается воплощения «американской мечты» в меркантильном восприятии 50-ых, да еще и на китайский лад, и травестируются многие знакомые элементы традиционной американской культуры, в частности, изрядно идеализированная, молчаливо расистская «сабербия» с ее загородными клубами, игрой в гольф и «полезными» друзьями.
Как и в других культурных традициях пограничья, в азиатско-американской литературе возникает некая новая символическая культурная территория между американской и своей (а для некоторых авторов уже ставшей чужой) культурой. Определение этой культурной территории, естественно, требует новых средств, приемов и форм. Одним из них становится своеобразный жанровый и дискурсивный гибрид, который Чери Морага и Глория Ансальдуа предлагают назвать «повествованием о судьбе культуры», сочетающим в себе литературный вымысел и критику, научную методологию и просторечье, стилевые идиосинкразии, лирическое и символическое начала, крайний субъективизм и аналитичность. Такими гибридами литературной критики, художественного вымысла, документальных повествований являются очень многие произведения азиатско-американских авторов, на некоторых из которых я остановлюсь ниже.
Исследовательница Элен Ким в статье «Определяя азиатско-американские реалии посредством литературы»22 справедливо отмечает, что полное преодоление маргинальности столь же невозможно да и нежелательно для этой традиции, сколь и полное растворение в культуре-гегемоне и, соответственно, «невидимость». Признавая свою«американскость», азиатско-американская традиция в лучших проявлениях стремится к максимальному использованию власти своей инаковости и созданию нового типа идентичности и новых «я» — из реального опыта, а не из расовой фантазии. Современное поколение азиатско-американских авторов является в большинстве своем рожденным уже в США (причем, чаще не в первом поколении), и потому во многом маргинальным по отношению к собственной этно-расовой культурной традиции, не принадлежа «мейнстриму», но и потеряв связь с часто даже не говорящей по-английски, мнимо «своей» культурной группой. Иногда происходит парадоксальное обращение азиатско-американских авторов не к белой аудитории, но к своей когда-то потерянной и ставшей чужой культуре. на английском языке или на своеобразной билингвистической смеси, хотя именно в случае с азиатско-американскими литературами это сделать особенно трудно, в силу кардинальных различий между родными языковыми группами и американским английским. Таким образом, в развитии азиатско-американской традиции проблема читательской аудитории выдвигается на первый план. Помимо апелляции к мейнстриму и к собственным культурным группам, азиатско-американские авторы все чаще осознают себя принадлежащими к культурному фронтиру и ассоциируются, соответственно, с другими представителями «пограничья». Азиатско-американская литература, конечно, может быть названа универсальной в своем роде, как это нередко делается «белыми» критиками, воспринимающими ее как «экзотику», однако, она, вместе с тем, сопротивляется слиянию с «мейнстримом», стремясь сознательно остаться «другой», «иной» и концептуализировать при этом свои отличия.
Среди образов «врага» у современных сторонников монокультуры и традиционализма феминизм во всех его многочисленных проявлениях занимает совершенно особое место. При этом «женское пограничье», как более аморфный и размытый феномен, не всегда и не во всем пересекается с феминистическим проектом, являясь, вместе с тем, одним из основных предметов феминистической литературной критики, антропологии, культурологии.
Женское «пограничье» в американской культуре конца XX века.
Феминизм не относится напрямую к предмету данного исследования, но «дискурс разнообразия» несомненно рассматривает женщин, как культурную группу, находящуюся в сложных взаимоотношениях с «мейнстримом», в качестве одной из основных, подвергающихся объективации, порабощению, универсализации с позиции патриархальной культуры. И каких бы чудес равноправия не добились сегодня американки, и в США по-прежнему господствует привычка «смотреть на все мужскими глазами», что выражается прежде всего в массовой культуре, особенно в визуальных родах искусств (в частности, в кино камера «глядит» на все глазами мужчины), и конечно, в литературе23. Проблема точки зрения, таким образом, становится центральной и для женских попыток осмысления себя и своего «я» в мире, ориентированном на мужчин.
Среди основных понятий и дискурсов, подвергающихся деконструкции в современных теориях «женского пограничья» выделяется, несомненно, идея «патриархальности» и патриархальной традиции. В качестве альтернативы здесь выступает в наиболее общем, родовом смысле феномен «сестринства», особого женского единения. Раса, класс, пол, субкультурные и иные факторы работают вместе в создании особого женского творческого опыта. При этом, в американской традиции, в отличие от европейской, собственно особенности женской креативности, и в области литературы, — специфика женского письма — «ecriture feminine» — отходят, в известной мере, на второй план. Хотя определенный набор общих закономерностей, свойственных женскому дискурсу различий — таких, как ассоциативность, свободная текучая структура, циклические модели времени, двойственный эффект отражения и воссоздания художественного опыта — одновременно вне и внутри патриархальной традиции, вкупе с дополнительными обертонами, связанными с этно-расовым, сексуальным, социальным, региональным и иными аспектами специфически женской маргинальности, стоят в центре и американских вариантов осмысления художественного опыта «женского пограничья».
Подобно тому, как происходит коммерциализация и ассимиляция пограничного культурного опыта этно-расовых, региональных и других традиций культурным ядром, своего рода утверждение западного универсализма посредством поглощения незападных, постколониальных моделей, так и патриархальная идеология не видит ничего дурного в собственном открыто признаваемом сегодня ею «сексизме».
Если в дискурсе «культурного многообразия» изначальная саидовская модель противопоставления, подавления и противостояния сменилась наболее тонкие различия и осмысление промежуточных, «гибридных» вариантов, то в дискурсе женской инаковости, отмеченном мультикультурным влиянием, бинарная оппозиция патриархальная традиция/антипатриархальное противостояние уступила место более динамическому взаимодействию промежуточных и сложных форм и главное, их ироническому восприятию самими авторами. На уровне теоретической рефлексии это выражается во все более сознательном и опять-таки ироническом обращении к различным теориям, ранее использовавшимся феминизмом в борьбе с патриархальной идеологией. Сами они при этом были частью патриархальной традиции (это касается, в частности, марксизма, фрейдизма и т.д.).
Очень немногие из современных американских авторов-женщин — феминистки в строгом смысле слова (практически каждая из называемых обычно в этом контексте фигур — от О. Лорд до П. Г. Аллен, от Дж. Смайли до Э. Джонг, от Б. Э. Мэйсон до Г. Нейлор вызывают некоторые сомнения относительно возможности их безоговорочного отнесения к феминизму), хотя женская идентичность и является важнейшим элементом их творческого опыта и становления, особенно в смысле наложения тендерных ролей на собственно «пограничную» проблематику. В этом смысле показателен пример творческой эволюции еврейско-американской писательницы Эрики Джонг — «enfant terrible» современной женской литературы в США. Внешне она долгое время являла собой пример практически полного отказа от еврейской традиции. Филологическое образование Джонг, как и в случае со многими современными американскими писателями, привело, в частности, к созданию исторической фантазии-пикарески из английской жизни XVIII века «Фанни» (1980), где она попыталась пародийно переписать историю Тома Джонса, сделав его женщиной. Подобным же стремлением пересоздать определенные мифы и метафоры патриархальной культуры проникнут и ее роман «Серениссима» (1987, переиздан в 1995 году под названием «Дочь Шейлока»). В последнее время эта весьма популярная в Америке, как и во всем мире, писательница, автор нашумевшего в 70-е годы и переведенного на множество языков (теперь и на русский) бестселлера-дебюта «Страх полета», названного Генри Миллером «женским «Тропиком Рака», стала все большее внимание уделять именно этно-культурной стороне своей женской творческой индивидуальности и вообще, интересоваться проблемами эволюции еврейско-американского женского культурного опыта — реального и художественного. В 1997 году вышел роман Джонг под знаменательным названием «Воссоздавая память». Это своего рода семейная сага четырех поколений еврейскихженщин, охватывающая период с конца XIX и до первых десятилетий XXI века, но одновременно, и ироническая история Нового Света, переписанная через призму частных историй героинь романа. Мы знакомимся со сбежавшей в 1905 году от погромов за океан Сарой Соломон, ставшей вскоре знаменитой художницей, и через нее — с особой атмосферой Нью-Йорка рубежа веков — совершая головокружительные переходы из благопристойного англосаксонского верхнего Ист-Сайда в буйный, почти по-европейски богемный, анархистский и еврейский Вест-Сайд. Дочь Сары — писательница Саломея — уже целиком дитя американского «Века Джаза». Она общается в Париже с Генри Миллером (лично знакомым самой Джонг, опубликовавшей недавно биографию писателя) и четой Фицджеральдов, Пикассо и Гертрудой Стайн. Ее известная в мире музыки дочь Салли принадлежит уже следующей эпохе — 60-м, принесшим с собой не только славу, но и новую свободу, неслыханную распущенность, наркотики, сексуальную революцию. Круг замыкается на последней девочке — правнучке Сары и ее тезке. Именно ей предстоит восстановить в Совете Еврейской Истории Нью-Йорка свою семейную генеалогию, это она вместе с автором станет задумываться над природой памяти, над хрупким и своенравным процессом пересоздания нами своих предков, своеобразной ассимиляции прошлого, необъяснимо и неотвратимо влияющих на будущее.
В весьма остроумном эссе «Как я стала еврейкой»24 Джонг и вовсе недвусмысленно заявляет о своем сознательном возвращении к еврейским корням и особой, в ее случае — манхэттенской, абсолютно светской еврейско-американской традиции. Это не только ретроспективное размышление о судьбе и месте еврейского творческого начала в контексте американской культуры, но и вполне сознательная попытка выделить неожиданные параллели, перехлесты, точки совпадения в развитии еврейского и американского творческих сознаний, о той зыбкой дискурсивной грани, которую постоянно приходится пересекать авторам, подобным самой Джонг, об игровой и серьезной смене перспектив и последовательном «очуждении» то еврейской традиции, то американской, из которых и рождается несинхронное, противоречивое внутри себя еврейско-американское творческое пространство, само существование в котором — довольно сложное испытание для любого писателя.
Сказанное выше во многом справедливо и в отношении творческой эволюции южанки Бобби Энн Мэйсон, знакомой русскому читателю по роману «Там и здесь». Только в ее случае женское начало вступает в диалог соспецифически южным онтологическим и эстетическим модусом, что рождает своеобразный вариант достаточно усложненной гендерно-региональной маргинальности. Речь идет в частности о романе «Хохолки» (1993). Мэйсон создает странную, жутковатую, гротескно-готическую историю, перекликающуюся с романом У. Фолкнера «Когда я умирала» и упоминавшимся рассказом Ю. Уэлти «Дева Охра, краснокожая изгнанница». Жизнь Кристианы Уиллер рассказана в нескольких эпизодах, обозначенных автором лишь лаконичными фразами и датами, несущими, однако, большую смысловую нагрузку для внимательного читателя, знакомого с «подводным течением смысла», характерным для южной литературы. Автор явно ведет диалог с южными писателями (и писательницами) предшествующих поколений, переосмысляя их достижения, отталкиваясь от них, но и предлагая характерно женский и при этом не соответствующий ни одной из архетипических южных женских ипостасей вариант южного потока сознания, посредством которого предстают ощущения, воспоминания, мысли поэтичной, одухотворенной, полной оптимизма и радости жизни, несмотря на бедность, забитость и лишения героини. Не случайно Мэйсон начинает свой рассказ с главы «Рождение — 26 февраля 1900 года», описывая на сорока страницах тяжелые роды Кристи и рождение ее пяти близнецов. Прежнее существование героини доносится до читателя в многочисленных временных отсылках в прошлое во второй части романа, названной «Страсть — 1890 —1899», но событием, определившим ее жизнь и будущее, тем пресловутым южным «повторяющимся событием», к которому кругами сходятся все нити повествования, остается рождение близнецов, их скорая смерть и дикое в своей несообразности путешествие, которое Кристи предпринимает вместе с мужем, став жертвой циничных дельцов, воспользовавшихся их несчастьем, бедностью и неискушенностью. Чудовищность этого вояжа по городам и весям южной глубинки начала XX века, с выступлениями и лекциями в театрах и концертных залах, с демонстрацией любопытной публике набальзамированных трупов младенцев в стеклянных гробиках, на которых Кристи долгое время не может взглянуть, в метафизическом ужасе от их неизменности, от ощущения противоестественности происходящего, от сознания того, что они — застывшая и навсегда мертвая часть не только ее плоти, но и ее самой — тщательно представлена писательницей возможно более объективно и беспристрастно, от чего эффект ужасного лишь усиливается. Мэйсон виртуозно проникает в сознание героини, не уступая в этом смысле Фолкнеру, а в какой-то мере даже превосходя его, благодаря особой женской перспективе, придающей всемуповествованию не только своеобразную аутентичность, наполняющую метафизический конфликт пугающей плотью реальности, но и лишая внешне стабильную нарративную структуру привычных для западного патриархального дискурса точек отсчета.
Последние две части романа, обозначенные Мэйсон 1937 и 1963 годами соответственно также в определенной мере отталкиваются от эстетики южного повествования, обыгрывая ее, однако, в специфически женском смысле. История близнецов, рассказанная постаревшей героиней незнакомой женщине в поезде, звучит теперь совсем по-иному, оказывается максимально очужденной. Кристи говорит так, словно рассказывает не о себе, а о ком-то другом. Объективация сказа в данном случае лишь символизирует объективацию для нее самой той части жизни, с которой кажется, наконец, сумело справиться ее сознание. Заключительная часть романа «День рождения 1963» представляет читателю девяностолетнюю Кристи, размышляющую о прожитом на пороге смерти. Здесь типично южный путь преодоления, «победы в поражении» несомненно окрашивается Мэйсон и женскими обертонами. Опорой в нелегком пути героини ей служит очень немногое — природа, простые человеческие чувства, семейные связи, мир женских занятий и солидарности, не тронутые губительным влиянием непонятного ей наступившего XX века. Он словно проходит мимо Кристи, искусственно застывшей в своем развитии на магическом для нее 1900 годе, перекорежившем всю ее дальнейшую судьбу. «Я не хочу доживать свои дни, согбенной под тяжестью воспоминаний, — говорит она, — «я хочу смотреть, как восходит солнце, слышать курицу, кудахчущую над только что снесенным яйцом, чувствовать, как мурлычет под моими пальцами котенок. Я хочу видеть стайку дроздов, вьющихся над полем. Все это ново, всякий раз, когда оно случается»25.
Важно отметить, что в последние годы происходит активное развитие так называемого «мультикультурного феминизма», что связано с гибридными формами репрезентации и культурного порабощения. Существенный, но не основной для западного феминизма феномен «сестринства» и женской дружбы, как способа выживания во враждебной среде, упоминавшийся выше, в мультикультурном варианте женского пограничья выходит на первый план, хотя и не умаляет важности личностного самовыражения. Правда, часто оно возможно лишь посредством приобщения к особому женскому миру и, условно говоря, женской субкультуре. Пересечение различных модусов культурного порабощения в мультикультурном варианте феминизма обретает центральнуюроль. Примером может послужить балансирование афро-американских писательниц между точкой зрения «белого» феминизма, согласно которой они страдают прежде всего в тендерном смысле, и активно навязываемым им мнением мужской части афро-американской общественности, утверждающей примат расового подавления над сексуальным. Результатом подобного размежевания и гибридности стали в последнее время некоторые новые синкретические формы феминистического мультикультурного дискурса или «этнического культурного феминизма», по словам исследовательницы К. Динард26. Культурный контекст здесь не случайно приобретает особое значение. В этом смысле предложенный Элис Уокер «вуманизм»27, как заменитель феминизма, это своего рода попытка избежать дуальности — либо политический феминизм и отмежевание от этно-расовой субтрадиции, либо патриархальность этнического толка и забвение собственного женского начала. Имеет место и размывание границ между феминизмом как таковым и постколониальными, неомарксисткими, культурно-критическимиисследованиями. Внутри феминистического дискурса мультикультурный феминизм также представляет собой пограничное явление и, подобно другим пограничным феноменам, стремится в последние годы потеснить «центр» (в данном случае, традиционный, «белый», гетеросексуальный феминизм).
Женское пограничье многократно пересекается с проблематикой «пограничья» как такового, более того, пограничье особенно органично женскому мировосприятию, причем в своих гибридных, а не культурно-экстремистских формах выражения. Не случайно поэтому, писатели, о которых обычно идет речь в связи с «пограничьем» — в основном, женщины.
Хотелось бы остановиться на весьма характерном для современного «белого» гомосексуального женского дискурса произведении Риты Мэй Браун — ее нашумевшей «автобиографии» «Джунгли Рубиновых плодов»28. Дебют Браун — обманчиво простая, едва ли не «детская» книга, кажется, без намека на манипуляторство и притворство. Однако, это не совсем так. Несмотря на неприятие, с которым естественно сталкивается, как всякий представитель сексуальных меньшинств, в обществе и в семье автобиографическая героиня Молли Болт, сама она предстает цельной и гармоничной натурой, не пытающейся скрыть от мира и себя свое подлинное «я», а процесс взросления Молли связан не столько с изменением идентичности или созданием новых ее вариантов для мира окружающего и внутреннего, сколько с ее постепенным знакомством с разнообразием реальности и попытками найти в ней и свое место. Это не типичная история гомосексуалиста,болезненно переживающего необходимость поведать миру о своем «пороке», поскольку процесс обретения определенной идентичности, в том числе и сексуальной, представлен Браун как вполне естественный, «нормальный», такой, каким могло бы быть открытие эроса у среднего, обычного, с точки зрения окружающих, человека.
Скрытая (мнимая, потерянная) идентичность, внезапно обнаруженная носителем, — часто повторяющийся момент в литературе пограничья. Обращается к этому приему и Браун, сразу же начиная рассказ о себе с утверждения, что «никто не помнит своего детства. Матери рассказывают нам какими мы были в младенчестве и раннем детстве в надежде, что мы не забудем прошлое, когда они целиком управляли нашими жизнями, и тайно рассчитывая, что мы включим их в наше будущее. Я ничего не знала о своем прошлом пока мне не исполнилось семь лет.и один из чумазых детей не сказал мне, что я ублюдок». Приемная мать Молли не преминула повторить ей это и постараться убедить девочку в собственной неполноценности. Так что Молли во многом формирует свою идентичность назло, от противного, наоборот, отрицая свое «женское» начало, как неудобное, неприспособленное для ее неуемного духа, и форсируя нетипично женские стороны своей натуры. Рассказ героини о детстве в целом хрестоматиен для литературы «пограничья», особенно для его «розово-голубого» варианта. Интеллектуальное развитие Молли и ее поведение с детства не соответствуют ни окружению, ни социальному слою, ни той заранее предназначенной роли, которую она должна играть в обществе (даже в детской игре ей не разрешают быть доктором, ведь она девочка, не говоря уже о возможности учебы в колледже). С детства Молли чувствует свою чужеродность семье Болтов — блондинов немецкого происхождения, которые даже внешне словно отторгают смуглую брюнетку Молли. Сорвиголова, целый день носящаяся с мальчишками по улицам, она своими не всегда невинными проказами напоминает современного Гека Финна, который к тому же, узнав о своем не совсем приличном происхождении, а также деликатном отличии от других, принимает это известие не с ужасом, не с ощущением вины, страшной тайны или даже попытками самоубийства, как это делал бы стереотипный герой-гомосексуалист, в духе персонажей Карсон Маккалерс или Т. Уильямса, но совсем иначе, ломая устоявшийся стереотип как южной, так и гомосексуальной прозы. Вспоминая о детской дружбе, а затем и сексуальных отношениях с кузеном Лероем, повзрослевшая Молли размышляет о том, что грань между мужским и женским началом очень зыбкая и условная и потому, еепредставление о норме имеет столько же прав на существование, сколько и мнение окружающих. Будучи сильной личностью, героиня романа Браун не страдает от собственного одиночества и даже намеренно подчеркивает его, как идеал: «У меня никогда не было ничего общего ни с кем — у меня не было матери, отца, корней, биологических реплик, под названием братья и сестры. Я не хотела иметь мужа, и семью, и убогое счастье. Я хотела идти своим путем».
Даже в этой, казалось бы, вполне «искренней» автобиографии есть недоговоренности и смысловые лакуны — так, героиня не объясняет прямо но только намекает нам на то, что ее свободолюбие и нежелание притворяться и идти на компромисс делают из нее лесбиянку скорее, нежели биологическая предрасположенность. В отношениях с женщинами она ищет прежде всего свободы, верности, честности, отсутствия желания использовать партнера и подчинить ее своей воле, или еще того хуже — купить, «как сумочку от Гуччи или дорогое пальто». Именно с подобным отношением ей и приходится столкнуться очень скоро, когда героиня, следуя достаточно стереотипному повороту сюжета, убегает в большой город — Нью-Йорк, по ее понятиям, рай для «маргиналов» всякого рода. Жизнь в Нью-Йорке, представленном снова глазами Молли, то есть с едва заметными, но ощутимыми для повествовательной ткани смещениями в восприятии привычного мира, очужденного ее представлением о норме, становится своеобразным отрезвлением от юношеских иллюзий. Это ее ироничными глазами мы видим сцену в издательстве, куда девушка устроилась на работу: вспомнив давние детские проказы, она подбрасывает нелюбимой ею секретарше в письменный стол полный пакет тщательно собранного по всему Манхеттену собачьего дерьма, а ее изысканный и образованный босс, издающий книги по искусству и культуре древних цивилизаций, немедленно решает, что подобное могли совершить только «нецивилизованные» пуэрториканцы из упаковочной. Окружающий мир для Молли очужден и странен, поскольку рассчитан на гетеросексуальность как норму (реклама, например, всегда играет на гетеросексуальных импульсах, чем и приводит Молли в ярость, как и необходимость ходить на работу в «женских доспехах» и вести себя согласно женскому стереотипу). Воспринимавшаяся поначалу как утопический идеал, гомосексуальная коммуна или сообщество постепенно обретает для героини свои реальные и весьма непривлекательные очертания. В этом смысле ее автобиография весьма напоминает произведения геев, скажем, известный роман Эдмунда Уайта «Забывая Елену», в котором островрай, писанный с Нью-Йоркской гейской общины 70-х, предстает жестокой, далеко не идеальной моделью — слепком с гетеросексуального сообщества.
Маргинальность самой Молли делает ее чувствительной к подобному же положению других людей — именно поэтому в романе не раз подчеркивается лояльность Молли к афро-американцам (встреча с гомосексуалистом Кельвином и с будущей партнершей Хоули, о которых лишь вскользь говорится, что они были удивительного, великолепного цвета «кофе с молоком», так что читатель догадывается об их расовой принадлежности). Сострадание и уважение к различиям не случайно становится в итоге жизненным кредо Молли. Она учится принимать других со всеми их недостатками, и надеется, что и ее так же примут окружающие.
Даже в этом автобиографическом романе Браун не ограничивает мира и духовных поисков героини традиционными проблемами нетрадиционной сексуальной ориентации, расширяя горизонты книги за счет иных элементов, в том числе и «южного комического» начала, мастерски обыгрываемого ею во всех последующих произведениях. Темы обретения идентичности и нахождения своего «я» в мире решаются автором вполне сознательно, как универсальные — отчуждение от ближайшего окружения и его ценностей и представлений о жизни, поиски любви и признания, необходимость быть понятым и принятым и потребность отстоять свои права — человеческие и женские — все это, безусловно, не только гомоэротические темы.
А вот перед нами еще одна нетрадиционная «дама» — в льняных шортах и теннисных туфлях. Ей 67 лет и она разъезжает в синем Джиппе, слушая Барбару Стрейзанд и распивая «кровавые мэри» под лозунгом Билли Холлидея «Кури, пей и никогда ни о чем не думай !» Это Виви Эбот Уокер, героиня романа луизианской писательницы, актрисы и сценаристки Ребекки Уэллс «Божественные секреты сестричек Йа-Йа» (1997)30 Книга явно выбивается из ряда многих феминистских откровений последних лет. Но вместе с тем, это и очень женский роман, не в смысле своей рассчитанности на женскую аудиторию или обилия мелодраматических клише, но в смысле присутствия совершенно естественной женской перспективы и глубоко антипатриархальной (или скорее, внепатриархальной) точки отсчета. Мир романа Уэллс — абсолютно и совершенно женский мир, своего рода утопия, как и «вселенная» Виви, где она — центральная планета, и куда не включены мужчины, к которым героини относятся «как к боссам, дуракам, любимым, но ни в коем случае не как к друзьям». Патриархальный, мужской мир существует отдельно и вне женской вселенной, на ее задворках, быть может, он и непринижается и не обличается автором, в книге ведь нет навязчивых рассказов о патриархальной власти и порабощении, но мир сестричек «Йа-Йа» вполне самодостаточен и без него. Женская дружба и единение в романе становятся центральной метафорой выживания (подобно тому, как это происходит в мультикультурном феминизме), хотя преломляются, естественно, несколько иначе, нежели в афро-американских или «чикана»-откровениях.
Для Виви Уокер выживание оказалось возможным лишь благодаря сестричкам «Йа-Йа» — ее подругам Каро, Неси, Тинзи, дружба с которыми длится вот уже 50 лет. Секрет их единения, в результате которого амазонки «Йа-Йа» и их дети превратились в «особое племя, маленькую примитивную матриархальную деревню» и пытается разгадать сорокалетняя дочь главной героини, театральный режиссер Сидали, обращаясь к старому и испытанному южному способу — воссозданию прошлого.
Повествование Уэллс при этом внешне отвечает принципам мужского, патриархального дискурса, в отличие от жанрово и дискурсивно гибридной «биомифографии» талантливой писательницы Карибского происхождения Одре Лорд «Зами, новое написание моего имени» (1982) или даже популярных романов Эрики Джонг, о которых говорилось выше. Но хрестоматийные образы «южных красавиц» подвергаются здесь весьма значительным изменениям изнутри, причем присутствует и «стереотип» (в поведении, взгляде извне, со стороны), и внезапно открывающаяся глубина настоящих чувств, настоящих множественных «я», порой — бездна отчаяния и пугающей раздвоенности Виви, задыхающейся в тисках луизианских условностей и навязанной ей однозначной женской роли жены и матери. Мужское — лишь обрамление для «рациональной» повествовательницы, а то, что внутри — волшебный мир Йа-Йа, который она знала в детстве, и к которому теперь пытается вернуться, каким бы болезненным для нее это не оказалось, — это принципиально иррациональный мир, близкий к земному началу и основанный на южной и одновременно женской смеси любви и ненависти. При этом любовь относится к группе понятий, которые Уэллс «разрушает», выводя за рамки патриархального дискурса. Ее роман — книга о любви, о том, как трудно учиться любить и прощать. Но традиционно эротический элемент стереотипного любовного романа лишается центрального места и, по существу, выводится автором прочь, в то время как внутренне близкие женскому дискурсу темы доверия, нежности, прощения, материнской любви, сестринства и женской дружбы напротив, оказываются на первом плане.
Приобщение Сиды к тайне более чем кровного единения ее матери и подруг, ощущение собственной принадлежности ко второму поколению «Йа-Йа» —залог ее успешных поисков собственного «я». Характерно, что эти поиски ведутся не в американской традиции, даже не в южном этосе в традиционном понимании (ведь южная история фактически «переписывается» сестричками «Йа-Йа» по-своему, что особенно наглядно видно в эпизоде с выходом фильма «Унесенные ветром», отраженным в переписке подруг и ставшим своеобразной символической точкой соприкосновения и передачи опыта от матери к дочери), но в наиболее простых, естественных, предельно лишенных социального или идеологического измерения, женских прежде всего взаимоотношениях.
В мифологии сестричек «Йа-Йа» переплелись католичество и вуду, придуманное «индейское» племя Йа-Йа и Дева Мария, сидящая свесив ноги с месяца, привычные южные стереотипы жизни представительниц высшего сословия и антиюжная глубинная сущность сестричек «Йа-Йа». Их дружба и единение предстают перед нами в ярких, чувственных образах — воспоминаниях, письмах, дневниках, гербариях, лоскутках бальных платьев и почти выветрившихся духах — в особой «религии», даже в языке, выдуманном четырьмя подругами, посредством чего бывшая луизианка Сида вновь приобщается к миру своей матери, ее подруг, учится любить, быть дочерью, женщиной, а затем и просто человеком. Феномен женской дружбы и «сестринства» тем самым накладывается на процесс обретения заново матерью и дочерью взаимопонимания, рождая особое повествование о женской сути, в котором утопия внепатриархальной реальности сливается с утопией южного микрокосма, создавая сказочную, ирреальную атмосферу.
Затронутые выше несколько книг — лишь немногое из того богатейшего наследия, которое составляет «женское пограничье» в современной американской литературе. Наиболее интересные его формы — несомненно те, в которых тендерная проблематика накладывается на иные элементы маргинального сознания, прежде всего, этно-расовые, выступая своеобразным фоном, порой уходя в стиль, даже становясь общим местом. На некоторых из наиболее интересных проявлений подобной гибридной маргинальности я остановлюсь ниже.
Проблемы культурной и личностной репрезентации. От «идентичности» к«индивидуальности».
Для большинства литературных субтрадиций, как тех, которые сегодня лишь обретают свое место внутри многосоставного поля американской словесности, так и тех, которые уже на протяжении довольно длительного времени существовали в ней или рядом с ней, идентичность и связанная с ней более широкая проблематика культурной репрезентации приобретают важнейшее значение.
В революции идентичностей конца XX века проблема репрезентации выдвигается закономерно на первый план, причем, как в своем теоретическом аспекте, так и в конкретных культурно-политических вариантах распределения власти и влияния в современном обществе и культуре. Не случайно, средства репрезентации — от телевидения и газет до академической среды и литературы — становятся ареной особенно ожесточенных культурных битв. Западная традиция либерализма, связанная с риторикой Просвещения и строившаяся на идее признания равных прав отдельных индивидов (или различных классов), сводит проблему репрезентации, главным образом, к расширению сферы признания (сегодня эта традиция по-прежнему лежит в основе политико-культурных теорий упоминавшихся выше либеральных мультикультуралистов, в частности, Чарльза Тейлора, написавшего в 1992 году книгу «Мультикультурализм и политика признания», вызвавшую активные дебаты и неприятие мультикультуралистов протеста). Репрезентация в том смысле, какой в нее вкладывают многие современные теоретики американской культуры, в отличие от простой идеи признания, которая к тому же несет некий хотя бы остаточный оттенок превосходства того, КТО признает, кому даровано такое право, идет несколько дальше по пути приближения к возможной объективности, помещая ключевые вопросы политики идентичностей, власти, контроля и познания в более широкий и децентрированный контекст. Основной единицей в современных теориях репрезентации, представленных в работах Г. Жиру, Г. Джея и др., оказывается поэтому уже не просто индивид, и не межличностные взаимоотношения, но скорее отношения культурных групп, также имеющих и реализующих свое право на репрезентацию. Если «признание» оперирует в сфере закона, норм и сугубо политических прав, то «репрезентация» касается в современном употреблении сферы культурной скорее, нежели сугубо политической, по существу становясь набором культурных практик. Таким образом, проблема репрезентации может бытьрассмотрена на многих уровнях, начиная с метатеории и заканчивая сугубо практическими, материальными, экономическими и политическими сферами. При этом, знаковые системы, к которым прибегают различные культурные группы с тем, чтобы быть представлены в культурно-политическом смысле, основываются на определенной риторике, сюжетах, символике, идеях, аллюзиях, и умелое или неумелое их использование и определяет в конечном счете успех или неуспех репрезентации в семиотическом смысле. С другой стороны, материальный аспект, а именно, система средств репрезентации, таких как медиа, церковь, образование, культурная индустрия и т.д. также заметно влияют на конечный результат в борьбе за сохранение старых или новые принципы репрезентации.
Грегори Джей в книге, посвященной анализу роли и места современной американской литературы в культурных войнах последних десятилетий, так характеризует эту особенность: «Литература — прекрасная сфера для практической проверки идеалов и противоречий репрезентации, потому что она занята главным образом изучением и пересозданием идентичностей и различных возможностей самовыражения. Не случайно, поэтому репрезентация стала ключевым понятием едва ли не всей литературной критики, начиная с 60-х годов. Теперь спорят не о том, что представляют из себя, но скорее о том, как и посредством чего представлены те или иные явления и понятия. Средство выражения часто становится важнее самой выражаемой идеи или вовсе подменяет ее»1.
Проблемы политической репрезентации, которые нередко ставятся во главу угла в многочисленных спорах по поводу мультикультуры и мультикультурализма, часто заслоняют собой культурную репрезентацию, являющуюся гораздо более сложным и противоречивым феноменом, выходящим на первый план в произведениях писателей «пограничья», в противовес 60-м годам XX века, когда риторика политического манифеста оказывалась нередко столь самодовлеющей, что лишала литературу и искусство неких важных, изначально свойственных им качеств, в том числе и чувствительности к многосмысленности и неоднозначности «плавающего» понятия «идентичности», многоликих «я», не сводимых к одному смыслу, единственному образу, наконец, осмысленных уже сравнительно недавно «шизофренических дискурсов» и связанного с известной книгой М. Фуко болезненного интереса к сумасшествию и маргинальное™2.
Мультикультурализм, как говорилось выше, представляет собой, помимо всего прочего, определенную, пока еще достаточно аморфную,идеологическую основу для новой модели репрезентации, в которой претензии на «представленность» основаны на культурной идентичности различных групп и субтрадиций, а не на личностной, индивидуальной стороне, как это было принято в западной традиции и в культуре США ранее. Однако, литература в лучших своих проявлениях, не соотносится столь однозначно с политикой, в том числе и культурной. Она просто не способна существовать долгое время, опираясь лишь на групповое сознание и ставя себе главной целью защиту и выражение его интересов.
В этом смысле, до самого недавнего времени как в американских, так и в отечественных работах было принято различать «западную» или либеральную модель репрезентации Новейшего времени, основанную в целом на индивидуализме, и особый тип образности (характерный в основном для незападных культур), связанный с групповым, общинным сознанием, фольклорными корнями, мифологическим мировосприятием. Условность этой дихотомии достаточно очевидна, кроме того, в ней явно не учитываются все возможные промежуточные варианты между западной и незападной моделями, «гибриды», действительно пограничные феномены, которые, очевидно, и представляют особый интерес и наиболее характерны для сегодняшней культурной ситуации. Подобная «разрушающая» само наполнение понятия эволюция свойственна практически всем так называемым «этническим литературам». При этом путаница в понимании устаревшего и расплывчатого термина «этнические литературы» — то предельное его расширение (по существу, подмена им понятия поликультурности, совсем не ограничивающейся этническим элементом), то напротив, стремление жестко установить раз и навсегда историческую и культурную привязку этого явления, возвести стену между западной и незападной моделями мышления и художественного претворения действительности, весьма характерны для современных интерпретаций, причем, и на Западе, и в нашей стране.
Следы внутренних неразрешенных противоречий, с которыми неизбежно сталкивается исследователь, пытающийся определить методологические и онтологические основы интерпретации этно-расовых субкультур в современном контексте заметны, в частности, в работе А. В. Ващенко «Америка в споре с Америкой»3. Автор, прослеживая историю возникновения термина «этнические литературы» и объясняя их отличие от национальных, закономерно сталкивается с типичной дилеммой, камнем преткновения в спорах многих американских мультикультуралистов экстремистского толка и их европоцентристских противников, объясняющих ту или иную «этническую»литературу только исходя из этноса, сознательно стремящихся оценить ее лишь в ее собственных категориях — не зависимо от того, какова их цель — принизить «этническое» как странность, аномалию, маргинальность, или, напротив, возвысить, как высший смысл, недоступный «белой», нулевой культуре. «Нередко ключом к пониманию художественного языка служит для нас знание принадлежности автора к тому или иному этносу», — пишет А. В. Ващенко, и далее : «Владение двумя, а то и тремя культурами (своей и чужой, внутри которой живешь) усиливает художественный потенциал автора.» (3; стр. 16). Далее говорится даже о создании некой особой поэтики и о якобы существующей однородности в стилистике и эстетическом коде этой литературы, а в последующем анализе собственно художественного материала, автор, по видимому намеренно, ограничивает поле своего интереса произведениями, действительно основанными на традиционных мифологиях, фольклоре, циклической модели времени (вечности мифа), противопоставляя их западным повествовательным парадигмам. Но даже ограничиваясь лишь авторами-традиционалистами4, исследователь неизбежно подходит к необходимости задуматься о том, чтобы сменить термин «этнические литературы» и «этнический плюрализм» на более широкое понятие, описывающее не только этническую культуру как таковую, но и ее сложные взаимосвязи с постмодерным культурным контекстом и национальной традицией. И даже, предпочтя ограничить свое исследовательское поле этно-расовой спецификой, он закономерно обращает внимание на многообразие ее проявлений, а не на подразумеваемую по инерции, весьма условную и мифическую гомогенность в поэтике и наборе художественных средств, которая легко развеивается при ближайшем рассмотрении творчества хотя бы нескольких современных писателей, традиционно относимых к этническим литературам.
Типичным американским примером резкого противопоставления и размежевания западной и незападной (в данном случае, афро-американской) традиций, является довольно известная статья критика Джеймса Оулни5 об автобиографических традициях — западной или «белой» и афро-американской, прослеживаемой исследователем еще со времен мемуаров беглых рабов и до самого недавнего времени. Примеры, которые выбирает Оулни для подтверждения своей реверсивно-расистской теории, явно тенденциозны и не всегда удачны. В частности, он сравнивает автобиографию Ричарда Райта «Чернокожий мальчик» и книгу Юдоры Уэлти «Так начинается писатель», подчеркивая коллективный тип художественного и культурногоопыта, лежащий в основе афро-американской биографии, и сугубо индивидуально-личностный, определяющий специфику западного модернистского повествования об обретении писательского «голоса», который представляет собой «биография» Уэлти. При этом Оулни естественно игнорирует как те варианты афро-американских биографических повествований, которые не соответствуют его модели (это касается, в частности, творчества многих писателей и особенно писательниц более молодого поколения — Элис Уокер, Глории Нейлор, Одре Лорд, М. Клифф и др.), так и групповое и мифологическое начало, которые могут присутствовать в автобиографиях, считающихся традиционно западными. Это дихотомическое упрощение ведет снова к размежеванию, к приклеиванию ярлыков, к неадекватной интерпретации культурных реалий, в которых зачастую перемешаны элементы различных традиций и онтологических и эстетических моделей.
Однако, появляется все большее число критических работ, отходящих от полемики в духе 60-х и возвращающихся к идее о том, что литература, даже в наиболее строго понимаемом этническом варианте, по-прежнему занята прежде всего человеческой личностью, которая почти всегда совмещает в себе несколько противоречивых идентичностей, не сводимых к утопическим и излишне простым схемам и идеалам, к категориям группы, класса, этноса, пола, не поддающимся однозначной классификации, и лишь авторская индивидуальность, его особый голос и узнаваемый стиль, складывающиеся из множества порой противоречивых элементов, способны определить творческое лицо писателя.
Именно подобным образом скорректированное представление о различных пограничных явлениях внутри американской культуры и занимает практически всех современных исследователей, так или иначе связанных с проблемами определения национальной традиции, ее единства и разнообразия, а также взаимосвязей с другими традициями и субтрадициями. Не случайно, идентичность стала довольно привычным аспектом или категорией не только размышлений о культуре, но также и сугубо литературоведческих исследований, сегодня впрочем все чаще выходящих за строго филологические рамки. В 1995 году в США была опубликована своеобразная энциклопедия под характерным названием «Американское разнообразие. Американская идентичность»6, в которой представлены 145 авторов, относящихся к разному времени, разным традициям, чей «хор» и призван, по замыслу создателей, определить, что есть американец сегодня икак «национальное» в его идентичности переплетается с «групповым» и субкультурным. Особенно симптоматичным мне представляется стремление авторов к предельному расширению принципа «американского разнообразия», куда они включают «не только этно-расовую специфику, но и варианты осмысления национальной истории, особенности эволюции регионализма, а также такие понятия, как разнообразие в «стиле жизни», специфический опыт американского экспатрианства, военный опыт и т.д., хотя согласиться с конкретным предложенным ими делением авторов на группы не всегда возможно, особенно в той его части, где перечислены писатели, по мысли авторов, имеющие право претендовать на уитменовское стремление представлять всю Америку7.
В несколько ином, на мой взгляд, более оправданном и конструктивном смысле подошли к этой проблеме создатели другой антологии «культурного многообразия» под названием «Американские идентичности. Современное мультикультурное многоголосье»8, выделив в понятии идентичности не групповое, но личностное начало, то есть совершив круг, введя внушительное число новых явлений, имен, вернулись в итоге к тому, чем литература (и литературоведение) занимались всегда, при этом учтя и обретенный в процессе расширения и утверждения многообразия и многосоставности, как онтологического и художественного принципа, порой неожиданный опыт. «Писатели всегда находились в поисках идентичности — той или иной — здесь ничего нового не произошло, — объясняют создатели антологии — Джей Парини и Роберт Пэк — «Региональная идентичность была, пожалуй, самым первым выражением того культурного настроя, который процветает теперь под именем «мультикультурализма». Немногие из авторов хотели бы, чтобы на них навесили ярлык — «южный», «еврейский», «гомосексуалист». Литературная идентичность (в данном случае, как раз та самая «мультикультурная персона», о формировании которой мы говорили выше — М.Т.) — к счастью, вещь неоднозначная. Никто, конечно, не в состоянии избежать обусловленности своей позиции классом, полом, расой, этносом и другими факторами, но каждый писатель вправе выбрать свой, особый элемент, который и придаст его литературному стилю «индивидуальность», создаст его литературную идентичность. Можно, конечно, провести всю жизнь в попытках переосмысления или отторжения собственных расовых, этнических или классовых корней, но все большее число авторов сегодня пытаются напротив, обратиться к собственному реальному прошлому, к тем «родным» культурам, что их сформировали, считая, что нельзя перепрыгнуть черезсобственную индивидуальность, но необходимо проработать те сложности и противоречия, что связаны с реальным личным наследием» (8; р. х).
Эта довольно длинная цитата прекрасно иллюстрирует, как в последние годы в США начинает формироваться более взвешенный, сбалансированный подход к проблеме культурной и индивидуальной идентичности и репрезентации, в частности, в сфере литературоведения. По существу, именно здесь, в поле бытования наиболее конкретных художественных реалий происходит спонтанное переосмысление мультикультурного идеала, где акцент смещается на личностный аспект — способность писателей исследовать и осознавать свое индивидуальное происхождение — религиозное, классовое, этно-расовое, региональное, социальное, сексуальное и т.д. и затем свободно идентифицировать себя и с другими «идентичностями» и, в конечном счете, с многообразием окружающего мира.
Современные пограничные писатели, выражающие разнообразие собственного художественного и жизненного опыта, создают из огромного количества совершенно разнородных материалов свое литературное «я», и отделить в нем сознательно и иронически созданные образы от данного судьбой по рождению и культуре/рам порой бывает невозможно. Этих авторов завораживает сам процесс создания и шлифовки подобных «персон». Определение и создание литературных вариантов идентичностей из реальных материалов часто бессмысленной и фрагментарной культуры в современной Америке становится насущной, хотя и практически невыполнимой, потенциально не завершаемой задачей, что, однако, не останавливает авторов в их постоянных попытках вновь и вновь определять себя и свое место в мире.
Говорить об абсолютной уникальности «литературы пограничья» в смысле ее предельной сконцентрированности на проблеме создания и пересоздания идентичностей было бы неправомерно, поскольку в центре практически любого литературного произведения стоит личность героя или автора, и чаще всего внутренняя динамика развития оказывается связана с поисками этой личностью своего «я», его места в мире, взаимоотношений с другими «я». Но в литературе, для авторов и героев которой само это «я» проблематично не только в сугубо личностном плане, но и в смысле восприятия его остальным миром, соответствия или несоответствия его тем образам, ролям, стереотипам, что навязывает ему окружающая действительность, для которых точкой отсчета в формировании этого «я» служат несколько культурных традиций, порой взаимоисключающих, и взаимоотношения с нимине всегда однозначны, проблема обретения, создания, разрушения собственных идентичностей, взаимодействие в них группового и личностного начал обретает дополнительные оттенки смысла, нередко становясь самодостаточной темой.
При этом первым, наиболее непосредственным откликом на проблему осмысления себя как поликультурного сознания, выступают естественно повествования, сконцентрированные вокруг «я» — чаще автора или его alter ego, нежели героя в традиционном смысле (это уже следующий, более «литературный», условный шаг) а окружающий мир является пока лишь фоном, на котором происходит духовное становление личности. Это деление, конечно, весьма условное, поскольку осознать себя вне мира неспособно, наверное, ни одно сознание. Однако, представляется все же целесообразным разделить многообразную «литературу пограничья» на повествования, в фокусе которых находится главным образом эволюция поликультурного «я», и те, в которых авторы (порой это те же самые авторы) идут несколько дальше и переносят внимание с проблем собственной идентификации на проблемы осмысления многообразия окружающего мира, что ведет к созданию различных воображаемых миромоделей и мифопоэтических пространств, наконец, к проблемам осмысления культуры и различных традиций внутри нее. Последних попыток не так много, но тем они ценнее. На них следует остановиться отдельно, а пока обратимся к наиболее многочисленному и типичному для «культуры пограничья» феномену «повествования о себе» или проще говоря, (авто)биографии.(Авто)биографии «пограничья»Понятие «автобиографии пограничья» включает в себя не только сферу жанрового определения, но воспринимается также и как общая тенденция к автобиографичности, сконцентрированности на личном, предельно контекстуальном опыте, в определенном смысле приходящая в противоречие с отмеченным выше стремлением к форсированию групповой, а не личностной идентичности. В большинстве современных интерпретаций автобиографии исследователи разграничивают так называемую «традиционную», западноевропейскую модель автобиографической литературы и различные постсовременные (в том числе и «пограничные») модели автобиографий, построенные на иных принципах. Так, исследователь Джеймс Оулни предлагает несколько туманно назвать пограничные автобиографии«вымышленными», подчеркнув тем самым болезненное внимание их авторов к стереотипам восприятия пограничной личности сознанием мейнстрима, а также, к собственным текучим индивидуальностям и способам их репрезентации, выходящим на первый план в этих произведениях. Исследователи — X. Д. Сальдивар, автор книги «Школа Калибана: панамериканская автобиография» (1991), Б. Ф. Уоксман, занимающаяся проблемой определения специфики этнической автобиографии, Ф. Лионетт, написавшая монографию «Автобиографические голоса» (1989) — активно разрабатывают проблему соотнесения западных и незападных, модерных и постмодерных (авто)биографических традиций, а также особенностей автобиографического пограничного дискурса9.
Интерес пограничных писателей к жанру автобиографии вполне закономерен, как реакция художников, заметно корректирующих общие, зачастую лишенные личностного начала и нежизнеспособные идеалы мультикультурализма и «политики разнообразия». Ни неоуниверсализм, ни упор на групповой, а не личностной идентификации, не способны удовлетворить писателей, чувствительных к проблеме культурной многосоставности. Поэтому и «литература пограничья» сегодня все чаще возвращается к личности, хотя и помещая ее в различные «свои» и «чужие» культурные контексты — от национального и, в некоторых случаях, транснационального, до различных групповых и субкультурных, заставляя ее пройти, порой неоднократно, через процесс «раз-пере-воплощения» и в результате создать определенный набор предсказуемых и неожиданных образов своего «я» в мире в культуре, в современном обществе.
В определенном смысле вся «литература пограничья» представляет собой в той или иной мере варианты переосмысления автобиографии, от предельно «фактографичной», близкой опыту реального человека, стремящегося обнажить, а не скрыть свою сущность, и свести ее к подобию единства, до опять таки предельно «вымышленной», направленной на бесконечное умножение и пересечение текучих индивидуальностей своего субъекта-объекта. Генри Джеймс, размышляя об автобиографии, особенно в ее исповедальном варианте, обратил внимание на обманчивость привилегии «субъектно-объектности», ведущей к расплывчатости точки зрения и нечеткости повествовательной перспективы10. Именно этот «нежелательный» для Джеймса элемент выходит на первый план и всячески культивируется в постсовременной «автобиографии», в том числе и прежде всего, «пограничной».
Привычная и сложившаяся в западно-европейской литературе Нового времени с присущим ей духом самоанализа, индивидуалистическим мироощущением, автобиография, основанная на «западном» понимании духовного становления, духовной истории, проблем поиска идентичности и предназначения (писателя, художника, словом, творческого сознания), как известно, нередко строится по принципу романа становления и имеет референтный смысл. Эту жесткую привязку к одному, определенному аспекту развития личности, как сложившегося к моменту «рассказывания» биографии целого, и теряет автобиография «становления» нового типа11. Сама она является незавершенным, неправильным, «вечно становящимся» текстом, развивая игровой, спекулятивный характер процесса вымысла разных «я» ее автором. Важно иметь в виду, что термин традиционная (или западная) автобиография весьма условен. Ведь жанр автобиографии определяется практически с самого своего возникновения как переходный и пограничный, а отделить автобиографию от воспоминаний, мемуаров, исповеди, а часто и дневников, не всегда возможно, причем наличие «вымысла», стремление дописать или переписать свою жизнь — необходимый момент любой автобиографии, даже наименее литературной и близкой к условной «реальности». Элемент памяти, попытки преодолеть уходящее время и вернуться в детство, юность, прожить жизнь сначала на бумаге также свойственны практически всем автобиографиям, даже «негативистским» — как те, о которых будет идти по преимуществу речь, поскольку стремление забыть или отрицать «прошлое» все равно связано с его воссозданием, пусть и с последующим разрушением.«Патриархальная», «традиционная», «западно-европейская» модель автобиографии (ярлык ее меняется в зависимости от того, что ей противопоставляется — женская исповедь, этническая автобиография или еще некий маргинальный вариант мемуаров) осмысляется прежде всего как история самостоятельного «я», отвечающего за себя и свои поступки в окружающем мире, и чаще всего, хотя и не всегда, противостоящего или противопоставленного этому миру, косвенно утверждая индивидуализм и напротив, «развенчивая» идеал межличностных и групповых взаимосвязей, который нередко без достаточных оснований подразумевается как основной в «автобиографии пограничья».
Истинность репрезентации различных «я» в постсовременной автобиографии вызывает закономерно большие сомнения. В ней ярко проявляется осознание себя (авто)биографией, она становится в наиболееточном смысле слова текстом о своем собственном создании, как и о создании своих множественных «я», удовлетворительно исчерпать возможности выражения которых не способен ни один автобиографический текст.
Постсовременная и в том числе пограничная автобиография обманчива и противоречива. Связи текстуального «я» с реальностью, посредством которых воссоздается образ или эффект реальности, наслаиваются на сугубо литературный, откровенно вымышленный пласт, где несуществующее в реальности «я» создается лишь посредством языка и форсируется осознаваемый автором и, в идеале, читателем эффект правдоподобия, а не реальности. Несмотря на условность и миражность «я» в подобной автобиографии, и ее создатели, и читатели все равно стремятся к наиболее полному воссозданию и восприятию ускользающего, ненадежного, множащегося текстуального двойника реального человека, который и находит выражение в «я» автобиографии, как в откровенно сконструированном, вымышленном литературном феномене. Автобиография становится тогда как бы символической, описанной автором на бумаге имитацией жизни.
Так называемая «этническая» автобиография сегодня стала закономерно популярной темой литературоведческих и культурологических исследований в США. Однако, многие моменты, выделяемые критиками в отношении этнических автобиографий, верны по существу для большинства постсовременных автобиографий, а вовсе не обусловлены лишь этническими особенностями.
Важный момент, объединяющий «автобиографии пограничья» и прежде всего, именно их этнические разновидности — это необходимость писать их по-английски, т.е. на языке когда-то чужом, хотя бы и только символически, и одновременно, учитывать в них и (обще)американское, а порой и общечеловеческое культурное наследие, противостоящее, а в определенной мере и перечеркивающее их собственный «опыт». Это способствует формированию «двойного» (или двойственного) дискурса «маргинальной» автобиографии, которая постоянно балансирует между «мейнстримом» и «иной» культурой, между классическим индивидуализмом и культурно-групповым опытом, между американским английским и различными вариантами языкового выражения (от другого языка или языков до жаргона, диалекта, арго), между «американскими» культурными ценностями и теми, что характерны для определенных субкультурных групп. Этот момент впрочем, касается, не только автобиографий, но вообще всей литературы пограничья. Исследование намеренно ограничено лишь книгами, написанными по-английски, следуя в какой-то мере инерции мышления, по-прежнемуопределяющей национальную культуру единством языка, даже в таком парадоксальном случае, как с Америкой. Выше уже отмечалась важность для культуры США феномена литературы не на английском языке, которая может и должна считаться американской отнюдь не только в культурно-географическом смысле, но и в смысле своей тесной взаимосвязи и диалога с американской символической топикой, системой ценностей, мироощущением и т.д. И здесь набор факторов, влияющих на особенности иноязыковости достаточно широк — от плохого знакомства с английским до сознательной ориентации на неамериканского читателя. Речь может идти соответственно о таких разных феноменах, как творчество В. Набокова и нобелевских лауреатов И. Б. Зингера и И. Бродского, о большой группе латиноамериканских по происхождению авторов, пишущих как по-английски, так и продолжающих творить по-испански. Имеется в виду прежде всего Роландо Инохоса с его циклом романов о мифическом графстве Белкен в Техасе, многие из которых написаны по-испански, или же билингвистичны.«Автобиография пограничья» становится, в определенном смысле, историей о языке (или языках), о сложных взаимоотношениях с ним автора, часто, о чувственном, а не только смысловом восприятии слова. Хотя и этот момент нельзя абсолютизировать, как присущий лишь пограничным автобиографиям, поскольку и вполне «традиционные» мемуары и исповеди изобилуют рассказами о пробуждении чувственного ощущения слова и часто болезненном и остром восприятии взаимосвязи или ее отсутствия между словом и миром, как одном из ключевых свойств рождения будущего автора.
И в традиционных, и в пограничных автобиографиях сохраняется стремление писателя создать в процессе письма новые версии «себя», в случае с пограничными автобиографиями они должны еще и быть тщательно и сознательно вписаны или напротив, отгорожены от культуры «мейнстрима» с тем, чтобы читатель, на ней воспитанный, был способен оценить автобиографический текст в знакомых ему терминах, касается ли это языка, способов выражения, особенностей дискурса. В результате, автор пограничной автобиографии воссоздает, в конечном счете, американскую идентичность, американское «я», пусть и остраненные его особым маргинальным опытом.
В пограничной автобиографии часто превалирует исповедальный элемент, словно она стремится установить близкие, доверительные отношения с американским, причем не только принадлежащим к тому же культурному полю, что и автор, читателем, тем самым пытаясь пробиться к культурному ядру, уйти с «пограничья», отойти от своей «маргинальности». Одной из невсегда явных задач автобиографии «маргинала» поэтому является попытка заявить о себе, как об «американском писателе», выработать, «наговорить», раскрыть свою американскую идентичность. Но и автор, и его «alter ego» при этом постоянно меняют перспективу (само)восприятия с традиционного для американской культуры индивидуализма на по-прежнему тянущие их к себе прошлые реальные и часто воображаемые групповые идентичности, когда вступает в права «голод памяти», страстное желание вновь обладать всем ценностным грузом этнического, регионального, семейного, любого другого опыта, повлиявшего на формирование авторского «я», как определил этот феномен писатель Ричард Родригес в одноименной книге, на которой я остановлюсь ниже. Символическое утоление «голода памяти» способствует отрицанию однородности и стандартизации американской культуры и опыта, одновременно вступая во взаимодействие с историями сугубо американского авторства, и создавая динамические идентичности пограничья «странных» субъектов этих автобиографий.
И все же, на мой взгляд, точек соприкосновения между традиционной и маргинальной автобиографией больше, чем может показаться. По существу, последняя есть продолжение и усложнение первой. В этом смысле особый интерес представляют опять-таки откровенно постмодернистскиеэкспериментаторские автобиографии пограничья, которые большинством исследователей, жестко разграничивающих, скажем, этническую и традиционную автобиографию, либо вовсе игнорируются, либо воспринимаются буквально, так что за скобки выносится их часто фальшивая, обманчивая, пародийная природа. М.М. Бахтин, размышляя о поэтике Ф.М. Достоевского, как известно, писал, что у него «чужие» исповеди, после которых старый жанр исповеди стал невозможен. Раскрылась роль другого, в свете которого только и может строиться всякое слово о себе самом. Раскрылась сложность простого феномена смотрения на себя в зеркало12. Автобиографии с превалирующим исповедальным элементом (а большинство автобиографий пограничья именно таковы, несмотря на нарочитую «фальшивость» исповеди) — это «чужие» исповеди в бахтинском смысле «смотрения на себя своими и чужими глазами одновременно» (12; стр. 346), пересечения двух или более сознаний. Несмотря на предполагающуюся в автобиографии большую зависимость от реального «я» автора, здесь так же действует предложенная Бахтиным логика: «Нельзя предрешить личность, нельзя подчинить ее своему замыслу, нельзя подсматривать и подслушивать личность, вынуждать ее к самораскрытию» (12; стр. 346).
Провести грань между художественной прозой и нехудожественными, но в основе своей автобиографическими сочинениями (в частности, весьма распространенным в культуре пограничья критико-художественным гибридом литературоведческого эссе, философского трактата, публицистики и исповеди) в разнородном и многосоставном корпусе литературы пограничья довольно сложно. Глубоко сокровенное, личностное начало остается основной формой выражения размышлений о культуре и личности, как в художественном творчестве, так и в публицистике пограничья, причем грань между ними оказывается нередко стертой. Это почти всегда рассказ о собственном, часто травматическом опыте. Отсюда часто встречающиеся рассуждения о «невытесненной, саморазрушительной ярости», движущей пером авторов и определяющей поступки героев13 — и прямых «alter ego» писателей, нередко сливающихся с их собственным «я», и предельно вымышленных, откровенно литературных героев автобиографий. Эти «субъекты-объекты» оказываются многосвойственны и действуют в соответствии с логикой двойничества (или пародии на него), причем многократное умножение их индивидуальностей часто приобретает почти шизофренический оттенок, выражаясь в постоянной смене повествования от первого лица на рассказ о собственном опыте в третьем лице, в культурном «рассечении от самых корней», если воспользоваться наглядной метафорой поэтессы Адриен Рич14, так охарактеризовавшей свою собственную фрагментарную идентичность, в которой перемешаны несливающиеся начала — еврейское и южное, лесбийское и антирасистское, феминистское и благополучно-буржуазное. Пример Адриен Рич особенно показателен в смысле попытки концептуализации феномена автобиографического начала в современной многосоставной словесной культуре Америки.
Автобиографическая В ключевой для критико-художественногоэссеистика .«пограничья», как наследия Адриен Рич и важной для жанровый «гибрид». мультикультурных дебатов статье «Рассеченная откорней — эссе о еврейской идентичности» из сборника 1986 года «Кровь, хлеб и поэзия» поэтесса объясняет, что необычное этническое наследие сделало ее судьбу уникальной — отняло возможность считать себя в полном смысле еврейкой, но, несмотря на все усилия родителей научить ее чувствовать себя совершенноассимилированной американкой, не лишило сначала полуосознанных, а затем все более настоятельных стремлений найти этнические, а затем и иные корни и пласты своего рассеченного «я» — женские, лесбийские и т.д.
Метафора рассечения от корней возникла в стихотворении Рич еще в 1960 году, когда она написала о себе, что она «рассечена от самых корней, не еврейка и не арийка, не янки и не южанка»15. Спустя 20 лет, Рич вспоминает, что в то время все еще пыталась «усидеть между двух стульев» и быть «ни тем, и не другим, или всем сразу». Подобно многим авторам с рассеченной идентичностью, Рич считает, что важной и не однозначной в формировании и разрушении ее многочисленных «я» оказалась роль отца, пытавшегося строить собственное американское «я» в соответствии с нормами и жесткими правилами его времени, и стремившегося и на собственную семью наложить эти же правила. Конфликт поколений — вообще постоянная и нередко болезненная тема «автобиографий пограничья». Она накладывается в эссе поэтессы на другую важнейшую проблему — культурной ассимиляции. Рич не может удовлетворить и помочь справиться с ее «рассечением» компромиссное, основанное на этике «плавильного котла» заявление отца, что он оценивает людей не по их национальному или тем более религиозному признаку, что его еврейское «я» подчинено американскому, поскольку она достаточно рано начинает понимать истинную цену подобной «ассимиляции», страх отца допустить собственное соответствие американскому стереотипу «настырного, шумного еврея», иными словами, «отправиться назад в гетто», в тот социальный слой, откуда он с таким трудом выбрался. Рич делает горький вывод об «американской ассимиляции», заявляя, что одним из ее законов является «не дружить с несчастными и представителями более низких социальных слоев — они могут затащить тебя туда, к себе, и ты потеряешь счастливую способность сходить за американку». Подобный выбор предельно суживал тот круг личностного общения и источники опыта, к которым Рич имела доступ в детстве и юности. Родительское стремление выглядеть совершенно ассимилированными, незаметно но надежно отгородившись от всех «других» и прежде всего, «неправильных» евреев, а также афро-американцев, которые, согласно детским представлениям Рич, даже, кажется, попадали на другие, «свои» небеса16, поначалу оказывается слишком сложным для ее понимания, поскольку оно не проговаривается, не разъясняется, но построено на умолчании, на иносказании, нередко эвфемизме. Это одна из ключевых метафор, кочующих из одной «автобиографии пограничья» в другую — молчание, пустота, смысловая лакуна, как символ невыраженной,умолкнувшей, подавленной идентичности. «То, о чем молчат, часто оказывается важнее того, о чем говорят» — объясняет Рич, — и потому невыраженное и недоверчивое ко всему миру еврейское «я» отца сыграло более важную роль в ее взрослении и обретении собственного человеческого, поэтического и женского голоса, нежели многое из того, чему он ее учил на словах. Выживание, как синоним ассимиляции, в данном случае означало «заблокирование и закрывание наглухо одного эмоционального выхода и способа выражения за другим». Хотя в конце пути Рич вернулась к исходной точке, поняв и разделив, наконец, отцовские слова о том, что люди для него не делятся на евреев и негров, для ее «разрезанной» идентичности важным оказался именно тот, свой путь, который она прошла, чтобы вернуться к исходной точке, и совместить, наложить один на другой рассеченные, разделенные фрагменты своего «я», хотя бы и в воображении, а не в реальности.
Характерен для Рич, как и для многих других писателей пограничья, и мотив «отрицания идентичности» или ее определения «от противного», посредством того, чем она не является, который, как упоминалось выше, всегда присутствовал в американской традиции, но в «литературе пограничья» приобрел особый смысл. Словно примеряя на себя разные «я», по ее меткому выражению, «флиртуя с идентичностью», Рич размышляет, что «по еврейским законам она не может считаться еврейкой, потому что ее мать — белая южная леди. По закону «женскому» (лесбийскому), она тоже не может назвать себя еврейкой, так как, по словам Вирджинии Вулф, мы продумываем и вспоминаем себя через наших матерей, если мы женщины.»17. Продолжая процесс разрушения и пересоздания собственных множественных идентичностей, Рич заявляет, что по нацисткой логике, ее еврейские дедушка и бабушка сделали бы ее неоспоримой кандидаткой для газовой камеры, что это она могла написать дневник Анны Франк, но тут же приводит свое воспоминание о детских впечатлениях 1946 года от документального фильма о концлагерях, когда она не могла определить для себя, «свои» или «чужие» люди предстали перед ней на экране, вызвав неудовольствие родителей, стремившихся оградить ее от неудобных, «непринятых» для обсуждения моментов и явлений. Спустя много лет Рич восстанавливает путем анализа навязанное ей в детстве деление на «своих» и «чужих», на «мы» и «они», пытаясь понять его истинные расовые, этнические, классовые, этические корни, утверждая, что ей было очень трудно решить, с кем себя ассоциировать, и это оказалось сложной проблемой для формирования ее «я» в будущем. «Мир, в котором я росла былбессознательно христианским во всем — в музыке, в символах, это была норма. А кроме того, нормой был и белый цвет, и средний класс, и нееврейская идентичность. Простые белые люди могли называть негров «ниггерами», но «мы» должны были говорить — негры. Кто это «мы» и кто, соответственно, «они» мне пришлось понять гораздо позднее». Евреев называли тоже не «евреями», но «людьми иудейской веры», хотя Рич недвусмысленно дает понять, что ей приходилось с детства сталкиваться и с антисемитизмом, пусть хотя бы и в традиционно завуалированных в США и не направленных лично на нее формах антагонистических этнических стереотипов.
Ее положение между и даже вне традиций и символическое «небытие», неравность себе, выразились, в частности, уже во время учебы в школе, когда она играла в постановке шекспировского «Венецианского купца» Порцию, тем самым как бы перечеркнув свое еврейское наследие. Театр вообще — одна из часто повторяющихся метафор «литературы пограничья», постоянно подчеркивающей восприятие жизни как условности, «театральной» реальности, собрания «кажимостей». Несоответствие себя роли — сначала театральной, а затем жизненной — почти навязчивая тема пограничной литературы18. Эпизод с театральной ролью и еще многие другие случаи из своей жизни, к которым обращается Рич, она называет «маленькими предательствами части своего «я», губительными для любой идентичности. Предательство ведет к молчанию, а молчание — к амнезии, одному из важных понятий для Рич — опасному забвению прошлого, исторических уроков, вины, как недопустимой для нее, но весьма характерной черте американской национальной идентичности. Об этом же пишут и другие «авторы пограничья», в частности, индейская поэтесса, писательница, критик Паула Ганн Аплен, которая в статье «Кто ваша мать ? Индейские корни белого феминизма» посвящает исторической амнезии специальный раздел под названием «Корни порабощения — в потере памяти»19.
Постепенно Рич выстраивает и другие составляющие своей «рассеченной идентичности», связанные со следующим этапом обретения и создания себя — годами учебы на Востоке, когда пиетет перед культурным наследием Новой Англии (т.е. традиционно американскими корнями) дополняется и постепенно обретаемой, ранее молчавшей еврейской стороной ее «я», выявившейся в связи с общением с обладателями «нерассеченных», ориентированных на одну, пусть и не вполне нормативную традицию индивидуальностей ее новых друзей. «Правда, — спешит добавить Рич, онитоже оперировали носы и распрямляли волосы, чтобы соответствовать англосаксонским представлениям о красоте»20. Более того, у многих из них были «переделанные», англизированные имена, но Рич занимает на этом этапе сама возможность обладания традицией, наличие хотя бы какого-то смысла взамен пустоты, которая досталась ей самой, и с которой она вынуждена начинать примерку на себя возможных «я» в процессе конструирования собственного.
Сам этот процесс предстает для Рич в виде метафоры роста и «вырастания» из одной ставшей тесной идентичности за другой, их смену, расширение, взаимоналожение. Постепенно в процесс примерки и последовательного отвержения одного «я» за другим все чаще и активнее входит многообразный внешний мир. Поэтому небольшое эссе Рич содержит в себе в сжатом виде как бы основную структурную модель, на которой строится практически всякая «автобиография пограничья» — от рассказа о себе к рассказу о мире, от создания себя к созданию своей миромодели.
Так, она буквально «вырастает», как из ставшей тесной одежды, из вновь обретенной «еврейской» идентичности ортодоксальной семьи мужа, начиная свой путь к женскому самоопределению, смене сексуальной ориентации, и тем самым отвергая обе знакомые ей теперь модели — ассимиляции (отец) и «параллельного» существования рядом, но вне американского мейнстрима (муж). С этим связаны, в частности, и более поздние попытки Рич-совместить новое женское «я» с еврейской традицией21. Практически одновременно с этим процессом происходит и своеобразная социализация ее нового «я», пришедшаяся на 60-е годы, когда открытие ею для себя феминизма совпадает во внутренней эволюции поэтессы со знакомством и активным участием в деятельности движения за гражданские права, размышлениями на тему расизма как и по-прежнему невыраженного даже в ее еврейском «либеральном» окружении антисемитизма. На этом новом витке формирования своего «я» Рич закономерно вновь обращается к проблеме истинного смысла ассимиляции, по ее словам, «американского плана поглощения», который заставляет еще недавно притесняемого — самого стать притеснителем, с тем, чтобы ассимилироваться по принципу «разделяй и властвуй».
Сложная, противоречивая, полицентричная и дробящаяся идентичность, к которой она приходит в результате пройденного пути, естественно требует от ее автобиографии открытой концовки: «Я слишком долгое время смотрела на мир с точки зрения многих, несвязанных друг сдругом перспектив — белой, еврейской, антисемитской, расистской, антирасистской, замужней, лесбийской, среднего класса, феминистской, бывшей южанки, рассеченной от корней — мне никогда не удастся соединить их все воедино», — делает вывод Рич. Подобно большинству создателей «автобиографий пограничья» она понимает, что задача формирования единого и гармоничного «я» — утопия, ведь одна его часть будет неизменно вытеснять другую, и все же, парадоксальным образом, они сосуществуют в неком взрывчатом симбиозе, в котором ассимиляция «по-американски» оставила шрамы, провалы в смыслах, умолчания, опасные для нее самой и для окружающих.«Рассеченная»22 идентичность в случае с Рич осталась таковой до конца, и она ни в коей мере не призывает к отказу от американского, к возвращению к счастливому единообразию одной этнической традиции. В ее случае это просто невозможно. Но пластичность идентификации, постоянная текучесть и способность «влезать в шкуру другого», ставить себя на его место дались ей не путем отсечения всего не относящегося к мейнстриму, но напротив, путем предельного расширения границ восприятия, включения в свою картину мира все более тонких и разнообразных оттенков и обертонов. Авторское видение Рич можно, вероятно, соотнести с идеалом «всемирности» Э. Сайда. Это миромодель, в которой писатель последовательно проходит через открытия своих и чужих «я», в результате создавая новое, «синтетическое», гибридное видение, возможно и не гармоничное, и даже неустойчивое, постоянно балансирующее на грани, но не ограничивающееся ни уходом назад к корням, ни отказом от них.
Пожалуй, самым характерным примером пограничного жанра между собственно автобиографией, эссе о духовном становлении и лирической прозой является известная и важная для формирования дискурса пограничья книга американо-мексиканской писательницы и литературного критика, одной из первых попытавшейся дать определение культурного гибрида (метиски) и самого феномена «пограничья» — Глории Ансальдуа «Пограничье/ Фронтир: Новая Метиска» (1987)23— своеобразный стилевой, жанровый, дискурсивный коллаж, многоуровневый текст, открытый и незавершенный, избыточный и неправильный. В этом тексте особое внимание уделяется моменту совмещения и наложения пограничного «я» (mestiza) на его сферу бытования — культурный фронтир (la Frontera), причем оба эти элемента выступают как равноправные и взаимозависимые. Традиционный литературоведческий анализ этой странной книги почти невозможен — в ней нет сюжета, героев,мало-мальски поддающейся интерпретации структуры или композиции. Однако, те образные кластеры и метаметафоры, из которых складывается пересеченная косыми чертами, рассыпающаяся целостность книги и идентичность ее автора, важны, как попытка определения нового методологического аппарата, того коммуникативного поля, в котором и формируется дискурс разнообразия и риторика «пограничья».
Идентичности «пограничья», которые создает в своем новаторском тексте Ансальдуа, иногда приобретают почти угрожающий характер, напоминая еще одну метафору «гибридности» и «смешанной крови», выделенную как общую для современного поликультурного дебата Эдвардом Саидом. Ссылаясь на работы нескольких ученых (в частности, кубинца Р. Ф. Ретамара, калифорнийского этнолога X. Д. Сальдивара и др.), Сайд предлагает рассматривать в качестве одной из ключевых метафорассимиляции/неассимиляции близкие и понятные западной культуре образы Калибана и Ариэля из Шекспировской «Бури», как символы двух противоположных моделей культурной адаптации. Ариэль в контексте этой метафоры выбирает службу у Просперо, т.е. «ассимилируется», а Калибан напротив, даже будучи поверженным в рабство, остается непокорным и неподвластным до конца магической стихии Просперо. Риторика пьесы Шекспира здесь естественно заметно корректируется, с учетом всех многочисленных существующих художественных переосмыслений этого старого сюжета. Угрожающая «порядку», подспудная взрывчатость и опасность Калибана, который может восстать против власти Просперо, и на которого можно взглянуть и не только с точки зрения последнего, по мысли Сайда, объяснимая, если не оправданная (?) отношением к нему «хозяина», может выразиться, однако, в форме крайнего «нативизма», фундаментализма, экстремизма, характерных для культурных реалий 60-х. Поэтому многочисленные метафоры, связанные с образом Калибана, основаны на попытках осмыслить его не как «зрелище», но как определенный голос, или, постараться сменить образ «другого» как объекта, свойственный западной культуре, на другого как пишущего «субъекта»24.
В книге Ансальдуа образы «пограничья» также угрожают рациональности нормативного окружающего мира — она намеренно лишает своего культурного «маргинала» привлекательности, наделяя его (или скорее «ее», ведь речь идет о «метиске») нелестными, с точки зрения социальной, да и моральной нормы, эпитетами. Ансальдуа называет своих «маргиналов» — «los atravesados» — «людьми с раскосыми глазами, странными,неугомонными, безродными «дворняжками», мулатами и метисами, полукровками и полумертвыми словом, теми, кто пересекает границы, или выходит за рамки нормы». «Пограничье — неопределенное и расплывчатое место, возникающее в результате эмоциональной реакции на неестественную, навязанную кем-то границу. Оно в постоянном состоянии метаморфозы и его населяют отверженные и объявленные вне закона» (23; рр.З, i-i¡). И все это — она сама. Олицетворение себя со всем выходящим за границы нормы дополняется и обратным процессом предельного отстранения от собственной идентичности, так что нередко в тексте книги Ансальдуа называет себя «она» и ощущает себя именно так, в третьем лице, в волшебный момент «литературного шаманства», когда происходит разрыв в ткани повседневного мира, магический переход в иную систему отсчета. Бесконечное умножение идентичностей сочетается со страхом потерять все свои «я», целиком раствориться в масках, о чем Ансальдуа неоднократно упоминает, прибегая к сказочной метафорике путешествия в иной, магический мир : «Она боится что если глянет внутрь себя, то не найдет там никого, что когда попадет «туда», не обнаружит свои зарубки на деревьях и птицы склюют все крошки. Она боится, что не найдет пути назад». Это «она» предельно дистанцировано от пишущего «я» и при этом они — одно рассеченное сверху донизу целое. Итак, в казалось бы совершенно отличном от эссе Адриен Рич, о котором говорилось выше, совершенно специфическом, контекстуально обусловленном произведении Ансальдуа, повествующем о предельно частном опыте культурно-фронтирного существования представительницы движения «чиканос», возникает снова метафора рассечения. Но здесь рассечение, как уточняет автор, происходит прежде всего между бессловесным (доязыковым или внеязыковым), магическим зрением и «болтливым», рациональным.
Выживание — один из важнейших элементов, влияющих на самоопределение пограничного сознания в книге Ансальдуа. Она пишет: «Mestiza выживает путем культивирования в себе терпимости к противоречиям и неоднозначности. Ее личность плюралистична и действует в плюралистичном мире — ничто ею не отвергается — ни плохое, ни хорошее, ни уродливое, ничто не исключается и не выбрасывается. Она не только сохраняет противоречия, она переводит амбивалентность в иное качество» (23; р. 79). Более того, сам момент рождения появления на свет нового «я» показан как борьба со смертью, с небытием, с болью и страданием, отмечен образами почти физического «продирания», родов с осложнениями, сбрасывания старой кожи, которая еще не отвалилась и мешает идти.
Столь же телесно-болезненны метафоры нахождения авторского «голоса» и в изложении одной из самых интересных современных писательниц «пограничья» Одре Лорд, которая в книге, определенной ею жанрово как «биомифография» под названием «Зами: новое написание моего имени» (1982), пишет о силе своего голоса, власти, которой она обладает, сравнивая ее со струей крови, вдруг брызнувшей из-под поврежденной кожи, посвящая свое повествование «осколкам себя как женщины-путешествия», выделяя слово «становление» как ключевое для своей книги и в смысловом, и в структурном смыслах. Героиня книги Лорд стремится отвернуться от неприютного внешнего мира — Гарлема и шире — Нью-Йорка середины 50-х годов XX века и обращается к мифическому для нее «дому» — острову Карику, который даже не обозначен на картах25, долгое время думая, что это «географическая фантазия» ее матери, а не реальное место на Карибах. Именно с этим идиллическим для нее пространством-мечтой с магическим именем — символическим домом, где должны завершиться безместность и неприкаянность героини, она связывает и свой идеал человеческихвзаимоотношений, предлагая мифическое понятие Зами — особой дружбы и «единения» сильных и прекрасных женщин Карику, «любивших друг друга и поэтому способных пережить долгое отсутствие мужей - рыбаков». Миф о Зами — «особом имени Карику для женщин, что работают вместе как друзья и любовницы»26, становится для нее на какое-то, довольно короткое время тем идеалом, отсутствующей ролевой моделью, которая заполняет смысловую лакуну в одинокой жизни героини и посредством которой она создает представление о себе.
Телесные образы и метафорика у Одре Лорд и Ансальдуа столь всепроникающи, что переносятся ими даже в сферу собственно литературной критики и попыток выработки новой методологии, чему «новая метиска» уделяет довольно заметное место. Описывая этот противопоставляемый западному, рациональному и резко разграничивающему сферы художественного вымысла, автобиографии, научного анализа подход, Ансальдуа предлагает «теорию плоти», то есть такой метод, при «котором физические реалии нашей жизни — цвет кожи, земля или асфальт, на котором мы выросли, наши эмоциональные и сексуальные желания перемешиваются с тем, чтобы создать некую новую целостность, рожденную необходимостью, мы стараемся построить своеобразный мост, осуществить соединение с тем, чтобы примирить неизбывные противоречия нашего опыта»27.
Хотелось бы отметить и особую языковую экспрессивность книги Ансальдуа, выражающуюся в активном и смелом пересоздании языка (к ней действительно могут быть применены любимые метафоры современных исследователей постколониального толка, типа «языковых вывихов», «насилия над языком», «игр с языком культурного колонизатора»). Однако, даже в случае с Ансальдуа действует отмеченный выше элемент сознательной игры с американским читателем, желание ему «понравиться», быть понятой и расцененной не только как экзотическая аномалия. Найденный ею точный ход — особый мультиязыковой повтор (английское понятие дополняется и контрапунктируется испанскими и индейскими ключевыми словами) используется с тем, чтобы актуализировать ощущение взрывчатости прежде всего фонетически точным, экспрессивным выделением. Неанглийское слово в данном случае намеренно используется как суггестивное (поскольку большинство из них мастерски подобраны так, чтобы англоговорящий читатель легко мог догадаться о смысле слова по его латинскому корню, даже не зная романских языков). Как и другие авторы «литературы пограничья», для большинства из которых английский язык — родной, Ансальдуа обращается к подобным языковым коллажам и вкраплениям из других языков (иногда, это биязыковость, иногда мультиязыковость), не для удовлетворения областнического интереса к экзотическому и не для создания иллюзии правдоподобия. Она прежде всего ощущает остро несоотносимость важнейших понятий в разных культурах и языках, вплоть до их несуществования в языке культурного диктата (в данном случае, в английском) или, напротив, в маргинальных по отношению к господствующей культуре «наречиях», что выводит на первый план проблему культурного перевода, о которой говорилось выше.
Об этом же пишет и ямайская по происхождению поэтесса и прозаик Мишель Клифф, ныне живущая в Калифорнии, автор романа «Земля, где оглядываются назад». В автобиографическом эссе «Путешествие в речь»28 она противопоставляет «идеальный словесный мир» и линейную цветистую прозу научного дискурса (ее диссертации об итальянском Ренессансе) искореженному, нелинейному, зашифрованному до пределов стенографии и борющемуся с немотой письму о себе и собственном опыте, в процессе которого рождается ее авторский голос (28; р. 57—58). При этом в случае с Клифф европейское и американское наследия переплелись с культурой и языком Ямайки ее детства — «нормативный английский» с наречиями и диалектами островной культуры, так что Ямайка существует как бы в рамке,внутри рассеченного сознания и воображения автора. Временные, пространственные «смешения», как их называет Клифф, формальные гибриды и алогичные герои, мучимые неотвратимостью возвращения к неким культурным призракам и константам прежней, во многом утерянной или неузнаваемо изменившейся традиции, становятся отличительными знаками подобной нелинейной прозы «пограничья».«La Frontera» в книге Ансальдуа — это культурное пограничье, в котором сталкиваются, смыкаются и перетекают друг в друга разные сущности и смыслы. Этот воображаемый «фронтир» — «пространство «между», пауза, не это не то, и не другое», говоря словами индейской писательницы Паулы Ганн Аллен29. Героиня книги Ансальдуа находится «нигде» или «между» культур, пространств и времен, более того, в процессе постоянного пересоздания собственного «я». При этом «новая метиска» знает, как и все герои «литературы пограничья», скорее «кем она быть не хочет», находясь в постоянном поиске и определении того, кем или чем она хочет и стремится быть, одновременно и многократно (избыточно) отрицая то, что ее не устраивает в собственной личности, судьбе и в мироустройстве. Это сообщает и героине, и повествованию определенную аморфность и неоформленность. Так входит в мир культуры пограничья интерес к новым теориям в геометрии, физике, других точных науках, ставящих под сомнение общепринятые представления о природе окружающего мира и прежде всего, пространства. Ансальдуа, к примеру, обращается к весьма популярной сегодня теории «рассеивающихся структур» Ильи Пригожина, заимствуя у него термин «морфогенез» и интерпретируя его как процесс, вызывающий непредсказуемые изменения в окружающем мире, и идеальную модель возникновения и развития «метиски», ведущей к непредсказуемым, по ее мысли, последствиям для разных культурных целостностей и идентичностей (23; р. 97).
Несомненна и связь формирования Ансальдуа как писателя с процессом осознания, создания и пересоздания ею собственных личностных и культурных идентичностей. Несмотря на ее довольно активную антиевропоцентристскую позицию, писательница тем не менее верно схватывает родство культурной ситуации «метиски» и писателя вообще (вовсе не обязательно маргинального, тем самым опровергая нередко постулируемое критиками принципиальное отличие западной модели индивидуалистического мироосмысления от незападной). «Писательство рождает беспокойство», — объясняет Ансальдуа, — «когда я заглядываю внутрь себя, переосмысляю свойопыт, я начинаю беспокоиться. Быть писателем почти одно и то же, что и быть чикано или гомосексуалистом, — приходится постоянно корчиться от боли, ударяться лбом в стену, или напротив: не испытывать ничего определенного или окончательного, пребывая в безграничном и ленивом состоянии спячки, ожидания, когда же что-то произойдет»30.Постоянное пребывание в состоянии психического возбуждения, неустойчивости, «на границе» нормы и ненормальности, по мысли Ансальдуа, и заставляет писателей и поэтов творить. Как кактусовая колючка, вонзившаяся в плоть, писательство для нее становится мучительным процессом выздоровления и создания смысла из опыта и памяти. Попробуем «столкнуть» эти слова Ансальдуа с цитатой из автобиографии Ю. Уэлти «Так начинается писатель», которую Дж. Оулни представил в качестве типичного примера западной писательской биографии. Тогда выяснится, что точек соприкосновения у них гораздо больше, нежели кардинальных отличий, и едва ли не основным сходством окажется личностное начало в духовных и эстетических поисках и попытки описать его соотношение с окружающим миром посредством художественного опыта и памяти, как ключевой категории для обеих писательниц. «Наше внутреннее путешествие ведет нас сквозь время — вперед или назад, редко прямой дорогой, чаще всего по спирали. Каждый из нас движется и меняется в зависимости от других. Обнаруживая новые грани опыта, мы о них помним, а вспоминая, вновь обнаруживаем, и интенсивнее всего это ощущение бывает в те моменты, когда наши отдельные путешествия совмещаются и накладываются одно на другое. Наш жизненный опыт в таких точках соприкосновения является одним из наиболее заряженных смыслом, драматических полей литературного вымысла. Теперь я готова воспользоваться удивительным словом «слияние», существующим одновременно как реальность и как символ. Это единственный символ, который имеет для меня, как для писателя, смысл, поскольку соответствует одному из основных принципов человеческого опыта»31, — пишет Уэлти.
Ансальдуа, размышляя о «сознании пограничья», корректирует принципы «общества и культуры разнообразия», но предлагаемый ею идеал новой гибридности оказывается также весьма утопичным, хотя во многом и заманчивым. Отвергая устоявшиеся этно-расовые и культурные стереотипы, она достаточно закономерно обращается к наследию мексиканца Хосе Васконселоса, заимствуя у него идею пятой «космической» расы, объединяющей в себе свойства всех существующих, причем результат подобного скрещивания ценнее, чем расовая чистота. Как для писателя, дляАнсальдуа особое значение имеют особенности сознания (прежде всего, творческого) этой новой, формирующейся, воображаемой расы — «сознания метиса», постоянно переходящего из одной культурной системы в другую, но везде остающегося «чужим». Отсюда и выделяемые автором психологические проблемы, ощущение внутренней несвободы и незащищенности, а также нерешительность и неуверенность в себе, как основные для Ансальдуа черты сознания границы. Оно как бы находится постоянно в шоке, в состоянии культурного столкновения и выходом может быть либо растущая способность к пластичности и постоянной смене точек зрения и ролей (органичное приятие собственной бикультурности или поликультурности), либо окончательный выбор одной культуры и отказ от всех других. Но в любом случае для Ансальдуа, как и для Э. Сайда, и целого ряда теоретиков и «практиков» культурной многосоставности, важна сама смена типа мышления — с аналитического, центростремительного, настроенного на конкретную, рациональную задачу, на мышление «рассеивающееся» (центробежное), едва ли не на грани энтропии, отказывающееся от устоявшихся рациональных законов и направленное, как ни странно, в итоге, к более целостной и всеобъемлющей перспективе, имеющей множество целей и множество способов их достижения. Ансальдуа, как и Паула Ганн Аллен, и американо-аргентинская исследовательница Мария Лугонес и многие другие, предлагает «жонглировать культурами», обитая в плюралистичной вселенной, создавать новый способ познания и оценки себя и окружающего мира, пытаясь отказаться от субъектно-объектного дуализма.^ В книге Ансальдуа намечены элементы, основные для определения идентичности «культурного пограничья», представленные, несомненно, с точки зрения «культурного экстремиста» — не в смысле призывов к политической борьбе за равную репрезентацию, но в смысле предельной утопичности проповедуемого идеала и стремления строить его всецело вне парадигмы западной культуры, в ее обход. На деле сама Ансальдуа не выдерживает этой модели, поскольку во-первых, не может избежать знакомства с западным логоцентрическим дискурсом, и во-вторых, не приемлет в силу своей множественной маргинальности (прежде всего, связанной с ее сексуальной ориентацией) многих элементов традиционной культуры, на которую пытается опереться и которую противопоставляет западной традиции. Однако, опыт Ансальдуа важен, поскольку в компактной форме содержит почти все основные элементы, дискутируемые в сегодняшних мультикультурных дебатах. И не важно, как именно интерпретирует писательница те или иныеаспекты сознания и хронотопа границы, ведь они претворяются художественно, многократно переосмысляясь, получая дополнительные оттенки, впроизведениях других писателей пограничья, в том числе и тех, чьи взаимоотношения с «мейнстримом» гораздо более «мирные», чем в случае с Ансальдуа. Часто, это писатели, которых обыденное читательское и критическое сознание вовсе не воспринимает как пограничных, но лишь иногда удостаивает упоминания об их не вполне англосаксонских корнях, региональной специфике или нетрадиционной сексуальной ориентации. И хотя этот специфический «опыт» недопустимо абсолютизировать, он тем не менее все же важен для заполнения тех смысловых лакун, с которыми часто сталкивается читатель современной литературы. Здесь, интерес к контекстуальному, личному, специфическому не должен, конечно, приобретать вид «областничества», «этнографии», «фольклористики», и т.д. но скорее должен быть тесно связан с попытками восстановить картину индивидуальной творческой эволюции того или иного автора и специфики создания им определенного культурного идеала, миромодели, в которой он существует, и тогда категории «сознания пограничья», выделенные Ансальдуа и А. Рич, такие, как определение себя от противного, культурная ярость и неуверенность в себе, «рассечение от корней» и т.д. становятся особенно важными, подвергаясь значительной корректировке и переосмыслению в каждом отдельно взятом случае.
Литературная (авто)биография — игровое поле пограничного«трикстера».
Ключевым для всей культуры пограничья является феномен игры, снимающей напряжение и трагизм, переводящей многие конфликты в нарочито гротескный, сниженный план. Об игре как основе пограничного мировосприятия пишут многие теоретики пограничья, а также сами писатели. Причем, понятие игры активно переосмысляется по сравнению с классическими концепциями Хейзинги («Homo Ludens») и Гадамера («Истина и метод»). Характерным примером пограничного переосмысления «игры» может послужить статья Марии Лугонес — «Игривость, путешествия по миру и восприятие с любовью»32. Она предлагает интерпретировать игру как предельно «деиерархизированную», «лишенную соревновательности» и оппозиции выигравший/ проигравший, как и данных раз и навсегда правил. Это предполагает «неагрессивное» восприятие«другого», абсолютную пластичность играющего, свободно переходящего от сознания «мейнстрима» к маргинальным миромоделям, в которых он чувствует себя не менее «удобно», а также «знание» игрока о других культурах, его равно игровое к ним отношение, когда ни к одной он не относится слишком серьезно. «Только когда мы путешествуем по мирам других людей с любовью, понимая, что значит быть ими и что значит быть нами в их глазах, мы можем отказаться хотя бы на время от объектно-субъектных отношений и от жесткого разделения на агрессоров и жертв, становясь живыми, не равными себе, разрушающими и создающими себя и мир вокруг»(32; р. 638), — пишет Лугонес. Этот утопический принцип в значительной мере переосмысляется в «литературе пограничья», где культурная многосоставность предстает уже не просто в виде идеала, и на первый план выводится несинхронность и неравность идеала и условной художественной реальности, те символические «провалы» и «пустоты», которые их разделяют.
Игровая модель уточняется Лугонес и описывается как необходимое условие существования «чужака»-аутсайдера, пограничного сознания, которое можно культивировать в себе, даже при условии собственной полной прописанности в «мейнстриме». Путешествие по культурным мирам, стоящее в центре внимания всех авторов, чувствительных к проблеме культурной многосоставности, окрашивается в идеале Лугонес в игровые тона. Тем самым снимается напряжение и «чужак» учится воспринимать различные миры, по которым он путешествует, неагрессивно, но с любовью, учится говорить на их языках. Сам «аутсайдер» становится в интерпретации Лугонес особенно пластичной фигурой, поскольку он может сознательно проигрывать, изображать, проживать тот или иной стереотип определенной культуры о себе, пародируя его в другом контексте, в ином мире. Оба имиджа — условно реальный (во всяком случае, для самого «чужака») и стереотипный — могут сосуществовать в противоречивом сознании пограничья. «Трикстеризм» и одурачивание продолжают оставаться важнейшими признаками культурного «аутсайдерства», одновременно будучи, как известно, и архетипическими образами многих недоминирующих культур.
Уточняя понятие игры применительно к культурным путешествиям и межпространственности, Лугонес предлагает отказаться от таких, казалось бы, неотъемлемых элементов классических концепций игры, как соревновательность (дух конкуренции) и компетентность (знание правил и беспрекословное следование им). Привычную неуверенность в том, ктовыиграет и кто проиграет, она сменяет другой неуверенностью — от удивления, неожиданности, связанной с особым отношением к жизни и окружающему миру, который не воспринимается как разложенный по полочкам и раз и навсегда данный. Отказывается Лугонес и от жестких ролевых привязок, свойственных большинству социальных игр (каждый обладает раз и навсегда данной ролью, которая лучше всего подходит к тому, чтобы «выиграть»), предлагая вместо этого подвижность и текучесть собственных образов, постоянный процесс самосозидания и саморазрушения, а также создания и уничтожения различных миров. Этот идеал новой культуры и отношения к миру, в котором упор сделан на игровом начале, активно переосмысляется художественным сознанием пограничья, нередко теряя свой праздничный, жизнеутверждающий настрой, и демонстрируя как раз темные, разрушительные для личности аспекты.
Герой и особенно рассказчик в «литературе пограничья» большинство своих свойств получил в наследство от старых этно-расовых и фольклорных традиций, но они вместе с тем успели претерпеть значительные изменения в силу принципиально иной природы бытования этого образа в современной «литературе пограничья». Эволюция трикстера идет прежде всего, по пути его усиливающейся связи с элементами общенациональной традиции. Иными словами, автор ставит своего героя перед необходимостью оценить себя и свое окружение в более широком, современном контексте, понять, что в нем от Америки, а что — от различных «пограничных» культур внутри и вне ее, а также, еще шире — осознать свою ситуацию в постсовременном мире. Именно в таком смысле могут быть оценены попытки авторов, движущихся по пути формирования новой эстетики «пограничья», складывающейся из уже известных и существующих элементов, которые, однако, обретают, в необычном и непривычном сочетании и диалоге новый смысл.
В связи с этим обращают на себя внимание попытки представителей афро-американской литературной критики выработать принципы интерпретации своей субтрадиции и пограничных традиций вообще на основе прежде неканонических, но связанных с древнейшими культурными слоями метафор и понятий. Речь идет, в частности, об упоминавшемся уже неоднократно теоретике афро-американских исследований Генри Луисе Гейтсе мл., во многом абсолютизирующем этно-расовый опыт, косвенно признавая невозможность его оценки не чернокожим критиком или читателем. Однако, Гейтс смыкается с постколониальными и пограничнымитеоретиками в трактовке идеи расширения канона за счет включения в него не западных феноменов, добавления дополнительных ракурсов, заполнения определенных смысловых провалов, возникающих неизбежно при попытке оценить ранее маргинальное наследие лишь с точки зрения канонической культурной традиции. В многочисленных статьях и книгах (среди них выделяются «Образы в черном: слова, знаки и расовая идентичность», 1987, «Сигнифицирующая обезьяна. Теория афро-американской литературной критики», 1988 и др.) он неоднократно обращается к метафоре так называемой «сигнифицирующей или означивающей обезьяны»33, позаимствованной им из устной афро-американской традиции, определяя этот образ как «ироническое перевертывание расистского стереотипа негра, похожего на обезьяну, того, кто существует на задворках дискурса, постоянно играя тропами, фигурами речи, вечно воплощая в себе амбивалентность языка. «Сигнифицирующая или «означивающая» обезьяна становится фигурой речи для обозначения повтора и одновременно, переосмысления, или перевертывания смысла»34. Этот образ несомненно имеет природу героя-трикстера и Гейтс находит его истоки в традиционных религиях самых разных стран и культур — на Кубе, в США, в Мексике, в Африке. Особенно важной представляется, промежуточная, медиативная, трюковая природа этого героя-рассказчика, постепенно превращающегося из собственно героя в нерв и движущую силу самого повествования, процесса «рассказывания», как такового. Обезьянка таким образом становится объективированным, наглядным выражением самого стиля, техники, литературности и нарочитости сказа. В западной мифологической иерархии она соответствует западному Гермесу — посланцу богов, интерпретатору их воли. Эта метафора находит соответствия отнюдь не только в афро-американской традиции, но и в творчестве других писателей «пограничья», скажем, Мэксин Хонг Кингстон, чей герой Уитмен А-Синг из романа «Клоун-обезьянка. Его фальшивая книга» прямо назван «королем обезьян» и носит многие черты «сигнифицирующей мартышки» Гейтса.
Обезьяний дискурс в описании Гейтса «фальшив», а означивание призвано не раскрыть, но еще больше запутать смысл, используя ложные ходы, намеки, двусмысленность и многозначность. Отсюда сложная система подсказок, эвфемизмов, подтекста, переносного значения. Гейтс пишет в основном об афро-американских произведениях, основанных целиком на традиции обезьяньего означивания, связанной с афро-американской нарратологией. Особенно интересными же оказываются как раз те книги, чьиавторы переносят этот принцип и на другой материал, в том числе и «западный», и прежде всего, американский, создавая культурно-гибридные коллажи, прибегая к технике «пастиш», пародируя и свои сложившиеся литературные и фольклорные формы, как это происходит, к примеру, в творчестве Ишмаэля Рида, в частности, в его романе «Мамбо Джамбо».
Очерченные вкратце особенности пограничного героя-трикстера, независимо от того, как он осмысляется, как рассеченное от самых корней «я», как новое гибридное сознание, как сигнифицирующая обезьяна, как игровой персонаж, находят дальнейшее развитие в собственно художественных (авто)биографиях пограничья, анализ которых и составляет следующий раздел книги. В них тоже живет и действует пограничный «герой-трикстер», нередко стоящий одной ногой в архаике, а другой — в суперсовременной цивилизации, так что проблема культурного, а не только личностного выбора обретает для него решающее значение.
Грань между автобиографией ибиографией пограничья весьма условна, поскольку обе они несут сильное личностное, авторское начало и различны лишь степенью отстранения, очуждения, а порой и мистификации, к которым обращается писатель, представляя нам образы своего «я». В этом смысле характерным примером является творческая эволюция одной из самых интересных представительниц молодого поколения американской литературы-через-дефис — писательницы и поэтессы доминиканского происхождения Джулии Альварес, отмеченной в 1994 году Национальной Премией Критики за роман «В то время, когда летали бабочки»35. Книга Альварес «Как девочки Гарсиа утратили свой акцент» (1991) может с достаточным основанием быть названа «автобиографией»36. Она принесла ей успех и признание, и была воспринята, как и автобиография Мэксин Хонг Кингстон, в качестве едва ли не документального текста. Правда, между появлением этих романов пролегло более десяти лет и критике удалось за это время несколько освободиться от раздражавшего Кингстон «гастрономического» подхода в анализе пресловутых этнических литератур, иными словами, от саидовского «ориентализма»37. И все же, даже теперь Альварес сетует на то, что она оказывается «за решеткой определения» всякий раз, когда слышит, как на ее творчество навешивают ярлыки: «латиноамериканские темы», «латиноамериканский стиль»,«Семейная хроника» Джулии Альварес — биография культурного «скитальца».«латиноамериканская проблематика»38. Писательница говорит о том, что она может определить себя как автора, лишь отказавшись от подобных простых этикеток, ограничивающих ее выбор. «Возможно, спустя много лет двойственного ощущения себя то настоящей доминиканкой, то американкой, я невольно отказываюсь от упрощенных решений, которые упустят какую-то важную часть меня и моего творчества» (38; р. 39), — объясняет она.
Внутреннее родство между творчеством Альварес и Кингстон не случайно. Доминикано-американская писательница, разделяя пристрастие многих авторов к эссеистике исповедального характера, в 1998 году опубликовала сборник статей под названием «О чем заявить» — в смысле таможенной декларации и в смысле собственного культурного наследия. Развивая в какой-то мере амбивалентные метафоры — парадоксы в стиле Оскара Уайльда, заявившего, пересекая границу США, что ему нечего внести в декларацию, кроме собственного таланта, Альварес называет первый раздел своей книги, связанный с освобождением от диктата традиционной культуры ее прошлого — «Customs» (обычаи и одновременно, таможенные формальности), а вторую — «Declarations» (опять-таки, в смысле таможенных деклараций и деклараций независимости и оригинальности самовыражения). Так символически она объединяет, наконец, два несоединимых мира — «Остров» и США — посредством писательства. В этом сборнике автор прямо говорит о ключевом для ее формирования как писателя влиянии творчества Кингстон: «Парадоксально, но я нашла свой путь к осмыслению бикультурного, билингвистического опыта не через латиноамериканского автора, но через азиатско-американского. Вскоре после появления книги «Воительница» Мэксин Хонг Кингстон, она попала мне в руки, я проглотила ее и тут же вернулась к первой странице и прочла снова. Там говорилось о двойственном опыте, вавилонском многоголосье в сознании автора, о странностях и парадоксах бытия китаянкой и американкой одновременно. Значит, об этом можно было писать!» (38; р.39) При зримом различии творческих темпераментов Кингстон и Альварес, их связывает общее качество, которое доминиканская писательница определяет словом «comunidad», подчеркивая, что нашла подобное единение, общность особого рода в слове, а не в реальной конкретной общине или любой другой группе людей, окружавших ее когда-либо в Америке.
В этом смысле англоязычная культура сыграла в ее жизни и становлении как автора особую роль, хотя в статье «La Gringuita»39 Альварес и объясняет, что неизбежным, хотя и нежелательным следствием ассимиляции стала стена, возникшая между нею и родным когда-то испанским языком,связывая свой писательский дар не в последнюю очередь с глубоко укорененной в доминиканской культуре сказовой традицией, подарившей Альварес веру в то, что «историям свойственно спасать тех, кто их рассказывает».
Роман Альварес «Как девочки Гарсиа утратили свой акцент» построен на общем принципе биографических пограничных повествований, основанных на взаимоотношениях субъекта-объекта повествования с оставленным им по той или иной причине прошлым, традицией, семьей, культурным наследием. Отсюда и временная обращенность назад, как характерный структурный прием многих подобных произведений, в том числе и книги Альварес. Роман развертывается от реальности взрослого и внешне вполне ассимилированного существования четырех сестер Гарсиа — Карлы, Сандры, Софии и Иоланды (она-то, будущая писательница, и стоит ближе всех к самой Альварес и именно ее глазами мы преимущественно и видим все происходящее) до того самого момента чудесного спасения и бегства с Острова, который и становится магическим рубежом в жизни семьи Гарсиа. Три части романа обозначены повернутыми в прошлое датами : первая называется — 1989 —1972, вторая — 1970 —1960, третья —1960 —1956, то есть прослеживают жизнь Йо и ее семьи с конца в начало.
Тридцатидевятилетняя Иоланда приезжает на Остров, чтобы удовлетворить свое странное и не вполне осознанное ею самой желание («antojo»). Здесь сразу же обращает на себя внимание мастерское и одновременно манипуляторское использование Альварес принципа биязыковости, создающего особую атмосферу, привлекая как среднего читателя, так и того, кто обратит внимание на множество литературных аллюзий, причем не только американских, но и европейских, и прежде всего испаноязычных. Срабатывает и отмеченная выше особенность культурного и языкового перевода и непереводимости, интерпретации мышления иной культуры на языке своей и наоборот. Правда, в случае с Альварес, жестокие метафоры языкового насилия и вывихов не используются, поскольку она искренне влюблена в английский язык и культуру и играет с ними исключительно в конструктивном смысле. В книге «О чем заявить» Альварес даже рассказывает эпизод о неком поэте, заявившем ей на Брэдлоуфском писательском семинаре (имени Роберта Фроста) в Миддлбери, что писать стихи можно только на родном языке, вызвав в ней череду сомнений в себе, которые смог несколько утихомирить только пример Уильяма Карлоса Уильямса. Вместе с тем, отнести биязыковость Альварес, как и ряда другихавторов, к категории «спенглиш» — смеси испанского и английского — все же нельзя. Ведь основным для нее является английский язык и она испытывает особое культурное и языковое состояние «после», о котором удачно написал в автобиографии Г. Перес-Фирмат, определяя культурное «головокружение» и дезориентацию в американском контексте как состояние после изгнания, после семьи в традиционном смысле, бытие пост-Густаво. Особенно созвучны позиции Альварес, на наш взгляд, слова Перес-Фирмата о том, что когда он писал эту книгу, «много раз английский казался ему недостаточным, как словарь с отсутствующими буквами», но все же он «не смог бы написать ее по-испански — по культурным, а не лингвистическим причинам», потому что «Америка уже стала его второй кожей».
От простого и одновременно, исполненного магического смысла возвращения назад, в детство, желания полакомиться гуаявами, Йо легко переходит к обретению заново очужденных американской культурой, образованием, образом жизни, но все равно в чем-то привлекательных для нелогичного «сознания пограничья» родных корней, дорогих сердцу обычаев, в которых перемешалось все и не разделить уже отвратительное и прекрасное, любовь и ненависть. «Antojo» — это старое слово, «оно еще с тех пор, когда твоих США не было и в проекте», — объясняют ей старые тетушки. Оно означает, что ты одержим «духом», который и заставляет тебя чего-то страстно желать». Духи, которыми одержима Иоланда, это духи памяти, духи ее детства, в которое теперь, по прошествии лет, она возвращается снова, чтобы найти-ухватить ускользающее начало своего писательства, тот волшебный момент, когда страсть к придумыванию и детская любознательность переродились в иное качество. Развертывающееся перед нами в 15 связанных между собой историях-главах повествование о культурных «путешествиях» героини и обретениях и потерях на этом пути, отмечено неоднозначной эволюцией отношения Йо к собственному культурному наследию, как и к американской культуре «мейнстрима», в которую сестры поначалу так стремятся войти. Путь Йо в этом смысле уникален, поскольку ее отношение к Америке амбивалентно, она, как творческая индивидуальность, находится в постоянном состоянии раздвоенности и колеблется между отчаянными попытками отвергнуть американский этос и систему ценностей и стать снова своей на Острове и горьким осознанием собственной неприкаянности в любой культуре и системе ценностей. Альварес довелось пройти через такое испытание в конце 60—начале 70-х годов, когда, как она считает, произошло окончательное оформление ее «я» как писателя.«Для более ранней волны иммигрантов было бы достаточно позабыть о старой культуре, чтобы получить привилегию быть частью этой, новой. Но мы не могли этим удовлетворится. Содержимое плавильного котла выплескивалось через край, и даже американцы не только заявляли о своих правах, но рассуждали о целостности собственных идентичностей. В конце концов эти два мира совместились для меня в писательстве, хотя еще долго я не знала, как найти подходящий язык и соответствующий контекст для того, что мне довелось испытать в жизни. и долгое время не позволяла своей «иностранности» проявляться в книгах, не зная, что это. допустимо» — пишет Альварес (38; р. 39).
Роман Альварес построен во многом как пародия на семейную хронику, традиционная форма которой непременно предполагает наличие генеалогического древа, призванного объяснить терпеливому читателю все тонкости происхождения персонажей. Пародируя такие привычные генеалогические древа семейных саг, Альварес размашисто помещает в «древний» угол своей таблицы, где должны находиться предки, гордое слово «конкистадоры». Ироническая, снижающая перекличка с наследием конкистадоров появится в романе еще раз, в главе под названием «Кровь конкистадоров», где смертельная опасность для семьи Гарсия будет представлена в виде семейного предания, потерявшего свою ужасную сторону, обезоруженного коллективной памятью, особой временной перспективой. Оно окажется уравнено в правах с грубоватой шуткой отца, трясущего своих девочек, взяв их за ноги, пока вся «конкистадорская» кровь не прильет к голове и они не запросят о пощаде, и с размышлением матери перед самым поспешным бегством с Острова о том, что мечта конкистадоров о золоте Нового Света обернулась «всего лишь слепящим золотым воздухом и ярким светом Острова», слишком хрупкой и неустойчивой субстанцией, неожиданно растворившейся целиком. в золотых зубах гвардейца из тайной полиции, пришедшего арестовать ее мужа. Подобное вспоминание семейных историй сообща помогает освободиться от ужаса, выполняя роль катарсиса, некой коллективной терапии в семье Гарсиа, превращая ужасное и жестокое в смешное и нелепое.«Фальшивое» генеалогическое древо, нарисованное автором, на деле не стремится ни назад во времени, ни вширь, ограничиваясь по существу лишь их собственной семьей в строгом смысле, воспринимаемой уже по-американски «прагматически», т.е. исключая побочные ветви и предшествующие поколения. Поэтому за конкистадорами следуют без всякого перехода Гарсиа и де лаToppe (семьи отца и матери), о давнем прошлом которых известно лишь то, что один из предков когда-то женился на шведке, одарив потомков избирательно светлой кожей и голубыми глазами. Об одной из сестер матери девочек мы узнаем, что «Tía» Иза вышла замуж за американца и умерла. американкой, а кузины с материнской стороны даже не имеют имен, называясь лишь скопом «маникюрно-причесочными». Со стороны отца информации в этом древе-фикции еще меньше: читатель только обращает внимание на «Tío» Орландо с женой, красноречиво названной Фиделиной, и как-то косо и воровато отходящую от Орландо линию к его сыну Мануэлю Густаво (by una mujer del campo)40.
Рассказы об Иоланде и те, что написаны с ее точки зрения, обрамляют повествование, делая его по существу автобиографией Йо (даже если формально некоторые главы и приписаны ее сестрам или родителям), придавая ему сразу же, с первой страницы сугубо современное и очень писательское качество постоянного осознания себя, возможных вариантов своего «я». При этом момент дописывания собственной жизни, характерный для автобиографии вообще, не выносится автором за скобки, но нарочито подчеркивается, так что рассказы Иоланды о себе и своей семье в разные периоды жизни, а также мнение о ней окружающих сталкиваются, переделывая реальное прошлое в угоду семейному мифу или прихоти творческого сознания героини. В «Йо» этот элемент будет еще больше усилен и олитературен, когда Иоланда опубликует скандальный роман о своей семье, не оставив, кажется, ни одного секрета нераскрытым, и ее родственники станут чувствовать себя героями книги и ловить всякий раз на мысли, что говорят в реальности то (и так), что сказал бы на их месте персонаж, прототипом которого они послужили. Ощущение себя самой героиней пьесы или романа явно отличает и Иоланду. Прибыв на Остров после пятилетнего отсутствия, она медлит, дает себе время быть «увиденной» родными, словно хочет посмотреть на себя их глазами, «увидеть себя в зеркале другого». Это интроспективное начало, постоянное стремление задавать вопросы себе и о себе — главная сторона романов Альварес о семье Гарсиа, а семейная история чудесного спасения, трудного иммигрантского опыта по существу лишь служит фоном и неким контрапунктом собственно духовному, творческому пути становления Йо. В этом смысле она, на мой взгляд, следует «западному» типу автобиографии. Иоланда несомненно предстает человеком «безместным» и межкультурным, поскольку на Острове чувствует себя американкой, а в США скучает по родной культуре. Однако, не все так просто — часто это «маска», надеваемая и для себя самой,и для окружающих — ведь мыслит и воспринимает мир героиня романа уже как человек, воспитанный на западной культуре, хотя и осознающий это обстоятельство, знакомый и с другими мирами и культурными моделями. Йо в этом смысле парадоксальна, как большинство героев пограничных автобиографий — она стремится установить какие-то связи с миром, с окружающими людьми, причем, как в США, так и на Острове, но что-то не срабатывает. Позднее, читатель понимает, что это «что-то» по существу не имеет столь уж непосредственного отношения к этносу, полу или иммигрантскому опыту, но скорее, к особенностям писательского мировосприятия и специфического одиночества и выключенное™ из реальной жизни, которыми отмечена героиня. На более поверхностном уровне Йо, конечно, попадает впросак и как незадачливый культурный путешественник, играющий по своим правилам или вовсе без правил, «перемешивающий» различные несливаемые культурные стереотипы.
Мир ее тетушек для нее театральный, игрушечный, как торт в виде Острова с сахарными городами и кремовыми дорогами, который заказали к ее приезду родные, и где Йо прослеживает мысленно свой будущий маршрут. Для родных же Америка почти что равна «тому свету» (когда небесам, а когда и аду). Отсюда и постоянные мысленные сравнения тетушек, слуг, кузин с героями старой пьесы, почти марионетками, и заученная механистичность их жестов, словно сошедших со страниц виденного Йо недавно учебника для актеров эпохи Возрождения. Стереотипы управляют поведением родных и самой Иоланды на Острове — она точно знает, когда какую реплику вставит какой из персонажей этого «спектакля»41, какой жест и какая ответная реакция ожидается от нее, и как все это далеко от реальных чувств, отношений, мыслей участников пьесы.
С первых же страниц романа Альварес ставит под сомнение стереотипы, процветающие как на Острове, так и в США, постоянно привлекая внимание к проблеме билингвизма и бикультурности. Лукаво смешивая испанский с английским, Альварес заставляет свою героиню постоянно переключаться с родного языка на ставший родным, что порой доставляет ей неудобства. Двуязычие внезапно становится для беззащитной Йо не преимуществом, но недостатком, лишая ее порой вовсе возможности самовыражения42. Способность Йо на Острове превращаться в американку (ведь американскому «призраку» все простится), а в США становиться для большинства окружающих писательницей-иностранкой, свидетельствует о неустойчивости, незавершенности ее «я» и невозможности для нее сделать окончательныйвыбор между Америкой и Островом. Но ни одна из этих двух реальностей ее не отпускает, держит в тисках. Уже в первой главе магическое слово «antojo» становится сказочным зовом, который и переносит Йо из прагматической, холодной реальности Северо-Востока США в «сказочный», как ей кажется, мир, где нужно знать верное заклинание, чтобы не заблудиться окончательно, оказаться в спасительном поместье с затертым от долгого литературного употребления именем «Миранда», которое конечно же принадлежит дальнему родственнику, и где об Америке напоминает лишь нелепая в этой богом забытой глуши назойливая реклама с изображением смеющейся белой женщины с куском мыла «Палмолив».
Важная для автобиографии категория памяти, прошлого проявляется в романе Альварес даже на уровне выбора определенной композиции — первая и последняя главы принадлежат целиком Йо и представляют собой конец и начало, зрелость и раннее детство, причем рассказ в третьем лице в главе «Antojos» сменяется в заключительном «Барабане» на откровенное «я» пятилетней и вместе с тем тридцатидевятилетней Иоланды. Это двойное и одновременное ощущение себя ребенком и взрослым сохранено на протяжении всей истории о барабане очень строго. Рассказ о бабушкином подарке из сказочной Америки — «земли игрушек и снега», из волшебного магазина Шварца, написан с точки зрения Йо, уже успевшей увидеть обещанного Шварца и снег (видимо, буквально, потерять невинность и познакомиться с тем, что «черное», а что «белое»). Потеря барабанных палочек также осмысляется взрослой Йо, рассказывающей эту историю, явно символически: «У меня был прекрасный барабан», — осознаваемый теперь как сугубо мужской символ — «я носила его на бедре, словно револьвер, но не было палочек, а только их заменители — карандаши, деревянные ложки и т.д.» — иными словами, был инструмент самовыражения, но не было «голоса», или способа извлечь звук — не было еще слов, чтобы рассказать, не было мастерства рассказчика. В стилизованной под сказку истории о барабане, Йо с едва заметной самоиронией предлагает, кажется, все необходимые элементы страшной сказки. Прежде всего, это зловещий, темный угольный сарай, населенный призраками и духами, которых сюда поместила одноглазая служанка Пила, родом с Гаити, а значит, по мнению доминиканцев, «колдунья», знакомая с вуду. В сарае девочка найдет котят — живое, хрупкое, настоящее, в отличие от игрушечного, мертвого, механического и потому подвластного человеческой власти барабана. Грань между нормой и отклонением, добром и злом, жизнью и смертью еще внове для Йо, ее зыбкость девочке лишьпредстоит познать в будущем. Не случайно, «преступление» Йо спустя всего несколько минут, символически выразится в насильственном смешении живого и мертвого — она запихнет понравившегося новорожденного котенка в барабан и, отчаянно барабаня по нему, побежит в дом под преследующее ее мяуканье ничего не понимающей, но чувствующей беду кошки. Встреча с не менее сказочным и зловещим героем рассказа о барабане — незнакомцем с ружьем и собакой Каштанкой, похожим, по мнению девочки, на дьявола-искусителя, важна для формирования самосознания Иоланды и потому что он целиком противостоит ее привычному миру женщин, детей, слуг, в котором мужчины появляются изредка и ненадолго, и потому, что он охотник, а значит убийца живого. В тот момент, когда Йо это понимает, его фальшивая проповедь о недопустимости «отобрать у котенка естественное право на жизнь», столь типичная для рационального мира взрослых, где говорят одно, а поступают по-другому, теряет для нее всякий смысл и дьявольская миссия незнакомца с фальшивой идентичностью будет выполнена. Отвергнув его «моральный императив», девочка как раз и поступит как взрослые — совершит предательство «живого» и заберет котенка Шварца у матери. Следующие сцены написаны взрослой Йо и вовсе как бы со стороны, словно вглядываясь в себя давнюю, она пытается отыскать корни теперешнего, взрослого несчастья и неприкаянности в этом эпизоде детской жестокости и эгоизма, когда укоризненное мяуканье котенка вызвало у нее желание выбросить его прочь в окно. Заключительные строки рассказа о барабане отмечены ускоренным возвращением из прошлого из детства назад, в настоящее, из сказки в реальность — Альварес даже объясняет это, подчеркивая, что «втискивает все прошедшее с тех пор время в маленькую полость своего рассказа» и прочно соединяет историю о «котенке Шварце, незнакомце с собакой Каштанкой, одноглазой служанке Пиле со своим нынешним одиночеством и приступами бессонницы, призраками историй и дьяволами, населяющими ее воображение», когда Иоланда «слышит жалобный вой черной кошки и видит ее красную пасть, возмущенно мяукающую по причине какой-то непростительной ошибки, лежащей в основе всего ее творчества». В этом рассказе дробящаяся идентичность Иоланды, наконец, открыто и полностью совпадает с авторским «я» Джулии Альварес, неоднократно утверждавшей, что любой писатель пишет прежде всего о своем личном опыте.
Среди рассказов о детстве Иоланды выделяется и история о кукле «Человеческое тело», где автор продолжает важную для книги игру в противопоставление живого и неживого, детского и взрослого, рационального имифологического. В рассказе о кукле это выражается в контрасте пластмассового наглядного пособия с различными органами внутри и реальных человеческих тел Йо и ее младшей сестренки Фифи, которые, по словам разочарованного бестолкового Мундина, не представляют из себя «ничего особенного — вы как куклы !» В истории о кукле «взрослый» мир уже имеет определенные «права» в жизни девочки. Двигаясь в обратном направлении к началу книги, мы и вовсе обнаружим постепенное угасание сказочного начала и вступление в права реальности, которая, однако, продолжает оцениваться Иоландой как сказка. Зловещим фоном в этой истории выступает соседство диктатора, из-за которого вся семья живет в страхе, постоянно ожидая арестов, обысков, слежки. Хотя контраст и взаимодействие в жизни героини магии детства и трезвой реальности взрослой жизни сохранится на протяжении всего романа, мифическая атмосфера Острова постоянно будет накладываться на практицизм Америки, потерявшей сказочный налет «игрушечного магазина» и места, где зимой на головы падает манна небесная, которую всего через несколько лет после эпизода с куклой нью-йоркская школьница Иоланда, никогда не видевшая снега, примет за ядерную бомбардировку.
В процессе развоплощения и перевоплощения, в постоянном умножении идентичностей Йо, важную роль играют семейные рассказы, прежде всего, ее матери — семейного летописца, сохраняющего и интерпретирующего истории о своих детях на свой лад. Такими рассказами, «очуждающими» Йо делающими ее неузнаваемой для самой себя, являются история о том как выдумщица Йо едва не погубила собственного отца, «придумав» и рассказав соседу-генералу, что у него есть оружие, представленная со слов матери и пропущенная через сознание самой Йо, в главе «Четыре девочки» история «Иоланды — третьей из дочерей, ставшей не по своей воле школьной учительницей». Альварес сообщает нам, что долгие годы в графе специальность в официальных анкетах Иоланда писала «поэт» или «писатель/ учитель». Страсть к косым чертам —«рассечению от корней» — резко делящим ее индивидуальность на множество «я» («я, как ум/сердце/душа», — напишет она позднее, не в силах более дробиться) в конце концов приведет ее в психиатрическую лечебницу, где ее станут лечить от «странной» болезни — «потери идентичности». Писательство окажется и здесь спасительной терапией, попыткой снова обуздать столь важные для нее «слова» и найти для них новый смысл, выстроив заново свой мир.
История Йо, рассказываемая снова и снова матерью, имеет магический смысл, потому что призвана создать, закрепить, «наговорить» для нее определенное «я», определенную роль в семье, обществе, мире, поэтому несоответствие концовки рассказа матери реальной судьбе дочери воспринимается ею как крах. Утрата очарования пророческого конца истории о том, как маленькую Йо забыли по ошибке в автобусе, где она стала декламировать «Аннабель Ли»43, сигнализирует о несходстве той судьбы, которую предназначила дочери мать, и реальной Йо или тех ее «я», которые она являет миру. История о Йо, которую мать рассказывает ее любовнику на поэтическом вечере дочери, обращенная к нему «Постельная секстина» Иоланды, поток сознания седовласого профессора литературыперемешиваются, создавая ускользающий, противоречивый, «миражный» облик Йо, у которой так много имен — Йо, Йо-йо, Джоу (на американский лад), наконец, с испанским благозвучием, недоступным американцам, но требуемым от Клайва капризной «сеньоритой Гарсиа», «Ио-о-ла-а-нда-а», полуфеминистки, полу-богемного автора, полу-католической монахини.
Как во всех «автобиографиях пограничья» язык и магия слова играют огромную роль в формировании и пересоздании идентичностей героини. Она вспоминает то время, когда еще плохо знала английский и должна была смотреть всякий раз в словарь, чтобы понять, что с ней только что произошло — обидели ее или похвалили, покритиковали или поддержали. Процесс размежевания с собственной семьей, окончательного выбора одиночества, осознать которое как цену за писательство ей придется позднее, начинается для Йо в тот момент, когда она подростком впервые пишет стихи на еще новом для себя, таком завораживающем английском. Родители и сестры Йо аккультурируются в США по-иному, не через глубоко прочувствованный язык и культурное наследие, но главным образом, через восприятие поверхностных и утилитарных сторон американской действительности и сознания44. И это несоответствие глубже, чем просто конфликт старосветских патриархальных устоев отца девочек и американского «демократизма» и отсутствия авторитетов, которые быстро схватывают, согласно иммигрантской логике взаимоотношений поколений, дети. Здесь Альварес закономерно (как и еще целый ряд писателей пограничья) обращается к «Песни о себе» Уитмена, которую с восторгом открывает для себя Йо, несмотря на недовольство отца. Первые годы в США особенно явно заметно отсутствие «центра» в потерявшем равновесие и привычные точки отсчета мире семьи Гарсиа — Америка может им дать (пока) только жизнь второго сорта, вереницу дешевых арендованныхдомов в католических районах, где им приходится жить с людьми вовсе «не своего круга», одежду из комиссионки, черно-белый старый телевизор, и «старые» правила поведения, перекочевавшие сюда незаметно с Острова, но оторванные от ощущения внутренней свободы и защищенности, которым девочки обладали дома, а вместо этого приправленные неприятием одноклассников, обзывающих сестер хрестоматийными обиднымипрозвищами для латиноамериканских иммигрантов — spie, greaseballs. И хотя с течением времени они разовьют вкус к американской свободной жизни и даже смогут обходить запреты родителей, «выиграв в конце концов у них свои жизни», ощущение потери центра и необретения нового останется с ними, и особенно с Йо, навсегда. Проблемы с идентичностью позднее будут интерпретированы Йо и ее сестрами-психологами, как ошибки в воспитании — они даже мамин строгий цветовой код — определенный цвет одежды для каждой из девочек — станут расценивать как посягательство на их формирующиеся индивидуальности, как менталитет «поточной линии», ослаблявшей их понимание границ собственного «я». Момент культурной ассимиляции, однако, в целом не форсируете^ автором как центральный, хотя книга, казалось бы, и посвящена этой проблеме. Скорее следует говорить о довольно скоро обнаруженном героиней собственном «нерасплавлении» не только в Америке, но и о невозможности ее ассимиляции в любой другой культуре. Как только акцент оказывается смещен на эту фундаментальную неассимиляцию творческой личности, книга теряет свойство многих автобиографий пограничья, представляющих лишь этнографический интерес, как экзотика приключений в «чужом» американском мире, и обретает традиционное «западное» качество духовных поисков и пути будущего писателя. Этот момент повторяется в большинстве автобиографий и биографий пограничья45.
Вместе с тем, некоторые из деталей, выражающих несходство мироощущений и систем ценностей, на которых выросли сестры, с американскими, интересны и не хрестоматийны, прежде всего потому, что представлены без черно-белой патетики культурного порабощения и «ярости» жертвы, но с юмором и некоторой самоиронией. Это касается, в частности, жизни Йо в колледже, где она особенно остро начинает ощущать собственную неприкаянность в американской культуре конца 60-х, свои слишком тонкие, чтобы их заметить и осмыслить «культурные огрехи» — неумение шептать по-американски, буквальное восприятие имен, непонятная американцам бережливость, страх перед сексом, наркотиками, алкоголем, непристойнымишутками, ее привычка засыпать с распятием в руках, а не в обнимку с мягкой игрушкой, как «нормальные» американские дети и еще многое другое. И хотя история о первой «американской» любви — Руди Эльменхерсте и представляет собой, собственно, пример оскорбительной англо-саксонской объективации, когда загорелые, моложавые родители Руди считают его новую подружку едва ли не уроком по географии, экзотическим сексуальным опытом, полезным для общего развития мальчика, возмущенно обвинившего Йо в том, что она «хуже чертовых пуританок», в целом эпизод лишен культурной ярости и гротескного искажения очертаний знакомого американского мира, столь часто свойственных другим «автобиографиям пограничья». Йо осознает, что ее особая, странная смесь католицизма и агностицизма, испанского и американского стилей, неподдающееся ядро и требование уважения к себе и к свободе собственного выбора, возможно, не приемлемы даже для этой «демократической» страны.
В главе под названием «Иоланда» Альварес создает особый симбиоз прозы и поэзии, представляя нам героиню как бы глазами самой Йо, страдающей от раздвоения и «растворения» собственной личности в психиатрической лечебнице. Неудачный роман, добавивший к списку ее «я» американизированные Джоу, Вайлет, Джозефин (так называет ее нормальный до неприличия, счастливо монолингвистичный и ревнивый к ее талантам Джон) оказывает разрушительное влияние на Йо, которая признается, что любовь ко всему и всем для нее — главное в жизни. Странная болезнь Иоланды рождает в ней страх к словам (в частности, страх признаться в любви и разрушить тем самым магию несказанного), позднее перерастающий в «аллергию» на определенные слова — «любовь», «Иоланда», «жизнь». Неустойчивая и без того идентичность Йо теперь страдает еще и из-за дополнительной неуверенности в себе, которой награждают ее один за другим все мужчины. Но если для Джона проблема выбора предстает в виде бесконечных прагматических списков «за — косая черта — против», построенных по типу американской дихотомии школьного экзамена — «за-и-против-Джоу-как-жены», то для Йо проблема выбора во-первых, бесконечно дробится, во вторых, касается фундаментальных вопросов бытия, этических проблем, осмыслить которые в примитивной дихотомии косой черты невозможно, наконец, не может и не должна касаться любви, которая, по мысли Йо, не признает ни дихотомии, ни рационального убеждения. Следующий шаг в развитии идентичности Йо поэтому закономерно — отказ понимать окружающий мир, придавать словам и даже звукам привычный смысл, соединяя их с понятиями, явлениями, людьми,мирозданием. Все окружающее сливается в неопределенный и нечленораздельный звук, а собственное «я» исчезает, растворяется, как и имя, которое она ощущает все более чужим, не своим, не чистым, полнокровным, испанским «Иоланда», и даже не десятком раздражающих домашних прозвищ вроде маминого «роЬгесйа Уозйа». Йо отныне способна лишь бледно отражать искореженный мир вокруг, как эхо бесконечно повторяя слова окружающих людей и разговаривая цитатами из любимых книг46. Она и сама понимает губительность и вместе с тем необходимость своего существования с косыми чертами — надеясь, что доктор Пейн (боль) спасет ее «тело/ум/душу», вынув из них косые черты, и создав одну, единую Иоланду. Здесь Альварес предлагает промежуточный и неокончательный выход для своей зашедшей в тупик героини — таким выходом для Йо и попыткой начать строить свою идентичность заново становится, конечно же, творчество, поэзия, новая влюбленность в слова, пусть теперь и коварные, в язык, в жизнь, убежденность что то, что можно сказать о мире, бесконечно.
Автобиография Иоланды Гарсиа/Джулии Альварес, как и большинство «автобиографий пограничья», является попыткой утолить «голод памяти». Однако, путей для этого может быть много и тот, о котором повествует Йо, вероятно, наиболее адекватно отражает опыт пограничья в современной Америке, поскольку в нем практически отсутствует свойственное и Р. Родригесу, подробный разговор о книге которого впереди, и М. X. Кингстон, ощущение собственной иммигрантской (и этнической) неполноценности (переболев им в детстве, Йо благополучно оставляет этот комплекс, хотя он и сменяется на другие, однако, не связанные с опытом иммигрантского отчуждения), как и ложный пиетет перед типичными «американскими» ценностями, поскольку глубоко проникнув в культуру Америки, Иоланда, взяв из нее все самое ценное, отвергает и разрушает неприемлемое для себя. Внутренняя хрупкая, но все же гармония и уверенность в собственных силах, вера в свое предназначение, становятся отличительной чертой Йо, для которой ассимиляция не представляет самоценной задачи, но только является одним из внешних проявлений ее взаимоотношений с миром, где сосуществуют на равных правах множество центров, множество явлений. В этом смысле она соответствует игровому путешественнику из статьи Марии Лугонес. Разница только в том, что в утопическом идеале Лугонес он счастлив, находя себе место в любой культуре, благодаря своей удивительной пластичности. Альварес же недвусмысленно дает понять, что «всемирность»— не гарантия счастья, более того, скорее она ведет к усилению ощущения безместности и неприкаянности, хотя это и единственный путь для ее героини.
В обманчиво простом по форме втором романе дилогии о семье Гарсиа — «!Йо!» — не менее, а может быть, даже более автобиографичном, художественная реальность воссозданных Иоландой на страницах ее романа в романе родственников, друзей и, наконец, себя самой, постоянно накладывается на также вымышленную, но все же на один порядок более реальную «реальность» тех же героев в ткани романа Джулии Альварес. Здесь Альварес следует уже давно и хорошо разработанному приему зеркал, хорового, полифонического повествования, когда центральный его объект, о котором все рассказывают, отсутствует47. Эти типичные для современной литературы «игры» авторского (раз)воплощения даются писательнице внешне легко и роман становится автобиографией о своем собственном создании. На первый план выходит здесь и знакомое ироническое стремление выгородить себя, оправдаться перед вымышленным миром и читателем. Герои словно сходят теперь со сцены и предстают в «реальной» (внутри символического пространства романа) жизни, которую Иоланда художественно претворила в своей книге. Теперь эти условные реальности как бы меняются местами и сама Йо становится объектом, фокусом повествования, на который направлены лучи всех прожекторов-рассказчиков, повествующих о ней, создавая свой вариант романа-многоголосья. Композиционно роман «Йо» решен как собрание отдельных, вполне законченных внутри себя рассказов, каждый из которых написан в определенном жанре (или скорее, пародии на него), о чем сообщается сразу же, в названии — «Незнакомец. Письмо», «Кузина. Поэзия», «Сестры. Вымысел», «Мать. Документальная проза». Эти двойные названия касаются не только жанровой специфики, но и непосредственно фабулы рассказов, а также, в какой-то мере, определяют и качества тех героев-рассказчиков, которым принадлежат. В прологе под названием «Сестры» природа художественного вымысла становится основным камнем преткновения в бесконечных препирательствах родных и Йо, а также и сюжетным элементом, в большой мере организующим повествование. Этот рассказ написан как бы совершенно без участия Йо, представленной лишь через сознание сестер и поэтому, с ее точки зрения, действительно является полным «вымыслом». «Вымышленность» же самих сестер, как героинь романа Альварес и «романа» Иоланды Гарсиа также бесконечно дробится и отражается, так что книгу отличает большая обнаженность композиции, и внимание читателя привлекается к тому, как он сделан или вовсе — можетбыть сделан, составлен как мозаика разных точек зрения на Иоланду. При этом каждая из частей романа представляет собой своего рода иронические вариации на темы различных «строительных материалов» словесного искусства. Так, во второй части акцент с жанра переносится на конфликт и фабулу, экзерсисы на темы которых и предлагает нам автор. Третья часть книги концентрируется на проблемах точки зрения, атмосферы и настроения, а также смены перспектив. Все это вместе очень напоминает наглядное пособие для студентов, изучающих писательское мастерство, о том, как писать рассказ (или роман в новеллах). Не случайно, бывший студент прямо появится на страницах романа в главе под названием — «Студент. Вариация», где рассказывается о том, как Йо «украла» у него рассказ и, изменив имена и добавив доминиканского местного колорита, опубликовала его по своим именем.
Подобная «оголенность» приема, постоянно проглядывающий каркас книги, настойчиво привлекающей внимание к тому, как она сделана, представленная на первой же странице структура будущего повествования не случайно используются автором, привлекая внимание к волнующей писательницу мысли о том, что граница между реальным (реально произошедшим в прошлом или происходящим на глазах читателей) и вымышленным (Йо, другими героями) — зыбкая, неверная, обманчивая, и потому, обвиняя Иоланду в склонности ко лжи (вымыслу), окружающие не замечают, что и сами все время «лгут», создают реальность, в которой потом существуют. И одновременно, подчиняясь ее вымыслу, начинают вести себя, согласно «логике характеров», запечатленных ли Йо на страницах ее романа, или придуманных ими самими в качестве собственных масок и ролей. Эти взаимопереходы вымысла и реальности очень остро ощущаются Иоландой, поэтому внимательный читатель не склонен принимать столь уж всерьез ее уверения в том, что литература и, в частности, ее собственное творчество всегда является зеркалом жизни и она, как и все писатели, творит, лишь исходя из личного опыта. Слишком настойчиво ее «вымыслы» оборачиваются реальностью, слишком часто семейный миф, художественно претворенный и тем самым «очужденный» Иоландой, кажется создавшим его родственникам незнакомым и неузнаваемым. «Мне кажется, что вся моя жизнь становится вымыслом», — жалуется одна из сестер Йо, — одновременно понимая, что та лишь придала законченную форму их и без того «вымышленному» существованию. Именно эта особенность литературного вымысла, магияхудожественного слова и оказывается в центре последней книги о семье Гарсиа — романа «!Йо!» (1997).
Если в первом, более традиционном романе о Гарсиа Альварес интересовали проблемы идентичности и ее формирования, то в «!Йо!» на первый план выходит ощущение субъективности точек зрения о своем и тем более чужих «я». Иоланда словно хочет представить себе, что бы могли написать о ней родные и близкие и какой бы она вышла в их интерпретации, и задав себе этот вопрос, она рисует не свой портрет в исполнении окружающих, но опять-таки слепок окружающего мира, сделанный все той же Иоландой (название романа в этом смысле очень точно выражает эгоцентризм героини).
Переливание, неоформленность, мерцание различных «я» Иоланды, ее неравность себе постоянно подчеркивается в калейдоскопе тех точек зрения и мнений о ней, что сменяют одно другое в книге. При этом сама сказовая природа некоторых из этих мнений и точек зрения способствует созданию эффекта «бестолкового рассказчика, не понимающего события» (или, в данном случае, предмета своего рассказа — Иоланды) и потому невольно «проговаривающегося» об истинном смысле или ценности того, о чем говорится (по В. Шкловскому). Именно этим «проговариванием» и интересны многочисленные монологи знакомых Иоланды, где результатом совмещения всех стереотипов и ошибочных представлений о ней, окажется не раз и навсегда данный образ истинной Йо (она, как и большинство героев современной литературы, остается в результате «негативным пространством», не обладающим целостностью), но снова ускользающее, противоречивое, многоликое «я». Ведь Иоланда действительно — все то, о чем говорят окружающие — и капризная дочка богатого врача, привыкшая к роскоши на Острове и играющая в демократизм со слугами в Америке, и странная худая и неухоженная бездетная сеньора, которая не позволяет называть себя иначе как по имени в поместье своего кузена на Острове и старается подружиться с управляющим Серхио и его семьей, и раздражающая квартирную хозяйку сумасшедшая писательница, по слухам нетрадиционной сексуальной ориентации, и талантливая, но непутевая студентка, которой старый профессор вот уже в который раз пишет рекомендательное письмо, начинающееся словами: «Раз в жизни у каждого педагога бывает студент.» Хрупкий баланс сосуществования разных точек зрения (без всякого намека на идеализацию или гармонию) способствует созданию пронизывающего книгу ощущения взаимовлияния и взаимоперетекания вымысла (или разных вымыслов) и реальности, как бы условно последняя не воспринималась,создавая модель микрокосма, выстроенного, казалось бы, Йо вокруг себя самой, но влияющего на мировосприятие других героев, вынужденных распрощаться — во многом, благодаря героине и ее книгам, со своими однозначными представлениями о мире и о людях. Они невольно учатся ее пограничной и такой писательской способности воспринимать мир, как книгу, а людей, как персонажей, помещая их в разное обрамление и оценивая со стороны48.
Всем ходом романа Альварес показывает, что Йо вряд ли когда-либо закончит свои культурные путешествия и сделает окончательный выбор между Америкой и Островом, но такой выбор не только невозможен, но и не нужен. Воображаемое пространство, которое она создает и в котором в какой-то мере, не всегда по своей воле, начинают жить ее окружающие, предельно открыто и готово включить в себя очень многое. И те, кому дано понять эту пугающую и уязвимую открытость и незавершенность героини и ее миромодели, становятся полноправными жителями ее мира. Иоланду отличает стремление не только включить всех и все в свой мир, какой бы невыполнимой подобная задача не оказалась в конечном счете, она по существу пытается и сама все время становиться «другой», избегая «вечного самоповтора». В этом ее кардинальное отличие от героев, подобных тому же Уитмену А-Сингу — из романа Максин Хонг Кингстон «Клоун обезьянка — его фальшивая книга», как впрочем, и от другого варианта «завершения» культурного путешествия — полной ассимиляции, стремления сойти за своего, однозначного сознательного выбора. Примером последней до некоторой степени можно считать пародийную автобиографию Ричарда Родригеса «Голод памяти».к западным, основанным на индивидуальном опыте духовного и творческого становления, обретает едва ли не центральное место в целом ряде автобиографий, не вполне отвечающих как западной модели, так и коллективной, чаще всего «этнической» автобиографии, в которой на первый план выводится не история становления отдельного «я», но его вписанность и функционирование в различных культурных контекстах и во взаимодействии с различными традициями. При этом «американская мечта» как достижение полной ассимиляции не осмысляется Альварес в качестве конечной цели ееАссимиляция споправкой на память — Р. Родригес.
Проблема культурной ассимиляции, лишь косвенно затронутая в романах Дж. Альварес, как примерах предельно литературных автобиографий «пограничья», близких по формекультурных путешествий и практически лишается социального и материального измерений, во всяком случае, для самой героини саги о семье Гарсиа. Однако интерес к феномену «американской мечты», осмысленной с точки зрения и для сознания «маргинала», оказывается в центре внимания многих других авторов. В этом смысле удачным примером может послужить книга мексикано-американского писателя Ричарда Родригеса «Голод памяти»49 (1982), не случайно сразу же после своего выхода вызвавшая горячие дебаты сторонников и противников культурной ассимиляции, и весьма жестко критиковавшаяся активистами движения за права «чиканос». Не менее характерны и официальные отклики на книгу, согласно которым она посвящена «описанию универсального пути взросления в любой культуре». Тем самым из романа оказалось как бы символически изъято его основное неразрешенное противоречие, как раз и придающее ему особый смысл и динамику. Автор, с одной стороны, отчаянно пытается заявить о реальном воплощении в своей судьбе представителя «национального меньшинства», полной опасностей и неизбежных жертв, еще одного варианта «американской мечты», успеха, к которым родители готовили его, якобы, с детства (тем самым отрицая свою духовную принадлежность к культурному меньшинству). С другой стороны, «голод памяти» (прошлого, семейной и этнической традиции) и сила языка, как ключевого средства самовыражения, не отпускают его, заставляя возвращаться снова и снова к забытой на словах, но по-прежнему ощутимо присутствующей в сознании и мироощущении субкультуре. Повторяя знаменитые слова Фицджеральда о его завороженности «богатыми», только с поправкой на этно-расовый колорит, Родригес пишет о том, как родители с детства учили его уважать символы жизни высшего класса, заставляя постигать науку хорошего тона (есть, разговаривать, вести себя — «как богатые»), «С тех пор я и начал себя ассоциировать с богатыми и оказался заворожен их тайной», — объясняет автор. Уже в прологе романа Родригеса — «Пастораль из жизни среднего класса» автор объявляет себя представителем последнего, полностью ассимилированным американским писателем-профессионалом, что само по себе сигнализирует о некоторой неуверенности в этой полной ассимиляции, в нормативном американизме, ставшем и его нормой. Родригес связывает тему ассимиляции и с темой классовых различий, подчеркивая, что мексикано-американские представители среднего класса нередко питают «пасторальные» иллюзии, отрицая свое отличие от соотечественников более низкого происхождения и социального статуса.
Описывая этапы своего «(пере)рождения» Родригес закономерно останавливается на образовании, и особенно, овладении английским языком, в частности, указывая на ненужность и неверность билингвистического образования для мексикано-американских детей, связывая процесс американизации с постепенным отчуждением от своих «необразованных» родителей. В главе «Кредо» Родригес размышляет о религиозных вопросах формирования идентичности, противопоставляя «коллективный» католицизм его детства протестантскому общению с богом один на один, к которому он невольно тянется сегодня. Характерным примером отчаянного и слишком нарочитого желания автора убедить себя и читателей в правоте собственного выбора и лояльности является глава «Профессия», в которой автор почти сливается с рассказчиком и читателю становятся ясны реальные пружины и подоплеки поступков в его жизни. Автобиографический рассказчик Родригеса обманчиво кажется равным автору.
Модель полной ассимиляции, сопряженная с полным же отказом от родной культуры51, предлагаемая Родригесом, казалось бы, так навязчиво, внутренне противоречива, поскольку заставляет его проходить через боль и непреодолимую ностальгию, но она все равно упрямо утверждается автором как единственно возможная, альтернативой которой он видит только полное отчуждение — путь нежелательный и неблагодарный.
Это внутреннее неразрешенное противоречие присутствует и в ироническом по отношению к традиции «чиканос» жанровом решении книги, пародирующем распространенные в ней свидетельства (testimonio), и одновременно, в явных попытках соотнести «Голод памяти» с сугубо западными формами (сама метафора «голода памяти», однако, при всем желании автора, не находит особенных подтверждений в американской национальной традиции), а также, с менее явными, но присутствующими параллелями с существующими уже опытами других художников, практикующих культурную мимикрию. Среди подобных произведений американской литературы неожиданно близким к книге Родригеса окажется опыт афро-американца Джеймса У. Джонсона, написавшего еще на рубеже веков, на заре Гарлемского Ренессанса, «Автобиографию бывшего цветного»52.
Важным моментом в романе Родригеса является проблема соотнесения личностной идентичности и различных масок, личин и стереотипов, которые ее заменяют в общении героя с внешним миром. В главе «Цвет лица» автор размышляет о парадоксах ассимиляции, сыгравших с ним«злую шутку». С некоторой долей самоиронии, не всегда замечаемой его критиками-чикано, Родригес подчеркивает условность расовых делений, их внутреннюю связь с социальным статусом. Судьба наградила его темной «индейской» кожей, в отличие от родителей, имевших европейский вид, так что мать даже смазывала ему лицо в детстве лимонным соком, в надежде, что оно посветлеет. Так косвенно Родригес подтверждает давнее стремление мексиканцев среднего и высшего класса к светлой коже, как «норме», потенциально усложняющее в его случае конфликт «родной» и американской в смысле принадлежности США культуры. Он воспитан и ведет себя как «белый» («гринго», в соответствии с классификацией его родных), хотя выглядит «темным». Поэтому и сообщает нам с гордостью, что служащие в гостинице, заметив его темную кожу, обычно считают, что он только что вернулся со швейцарского горнолыжного курорта или с Багамских островов, связывая цвет лица с отдыхом, чего не произошло бы, если бы он вошел в лондонский отель с черного хода, как прислуга. Родригес необычайно чувствителен к тем образам, которые он являет вольно или невольно миру, как бы глядя на себя со стороны в разных ситуациях и глазами разных людей — его друзья-американцы удивляются, почему он опаздывает на воскресный обед (не понимая, что он задержался на католической воскресной службе), для чикано же Родригес — «комический Квикег, прижимающий к груди реликвию с пеплом мертвой европейской цивилизации». Темная кожа осознается рассказчиком как недостаток и как возможный знак связи с «бедными» — мексиканцами-уборщиками в студенческом общежитии в Стэнфорде, черной служанкой в доме богатого друга, и т.д. Своеобразная «ошибка» Родригеса, как верно указывает исследователь Генри Стейтен53, в том, что он не способен верно описать свою культурную ситуацию, интуитивно ощущая условность существующих норм и понятий, но по инерции, продолжая прибегать к бинарной оппозиции «или/или» — или американец, или чикано. На самом деле, скорее это ситуация — «не то и не другое, или и то, и другое» ( как в случае с Альварес, в определенном смысле, Адриен Рич и др.)54. Ведь тот тип 100% американской идентичности, к которому стремится Родригес, будучи очищен от социальных факторов, окажется по существу не менее неопределенным, чем идентичность «чикано», а условный «хаос» родной традиции не сможет быть так уж однозначно противопоставлен столь же условному «порядку» Америки.
Для Родригеса лишь семья в самом прямом, узком смысле (а не община, общность, общественная организация, группа и групповое сознаниелюбого толка) может выступать источником близости, родства, взаимопонимания, общения людей, и в конечном счете, культурной традиции. Отсюда и его «голод памяти» как, прежде всего, ностальгия по семейным связям. Все же остальные формы взаимоотношений весьма условны и даже потенциально угрожающи, с чем связано подспудное ощущение одиночества и неприкаянности, которое Родригес, в отличие от многих других авторов «биографий пограничья», пытается безуспешно скрыть, утверждая, что книги стали для него во взрослой жизни суррогатом семьи, практически полностью заменившим отсутствующее «человеческое» измерение, и лишь достигнув полного отчуждения от собственного прошлого, писатель стал способен к его верному восприятию и оценке. В этом смысле автобиография Родригеса может быть, вероятно, названа манипуляторской, мистифицирующей,представляющей одну из «масок» как подлинную идентичность. Однако, он не выдерживает этой роли до конца, так что между строк пробивается, порой, истинный голос автора, страдающего от своей неприкаянности, как и от насильственно выбранной для себя предельно интроспективной, индивидуалистической модели мировосприятия и самовосприятия.«Неумелая» авторская позиция Родригеса — это и намеренно используемый им прием, о чем он косвенно предупреждает читателя в самом начале автобиографии, утверждая, что книга прежде всего посвящена раннему и постоянно сопутствующему влиянию языка/языков на формирование его «я». Но Родригес сразу же говорит и о том, что «Голод памяти» — это эссе, «представляющие» (почти в театральном смысле) автобиографию, т.е. прикидывающиеся ею, пересматривающие сам жанр автобиографии, и что ему не совсем удобна и привычна роль не просто писателя, но автора автобиографии. Подобная оговорка весьма характерна для современных писательских «исповедей», осознающих себя вымыслом.
Процесс «американизации», сопряженный с явной потерей связей с родными мексиканскими корнями, воспринимается Родригесом прежде всего как символический и потому связанный не с материальной культурой, но с языком, причем предпочтительно, с художественным дискурсом. «Астекские руины для меня вовсе не интересны. Я не рыскаю по мексиканским кладбищам в поисках связей с безымянными предками», — объясняет он, лишая свою автобиографию фальшивой ностальгии, столь распространенной в этнических литературах, часто создающихся в угоду массовому интересу к феномену «другого» и потому основанных на узнаваемых стереотипах. Родригес не вспоминает простые радости бедняцкого быта его детства (как это делал всегонесколько десятилетий назад Родольфо Анайя), но скучает, как он хочет нас убедить, по иному, по тому, что пытается определить как метафизическую проблему межкультурья и неспособности выбрать между Лоркой и Маркесом, читанными в детстве с родителями, и Монтенем и Шекспиром. Он называет себя «комической жертвой двух культур», а язык становится для него всеобъемлющей метафорой, выражающей бикультурность, а также невозможность существования в двойственном, отягощенном виной и раздираемом противоречиями модусе бывшего «маргинала».
В отличие от Иоланды, влюбившейся в английский сразу и навсегда, Родригес вспоминает, что в детстве английский был неприятен его слуху, противопоставляя этот язык идеальному, домашнему, родному и приятному на слух, «волшебному» испанскому, на котором говорили в семье, языку «радостного возвращения», воспринимаемому не как речь в строгом смысле слова, но скорее, как набор чистых звуков, передающих определенные эмоции, еще не запятнанные грамматикой, синтаксисом, пропусками между словами. Подобным же образом станет описывать свою внутреннюю языковую раздвоенность между словом устным и письменным другой испаноязычный американец Густаво Перес-Фирмат, признаваясь, что предпочел бы писать всегда только по-английски, а говорить — только по-испански. По мнению Родригеса, язык связывал невидимыми внутренними нитями его семью, и одновременно, отделял, отчуждал ее от остальной Америки. Мир домашний был, таким образом, согласно криптоэтничной культурной модели, мексиканским и испаноязычным, а более широкий мир вокруг — американским и англоязычным. Поэтому отказ от подобного правила воспринимается и Родригесом, и его семьей, как посягательство на незыблемость двух миров, двух точек отсчета, отказаться ни от одной из которых он не в силах. Уже в семилетнем возрасте автор совершает верный, с его точки зрения, выбор: он называет себя не Рикардо Родригесом, но «Рич-эрдом Роуд-Ри-и-гесом», американским гражданином с полным правом говорить по-английски и иметь свое американское «я», используя преимущества этого образа, будучи студентом, а затем и писателем. В отличие от ярости, как основного движущего элемента многих автобиографий пограничья, Родригес в силу своей достаточно ассимиляционной позиции (какой бы позерской она и не оказалась в итоге) закономерно склонен говорить о вине, которой в зрелые годы сковывался его язык всякий раз, когда ему нужно было произнести слово по-испански, так что он ощущал себя совершившим первородный грех сменыиспанского на английский, «pocho», ассимилированным мексиканцем, оставившим безоглядно свое прошлое и родную культуру.
В последней части книги внимание автора окончательно смещается с собственной личности на проблему смысла написания автобиографии, на переоценку взглядов на сам этот жанр. «Голод памяти» здесь надевает маску «ученого», искушенного текста. Сам акт письма подобной автобиографии становится для Родригеса символической попыткой сделать свою частную жизнь достоянием окружающих и тем самым разрушить собственный двойственный модус, рассекающий надвое его существование. Хотя он и говорит, что жить двойной жизнью и иметь много идентичностей плохо и тяжело, но явно справляется с этой задачей довольно успешно. Выставление себя напоказ, более того, на суд «гринго», вызывает негодование и еще большее отдаление от него родителей, которые пытаются защитить историю семьи, но Родригес самим актом рассказывания глубоко личной истории незнакомой и, возможно, равнодушной или враждебной аудитории стремится заявить еще раз о своем праве на место в американской культуре. Автор, по существу, настаивает на том, что писательство на английском и, в частности, написание этой автобиографии помогло ему лучше понять себя, как американца, и сделало его окончательно независимым от родителей и их культуры.
Владение английским языком должно как бы служить косвенным и окончательным свидетельством полной ассимиляции. Но не зря книга называется все же «Голод памяти» и голод этот никуда не исчезает, несмотря на отчаянно декларирующуюся ассимиляцию, и его нужно насыщать, возвращаясь на «пограничье» этнического и культурного опыта — теперь уже лишь в воспоминаниях. Родригес пытается найти себе нишу в культуре, проложить мостик (не всегда успешно) между публичной сферой и личностным самовыражением, между американским и мексиканским, между испанским и английским, идя на поводу обманчивой иллюзии, в сети которой попадают и многие другие авторы. Текст Родригеса — это и болезненно-честноевыставление себя напоказ, и одновременно, бесстыдное, самоутверждающее повествование вполне западного постмодернистского типа. В подобной автобиографии исповедального характера в текст постоянно вплетается нить саморазоблачения, предотвращая или затрудняя разоблачения и обвинения «снаружи», извне этого текста и сознания «исповедующегося». В этом смысле, обилие казалось бы разоблачительных деталей как бы разоруживает читателя, превращая текст в итоге все равно в апологию и самоутверждение.
Автобиография Родригеса оказывается поэтому подозрительной, как большинство постмодерных автобиографий — ей «нельзя верить до конца». Только в случае с «автобиографиями пограничья» это недоверие обычно смягчается путем сознательного переноса мистификации в более объективную сферу — исторической, социальной, этно-расовой контекстуальности, а не категорий морально-нравственного, личностного выбора, как такового.
Память, как центральная метафора для Родригеса, возвращает его назад в детство, а также к семейным ценностям, к переосмыслению истинного значения которых он часто обращается в своем творчестве. Условность и искусственность «персоны» повествователя в «Голоде памяти», недоговоренности, провалы и умолчания, на которых основана нарративная игра Родригеса, становятся хорошо видны если совместить этот текст с эссе писателя под названием «Семейные ценности»55, написанным как своеобразный иронический отклик на очередную американскую политическую кампанию времен администрации Буша — в защиту «американских семейных ценностей». В этом небольшом, более позднем тексте Родригес как бы снимает со своего автобиографического «я» еще один слой вымысла, добавляя и новую грань к своей идентичности, так что рефреном звучавшие в «Голоде памяти» уверения рассказчика в его полной ассимиляции и полном соответствии англо-саксонским ценностям и нормам, предстают толукавством, то искусной мистификацией, то просто отчаянной попыткой убедить себя и других в собственной нормальности. Не последнюю роль здесь играет и тот факт, что семейные ценности и их истинный смысл для американцев в сознании Родригеса совмещаются с его глубоко личной дилеммой обретения и явления миру своей сексуальной ориентации. Сам рассказ оказывается приурочен к болезненному моменту, когда Родригес должен открыто рассказать об этом своей семье. И без того болезненный для любого «гея» момент усугубляется этно-расовым культурным комплексом неполноценности, от которого страдает наш автор, отчаянно убеждавший читателя в том, что он именно тот преуспевающий, загорелый университетский профессор, каким хочет казаться.
Играя теперь уже своими сексуальными идентичностями, Родригес «примеряет» на себя различные варианты возможных «я»: «Мне не нравится слово «дау», меня больше устраивает менее вежливое «queer», но своим родителям я скажу, что я гомосексуалист, чтобы избежать мексиканского сленга «joto», хотя это и менее унизительно, чем «maricón» (55; р. 229), — объясняет он.
Отталкиваясь от хрестоматийной идеи о том, что для «нормальной» (англосаксонской) Америки семейные ценности никогда не играли и не могли играть особой и тем более важной роли — это была страна «усыновленных, а не родных детей», в силу ее стремления к индивидуализму, нелюбви к маменькиным сынкам и особой экстравертности, Родригес неожиданно связывает тему сексуальной ориентации с семейными ценностями и сохранением традиций, приходя к парадоксальному выводу, что только люди. нетрадиционной сексуальной ориентации способны поддерживать традиции, в том числе и семейные, в современной Америке. Он объясняет это особой пластичностью гомосексуального сознания, которому пришлось признать присутствие инаковости в себе, что сделало их восприимчивыми к инаковости других — так что они могут «вообразить и тех, кто отказывается воображать их» (55; р. 232). Однако, даже в этом, достаточно смелом для Родригеса выступлении, он спешит заверить читателя в своей лояльности системе общественных норм и правил, высказываясь в пользу идеи о сохранении «священных» американских союзов (семейных). «гомосексуалистами-«компаньонами светских дам для походов в театр» (55; р. 233). Родригес называет себя аномалией почти такой же странной для современной Америки, как «традиционные семейные ценности». по-республикански, потому что он — католик-гомосексуалист, продолжающий жить в отвергающей его традиции. Тем самым он подчеркивает свое «несуществование», символическое небытие, как не существует «традиционных американских семейных ценностей», так не может быть, по определению, и католика-гомосексуалиста. Наконец, Родригес использует заезженную уже сегодня метафору «существования в шкафу», как символа гомоэротизма, в более широком смысле — не только и не столько сексуального выбора, но сохранения своей глубоко личной духовной сферы, области «секретов», которые играют в мире писателя огромную роль, в том числе и секретов от собственной семьи.
Автобиография Родригеса в каком-то смысле подходит под определение, предложенное исследовательницей Гейл Уалд, в отношении одной из самых ранних автобиографий пограничья — «Автобиографии бывшего цветного». Она называет эти повествования о культурных гибридах литературой расовой «похожести», попыток «сойти за» белого, или наконец, словами Дюбуа, рассказами «примирения», историями о преодолении социальных, культурных, расовых и юридических институтов, определяющих взаимоотношения противоположных расовых идентичностей, как и их значение в американской культуре56. И в ранней книге Джонсона, и в автобиографиях«примирения», вроде «Голода памяти» Родригеса присутствует незавершенность — процесс рассказывания автобиографии так же неостановим и бесконечен, как и процесс личностного самоопределения, причем условность и искусственность автобиографии подчеркивается уже тем, что она пишется человеком, пытающимся поглядеть на свое «я» со стороны, тем самым очуждая его. Но отрицая свое прошлое — в форме ли частички «экс» (экс-цветной Джонсона), или в форме ностальгии о невозможном, невосстановимом и неприемлемом прошлом у Родригеса, они все равно прежде всего, его воссоздают. Экс-цветной лишь притворяется белым, проявляя чудеса мимикрии и не идентифицируя себя с предметом подражания. Он застревает «между», как все пограничные персонажи. Золотой доллар с просверленной дырочкой — подарок несуществующего белого отца — становится символом «испорченной», вышедшей из обращения, неразрешенной идентичности «бывшего цветного», «бывшего пианиста», променявшего свой талант музыканта на сомнительные удобства культурной мимикрии. Герой Родригеса, по существу, остается в тисках тех же дилемм, хотя для него писательство и особенно, написание автобиографии оказывается символическим знаком не только реализации собственного права на власть и способности манипулировать чужим восприятием, но и попыткой концептуализации глубоко личностной и неразрешенной дуальности.«Воительница»Мэксин Хонг Кингстон Двойственный, противоречивый,«пародия» на (само)иронический дискурс отличает и этническуюавтобиографию. упоминавшуюся уже автобиографию Мэксин ХонгКингстон «Воительница. Воспоминания о детстве среди призраков» (1976)57, долгое время воспринимавшуюся как подлинная автобиография и изучавшуюся как документальная проза, пока ей, наконец, не присвоили неуклюжее и ничего не значащее имя «литературной автобиографии». Многие критики китайско-американского происхождения склонны рассматривать эту книгу вне китайско-американской традиции (в том числе и прежде всего, автобиографической) поскольку в ней якобы «слишком много вымысла и идиосинкразии», текст «не достаточно типичен и характерен для китайско-американского опыта в целом и потому плохо служит целям знакомства белой аудитории с особенностями китайско-американского наследия, в конечном счете, способствуя выработке неправильного стереотипа». Эти доводы можно было бы принять, если бы речь шла обобычной этнической автобиографии, основанной на пресловутой «племенной психологии». Но перед Кингстон вовсе не стояла задача показать то, что более типично или выразить суть китайско-американского опыта как такового58. Ее роман представляет собой прежде всего, выражение предельно личностной, индивидуальной сферы, хотя и в ее соотнесенности (или попытках соотнестись) с различными субкультурными, групповыми традициями. Но будучи и постмодернистской автобиографией, «Воительница» постоянно подчеркивает условность грани между фактом и вымыслом, одновременное существование нескольких «я» героини, принадлежащих разным культурными мирам, временам, топосам.
Кингстон постоянно привлекает внимание читателя к тому зазору, что существует между нею, как автором и автобиографической героиней. При этом критическое, «недоверчивое» отношение к рассказчице и ее представлениям об американской и китайской культурах — ключ к верному прочтению. «Воительница» не случайно часто получает определение «романа становления» китайско-американской женщины, в котором автор не стремился показать, что из себя представляют Китай, китайцы или даже американо-китайцы, но был занят определением духовного, психологического, этического становления и развития повествовательницы, как индивида.
Книга Кингстон как бы постоянно колеблется между разными полюсами «двойственного сознания» пограничья. Опыт «своего» в культуре, осознаваемый в процессе написания биографии, обретает аутсайдерский, «чужой» оттенок в виде критического, отстраненного отношения к собственной «инаковости». Иначе говоря, в процессе создания книги Кингстон, как и Родригес, пытается примирить с самим собой этот двойственный дискурс с тем, чтобы выдумать, сфабриковать и скормить ничего не подозревающему читателю определенную «этно-культурную» маску. Так возникает у нее сложный, состоящий из различных, совершенно несочетаемых напластований фрагментарный «образ» воительницы, как американского писателя. Это безусловно образ с двойным дном, в котором символическое отрицание зла, что пришлось пережить китайцам в США и зла, которое женщины переживают в традиционной китайской культуре, помимо всего прочего окрашены в сугубо личностные и писательские тона.
Фольклорная традиция, на которую вроде бы опирается Кингстон, оказывается практически целиком фиктивной, фальшивой и вымышленной, в чем ее также нередко обвиняют борцы за сохранение чистоты мифологических и фольклорных корней. В определенной мере, подобное придумываниефольклорной традиции, составление рассказов заново, из обрывков известных элементов и образов, сигнализирует о предельной удаленности героини от этой традиции и потому о вынужденном использовании ею собственного творческого воображения (часто деструктивного) для заполнения смысловых и метафорических провалов, которые образовались в ее представлении о бывшей родной культуре. История «женщины без имени» (тетки повествовательницы), воительницы Фа Му Лан, матери героини — Храброй Орхидеи и наконец, ее собственная история, как и ряд менее значительных женских историй в книге — выдуманы, сконструированы из часто жалких и фрагментарных обрывков «недо-знания».
Примеры языкового восприятия чужой культуры, упоминавшиеся выше, касались все же языков европейских, пусть и в меньше мере, что английский, но все же основанных на сходных онтологических принципах, элементах репрезентации, рационализации по западному образцу. В случае же с Кингстон языковая «пропасть» между английским и китайским почти непреодолима и далеко выходит за рамки только лингвистические. Писательница, подчеркивая роль английского в формировании ее культурной идентичности, а затем и авторского «я», имеет в виду прежде всего не столько сам язык, сколько связанную с ним логику, рациональное мироосмысление, прагматическую «простоту» объяснимого мира, раскрытые тайны мироздания, сведенные к едва ли не механическим законам, полное отсутствие иносказания, и наконец, четкое дихотомическое деление между правдой и вымыслом, свойственные, по ее мнению, Америке. Но даже саму эту прямоту и однозначность американского миропонимания она воспринимает посредством китайского иносказания, особого характера метафорики, смешивая два способа видения, две культуры, часто таким немыслимым образом, что рождается на свет абсолютно негармонический монстр-гибрид — сочетание несочетаемого. Тем самым не в языковых лакунах и «незнаниях», но как бы в самом способе видения, восприятия героини «просачивается» китайская культура и китайское же благоговение перед словом: «Будь внимательна к тому, что ты говоришь — оно может сбыться !», — повторяет мать героини. Восприятие мира реального и художественно претворенного, как слова (даже как текста) у Кингстон кажется абсолютно постмодернистским. Хотя при этом оно не перестает быть связано и с китайской традицией, косвенным подтверждением чему является и замечание автора о китайском сложном, неоднозначном восприятии личностной идентичности, которая дробится бесконечное число раз. «Американская модель» миро- и самоосознания, по мысли Кингстон, предполагает стремление к некому единству, однородности и, в конечном счете, однозначности. В китайской же традиции взаимоперетекающие идентичности, постоянно подвергающиеся метаморфозам — норма, что выражается, в частности, в языке и постоянно ставит героиню в тупик. «Мать называет меня неблагодарной Хо Чи Кей и я не могу найти значения этого слова — оно может означать все, что угодно — водяную лилию и мерзкое насекомое, незаконнорожденного карпа и швабру и тряпку — последнее также означает «жена». Представление о полюсе, противоположном материнским «призракам» и «умолчаниям», нарисованное героиней, способно вызвать у читателя разве что улыбку и это понимает прекрасно и автор: «Мне нравится, когда все тайны находят объяснения, я люблю пластик и периодические таблицы, «телеобеды» с простыми овощами, не хитрее морковки и зеленого горошка», — заявляет она в запальчивости.
Ключевой для автобиографии Кингстон является метафора призрака, вырастающая до предельно обобщенного, всеобъемлющего значения в тексте. Призрак — это не только привидение в буквальном смысле, это и любой «чужак», аутсайдер, не находящий себе постоянного и определенного места в культуре, системе ценностей, не соответствующий определенным нормам и потому ассоциирующийся с молчанием, с символической «пустотой», с физическим небытием. Отсюда назидательный рассказ и угроза матери героини: «Если ты будешь вести себя как утопившаяся тетка, сестра отца, то мы забудем, что ты жила на свете, что ты существовала». Закономерным является поэтому и восприятие американцев, как и большинства иностранцев (за исключением японцев) как призраков, живой пустоты, существующей по непонятным, «чужим» законам на своей «Золотой Горе», как и отсутствие всякой коммуникации с этими призраками. Рассказы матери, обрамленные автобиографией героини, представляют собой «истории умолчания», в то время как обрамление, напротив, стремится дать им голос, придать смысл, додумать и довообразить их до конца, по существу противопоставляя свою модель культурной и личностной идентичности (не вполне американскую, и конечно, не вполне китайскую), построенную по принципу текучести, парадоксов и противоречий, жесткой нормативной идентичности умолчания, практикуемой патриархальной китайско-американской общиной во враждебной среде.
Кингстон предлагает вниманию читателя занятную градацию «призраков», которой пользуется мать героини романа. Так, японцы для нее — единственные иностранцы (не-китайцы), которых она признает не призраками,но людьми, поскольку, согласно китайскому преданию, они являются потомками обезьяньего племени и похищенной ими китайской принцессы. В Америке окружающий враждебный мир и вовсе состоит из зловещих механизмов и «призраков» — белых призраков таксиста и почтальона, полицейского и пожарного, продавцов и социальных работников, и черных призраков, смеющихся и глядящих широко открытыми глазами, способных видеть окружающий мир и слышать других людей. Чтобы выжить нужно общаться с призраками в магазине и на почте, с молочным призраком и с мусорным призраком, у которых свой язык и свои представления обо всем, непонятные и нелогичные для родителей героини. Главным их отличием является то, что белые призраки лишены памяти. «Это ужасная страна призраков, в которой человек вырабатывает всю свою жизнь без остатка, не останавливаясь ни на миг», — говорит мать героини, — «страна, в которой время несется вперед в тысячи раз быстрее, чем в Китае (там один год равняется всей жизни, проведенной в США)». Доводы дочери в пользу объективного и единого повсюду времени и попытка декларировать собственную безместность как нейтральную норму (мы принадлежим всей Земле, а не определенному месту на ней) не удовлетворяют не только мать, но и автора, и даже саму героиню по прошествии всего лишь нескольких лет.
Метафора принудительного молчания, безголосья воспроизводится всякий раз, когда героиня попадает домой — она заболевает физически и теряет голос в буквальном смысле, снова теряет способность удовлетворительного самовыражения. «Боль в горле возвращается всякий раз, когда я говорю неправду или скрываю что-то». Написание автобиографии в какой-то мере является символическим актом закрепления автором своего с трудом обретенного голоса. Символическое же действие, проделанное над нею матерью в детстве — она подрезала ей язык, якобы чтобы та легко могла говорить на любом языке — интерпретируется дочерью как стремление лишить ее возможности выражать самое себя, так, словно ей подрезали крылья. Не умея еще свободно говорить по-английски в детском саду, героиня поначалу, отчасти воспроизводит свою немоту символически, раскрашивая все рисунки в черный цвет, и не умея еще объяснить, что это и театральный занавес непосредственно перед началом спектакля, перед тем, как огромное количество потенциальных возможностей этого мира раскроются перед зрителем. Стыд и «культурная немота» по мысли Кингстон выражаются в ее скрипучем, как бы надтреснутом, по-утиному крякающем, неуверенном и при этом резком и неприятном для американцев голосе. Принудительноемолчание, как норма, дурно влияет и на отношения матери и дочери, которая хотя бы своей книгой пытается создать видимость коммуникации с матерью.
Обыгрывание голоса и его отсутствия в символическом и буквальном смысле становится вообще одной из любимых метафор в «литературе пограничья». Так, в романе «Я возьму это на себя» (1997) Бхарати Мухери59, героиня Дэбби Ди Мартино, удочеренная американцами из Шенектеди, была когда-то брошена в индийской пустыне своими реальными родителями — калифорнийской «куколкой» — наркоманкой, занесенной в Индию вместе с наркодельцом и убийцей — «гуру», отцом девочки. Дэбби переназвавшая себя во имя мести Дэви Ди, и отправившаяся на поиски матери в Сан-Франциско, была едва не задушена «биологическими родителями», и порванные голосовые связки оставили ей на память хриплый, тихий голос, хотя он явно осознается и как знак душевных шрамов, как знак неуверенности в своем «я», в том, кто она — особая, другая, экзотическая или просто особенным образом невписывающаяся в повседневное существование захолустного городишки в штате Нью-Йорк.
Подобный же мотив встречается и в уже упоминавшейся автобиографической книге Одре Лорд, где воспроизведена в точности ситуация, описанная Кингстон. Только здесь символическая немота и подрезание языка как символ его освобождения, имеют и вполне реальное измерение —до 4 лет маленькая героиня не может научиться разговаривать, а в 4 года одновременно начинает говорить и читать.
Уже в самом начале «Воительницы» Кингстон заявляет, что «те из нас, кто был американцами в первом поколении, должны были понять, как невидимый мир, который выстроили иммигранты-родители вокруг нашего детства, мог сосуществовать с реальностью Америки». Писательница постоянно подчеркивает зазор, неравность культурной идентичности китайско-американских иммигрантов как группы, и каждой отдельной личности внутри нее, такой, как героиня автобиографии, и их столкновение и контраст рождают состояние динамического, хрупкого равновесия, создающего подспудную напряженность в книге. Отсюда и риторический вопрос Кингстон: «Когда мы пытаемся понять, что в нас китайского, а что нет, как мы можем отделить то, что впитали с детства, что идет от бедности, от отдельной конкретной семьи, наконец, от матери, которая отметила наше взросление историями. от того, что действительно китайское, а что — лишь клубок стереотипов, взятых в основном из фильмов и попкультуры ?» Кингстон на протяжении всей автобиографии волнует вопрос о зыбкости и условности
Заключение научной работыдиссертация на тему "Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века"
Заключение:
1 Козловски, П. Культура постмодерна. стр. 46.
2 Johannessen, L. Review: Multilingual America: Transnationalism, Ethnicity, and the Languages of American Literature. Ed. by W. Sollors, N.Y., 1998.// American Studies in Scandinavia. Vol. 31 — #1, 1999, p.87.
Список научной литературыТлостанова, Мадина Владимировна, диссертация по теме "Литература народов Европы, Америки и Австралии"
1. Adam, 1.n & Helen Tiffin, eds. Past the Last Post: Theorizing Post-Colonialism and Post-Modernism. Harvester Wheatsheaf, 1991.
2. Adams, H. The Education of Henry Adams. B., 1961, pp. 379—390.
3. Allen, P.G. Spider Woman's Granddaughters. N.Y., 1989.
4. Allen, P.G. The Autobiography of a Confluence. //1 Tell You Now. Ed. by Brian Swann & Arnold Krupat, University of Nebraska Press, 1987, p. 151.
5. Allen, P. G. Who Is Your Mother ? Red Roots of White Feminism. // Multicultural Literacy. Opening the American Mind. Ed. By Rick Simonson &Scott Walker. Graywoolf Press, 1988, pp. 13—29.
6. Alvarez, J. Finding a Home in the Comunidad of Words. // Middlebury Magazine, Fall 1998, p. 38—39.
7. Alvarez, J. How the Garcia Girls Lost their Accents. Chapel Hill: Algonquin Books, 1991.
8. Alvarez, J. In the Time of the Butterflies. Chapel Hill: Algonquin Books, 1994.
9. Alvarez, J. Something to Declare. Algonquin Books, 1998.
10. Alvarez, J. ¡Yol, N.Y., 1997.
11. American Diversity. American Identity. Ed. by John K. Roth, N.Y., 1995.
12. American Identities. Contemporary Multicultural Voices. Ed. by Robert Pack and Jay Parini. Middlebury College Press, 1994.
13. Anaya, R. Bless Me, Ultima. 1972.
14. Anaya, R. & Francisco Lomelí eds. Aztlán: Essays on the Chicano Homeland. Albuquerque: Academia/EI Norte, 1989.
15. Anzaldúa, G. & Cherríe Moraga, eds. This Bridge Called my Back.: Writings by Radical Women of Color. N.Y. Kitchen Table Women of Color, 1984.
16. Anzaldúa, G. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco, 1987.
17. Anzaldúa, G. Making Face, Making Soul. San Francisco, 1990.
18. Anzaldúa, G. Tlilli, Tlapalli: The Path of the Red and Black Ink. // Multicultural Literacy.pp. 29—40.
19. Arias, R. The Road to Tamazunchale. N.Y., Doubleday, 1992.
20. Baker, H. A. Blues, Ideology, and Afro-American literature: A Vernacular Theory. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
21. Barth J. The Literature of Replenishment. // Barth J. The Friday Book. Essays and other Nonfictions. N.Y., 1984, pp. 193—206.
22. Bellamy, E. Looking Backward: 2000—1887. B., 1888.
23. Bennett, A. Literary Taste : How to Form It. N.Y., 1927.
24. Berlant, L. & Warner, M. Critical Multiculturalism. Chicago Cultural Studies Group. // Multiculturalism. A Critical Reader.pp. 114—139.
25. Bhabha, H. K. Nation and Narration. L.& N.Y. , 1990.
26. Bhabha, H. K. The Location of Culture. L.& N.Y., 1994.
27. Bhabha, H. K. On the Irremovable Strangeness of Being Different. // PMLA, January, 1998, pp. 34—39.
28. Bloom, Al. The Closing of the American Mind. N.Y., 1987.
29. Bloom, H. The Western Canon. The Books and Schools of the Ages. N.Y., 1994.
30. Bourne, R. Trans-National America.// Atlantic Monthly, 118, July 1916, p. 93.
31. Bradford, Ph. V. and H. Blume, Ota Benga: The Pygmy in the Zoo. St Martin's Press, 1992.
32. Bromley, R. Narratives for a New Belonging — Writing in the Borderlands. // Cross-Addressing. Resistance Literature and Cultural Borders. N.Y., 1996, pp. 275—299.
33. Brooks, V.W. On Creating a Usable Past.// Van Wyck Brooks: The Early Years. London, 1968, pp. 219—226.
34. Brown, R.M. Dolley. A Novel of Dolley Madison in Love and War. Bantam Books, 1994.
35. Brown, R. M. Rubyfruit Jungle. N.Y. 1977.
36. Butler, J. Still Southern After all These Years. // The Future of Southern Letters. Ed. by Jefferson Humphries and John Lowe.N.Y., 1996.
37. Butler, R.O. A Good Scent from a Strange Mountain. N.Y., 1993.
38. Cable, G.W. The Grandissimes. N.Y., 1988.
39. Calderon, H. & José David Saldivar. Criticism in the Borderlands: Studies in Chicano Literature, Culture and Ideology. 1991.
40. Cantwell, R. Ethnomimesis: Folklife and the Representation of Culture. University of North Carolina Press, 1992.
41. Castillo, Ana, Sapogonia : An Anti-Romance in 3/8 Meter. Nempe, Aris.: Bilingual, 1990.
42. Castronovo, R. Compromised Narratives Along the Border: The Mason-Dixon Line, Resistance, and Hegemony. // Border Theory. pp. 195 — 220.
43. Carabi, Angels. Interview with Toni Morrison. // Belles Lettres. 10.2, 1995.
44. Chin, F. Chickencoop Chinaman & the Year of the Dragon. University of Washington Press, 1982.
45. Cisneros, S. The House on Mango Street. Huston, Tex: Arte Publico, 1984.
46. Cliff, M. A journey into Speech //The Graywolf Annual Five: Multicultural Literacy. pp. 57—62.
47. Codrescu, A. Messiah. N.Y., 1999.
48. Cowley, M. After the Genteel Tradition. N.Y., 1937.
49. Cultural Difference and the Literary Text. Ed. by Winfried Siemerling & Katrin Sehwenk, Iowa, 1996.
50. Cultural Pluralism and the American Idea. Philadelphia, 1956.
51. Cunningham, R. Writing on the Cusp: Double Alterity and Minority Discourse in Appalachia.// The Future of Southern Letters.pp. 41— 53.
52. Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizofrenia. Trans. Robert Hurley, Mark Seem, and Helen Lane. New York, 1977.
53. Denard, Carolyn, The Convergence of Feminism and Ethnicity in the Fiction of Toni Morrison. // Critical Essays on Toni Morrison. Ed. by Nellie McKay. Boston, 1988, p. 172.
54. Doren, Carl Van, Toward a New Canon. // The Nation, April 13, 1932, pp. 429— 430.
55. DuBois, W. The Souls of Black Folk. 1903, Reprint. N.Y., 1989.
56. Eaglton, T. Literary Theory. An Introduction. Oxford, 1983.
57. Eco, U. Does Counter-culture Exist ?//Apocalypse Postponed. Indiana University Press, 1994, p. 115—128.
58. Eliot, T.S. The Sacred Wood. L., 1950.
59. Eliot, T.S. Tradition and Individual Talent. // The Idea of Literature. Moscow, Progress Publishes, 1979, pp. 213—221.
60. Eliott, Emory, ed. Columbia Literary History of the United States. N.Y., 1988.
61. Emerson in his Journals, sel. And ed. by Joel Porte, Harvard University Press, 1982
62. Erdrich, L. Love Medicine. Holt, Reinhart & Winston, 1993 (1989).
63. Fannon, F. Black Skin, White Masks. N.Y., 1967.
64. Fannon, F. The Wretched of the Earth. N.Y., 1968.
65. Fisk, J. Manifest Destiny. N.Y. Harpers, 1885.
66. Fisk, J. The Destiny of Man. N.Y., 1884.
67. Ford, R. Independence Day. N.Y., 1995.
68. Ford, R. The Sportswriter. N.Y., 1986.
69. Foucault, M. Histoire de la Sexualite. P. 1976—1984, Vol. 1—3, p. 14.
70. Frye, N. Anatomy of Criticism. Princeton University Press, 1957.
71. Gaines, E. J. Bloodline. N.Y., 1976.
72. Gates, Jr. H.L. Figures in Black: Words, Signs and the «Racial» Self. N.Y., 1987.
73. Gates, Jr. H. L. Good-Buy, Columbus ? Notes on the Culture of Criticism. // Multiculturalism. A Critical Reader. Ed. by David Theo Goldberg, Blackwell, 1995.
74. Gates, Jr. H. L. The Blackness of Blackness: A Critique of the Sign and the Signifying Monkey. // Black Literature and Literary Theory. Ed. by H.L. Gates. N.Y., 1984
75. Gates, Jr. H.L. The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism. N.Y., 1988.
76. Geertz, C. The Interpretation of Cultures. N.Y., 1973.
77. Geertz, C. The Uses of Diversity. // Michigan Quarterly Review, 25, 1986.
78. Giroux, H. E. Insurgent Multiculturalism and the Promise of Pedagogy. // Multiculturalism. A Critical Reader.pp. 325—343.
79. Gitlin, Todd, The Coloring of America. // The Twilight of Common Dreams. Why America is Wracked by Culture Wars ? N.Y., 1995, pp. 107—125.
80. Goldberg, David Theo ed. Multiculturalism. A Critical Reader. Ed. by David Theo Goldberg, Blackwell, 1995.
81. Gomes-Peña, G. Documented/Undocumented. //Multicultural Literacy. pp. 127—128.
82. Greenlaw, E. The Province of Literary History. L., 1931.
83. Grossberg, L. Cary Nelson, and Paula Treichler, eds. Cultural Studies. N.Y., 1992.
84. Hannah, B. Bumerang. B., 1989.
85. Hannah, B. Hey, Jack. N.Y., 1987.
86. Hegi, U. Stones from the River. N.Y., 1994.
87. Hicks, D. E. Border Writing: The Multidimentional Text. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1991.
88. Hijuelos, O. Our House in the Last World. N.Y., 1983.
89. Hijuelos, O. The Mambo Kings Play Songs of Love. N.Y., 1989.
90. Hinojosa, R. The Valley. Tex., 1983.
91. Hughes, R. American Visions. The Epic History of Art in America. N.Y., 1997.
92. Humphries, J. The Discourse of Southernness. // The Future of Southern Letters. Ed. by Jefferson Humphries and John Lowe.N.Y., 1996, pp. 119—133.
93. Hutcheon, L. Crypto-Ethnicity. // PMLA, January 1998, pp. 29—33.
94. Hwang, D. H. M. Butterfly. L.A.1988.
95. James, H. The Art of the Novel. Critical Prefaces by Henry James. N.Y., 1962.
96. James, W. A Pluralistic Universe. N.Y., 1909.
97. Jameson, F. Postmodernism Or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1991.
98. JanMohamed, A.R. Worldliness-without-World, Homelessness-as-Home. Toward a Definition of the Secular Border Intellectual. // Edward Said : A Critical Reader. L., 1993.
99. Jay, P. Contingency Blues: The Search for Foundations for American Criticism. 1997.
100. Jay, G. American Literature and the Culture Wars. Cornell University Press, 1997.
101. Jay, G. America the Scrivener. Cornell University Press, 1990.
102. Johannessen, L. Review: Multilingual America: Transnationalism, Ethnicity, and the Languages of American Literature. Ed. by W. Sollors, N.Y., 1998. I/American Studies in Scandinavia. Vol. 31 # 1, 1999, pp. 85—87.
103. Johnson, J. W. The Autobiography of an Ex-Colored Man. 1912. Reprint. 1990b.
104. Johnson, D. The Time of Translation: The Border of American Literature. //109110111112113114115116117118,119120,121,122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.
105. Border Theory.pp. 129—168. Jong, E. Fear of Flying, N.Y., 1973.
106. Jong, E. How I Got to Be Jewish. //American Identities. pp. 90 —100. Jong, E. Inventing Memory. N.Y., 1997.
107. Kermode, F. The Classic: Literary Images of Permanence and Change. N.Y., 1975.
108. Kristeva, J. Etrangers à nous mêmes, P. 1991.
109. Kristeva, J. Nations without Nationalism. Columbia University Press, 1993.
110. Krupat, A. Ethno-criticism. Berkley, University of California Press, 1992
111. Kuhn, Th. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962.1.uter, P. Canons and Contexts. N.Y., 19911.rner, M. America as a Civilization. N.Y., 19871.vy-Warren, M. H. Moving to a New Culture: Cultural Identity, Loss, and
112. Morning. // The Psychology of Separation and Loss: Perspectives on
113. Development, Life Transitions, and Clinical Practice. Ed. by J. Bloom
114. Feshbach, Sally Bloom-Feshbach. San-Francisco, 1987.1.onnet, F. Autobiographical Voices: Race, Gender, Self-portraiture. Ithaca:
115. Mann, A. The One and the Many. Chicago, 1979.
116. Marshall, P. The Making of a Writer. From the Poets in the Kitchen. // Reena and other Stories. Old Westbury, N.Y., Feminist Press, 1983, p. 1—13. Mason, B.A. Feather Crowns. N.Y., 1993.
117. Matthiessen, F.O. American Renaissance. Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman. N.Y., 1941.
118. Matthiessen, F.O. Responsibilities of the Critic. N.Y., Oxford University Press, 1952.
119. Morrison, T. Beloved. N.Y., 1987.
120. Morrison, T. Jazz. N.Y., 1992.
121. Morrison, T. Paradise. N.Y., 1998.
122. Morrison, T. Playing in the Dark. Whiteness and the Literary Imagination.
123. Morrison, T. Recitative .// The Oxford Book of Women's Writing in the United States. Ed. by Linda Wagner-Martin and Cathy N. Davidson. N. Y., 1995, pp. 59—175.
124. Morrison, T. Tar Baby. B„ N.Y., 1981.
125. Morrison, T. The Bluest Eye. N.Y., 1970.
126. Morrison, T. The Sight of Memory. // Inventing the Truth: The Art and Craft of Memoir. Ed. by William Zinsser, Boston, 1995.
127. Mukherjee, B. A Four-Hundred-Year-Old Woman. // Critical Fictions. Seattle, 1991.
128. Mukherjee, B. A Wife's Story. // The Woman that I am. The Literature and Culture of Contemporary Women of Color. Ed. by D. Soyini Madison. N.Y., 1994, p. 236—246.
129. Mukherjee, B. An Interview with Bharati Mukherjee. By Geoff Hancock. // The Canadian Fiction Magazine. 59, 1987, pp. 30 — 44.
130. Mukherjee, B. Jasmine. L., 1991.
131. Mukherjee, B. Leave it to Me. N.Y., 1997.
132. Mukherjee, B. Orbiting. // The Middleman and other Stories. pp. 57—75.
133. Mukherjee, B. The Middleman and other Stories. N.Y., 1988.
134. Multicultural Literacy. Opening the American Mind. Ed. By Rick Simonson & Scott Walker. Graywoolf Press, 1988.
135. Mura, D. Turning Japanese. Memories of a Sunsei. N.Y., 1991.
136. Mura D. Strangers in the Village. // Multicultural Literacy. pp. 135—155.
137. Nabokov, V. The Annotated Lolita. N.Y., 1991.
138. Naylor, G. Bailey's Cafe. N.Y., 1992.
139. Naylor, G. The Women of Brewster Place. N.Y., 1982.
140. Olney, J. Autobiographical Traditions Black and White. //The Future of Southern Letters. pp. 134—143.
141. Perez-Firmat, G. Do the Americas have a Common Literature ? N.Y., 1990.
142. Perez-Firmat, G. Next Year in Cuba. A Cubano's Coming of Age in America. N.Y., 1995
143. Percy, W. The Second Coming. N.Y., 1980.
144. Pound, E. ABC of Reading. N.Y., 1960.
145. Pynchon, T. Mason&Dickson. N.Y., 1997.
146. Ravitch, D. Multiculturalism; E. Pluribus Plures. // The American Scholar, Summer 1990.
147. Reed, I. Flight to Canada. N.Y., 1976.
148. Reed, I. Mumbo, Jumbo. N.Y., 1972.
149. Reed, I. Writin' is Fightin'. N.Y., 1988.
150. Rich, A. Split at the Root // Blood, Bread, and Poetry. N.Y., 1986, pp. 100— 123.
151. Ritzer, G. The McDonaldization of Society. Thousand Oaks, California, 1996.
152. Robinson, C. Ota Benga's Flight through Geronimo's Eyes. Tales of Science and Multiculturalism. // Multiculturalism. A Critical Reader.pp. 388—405.
153. Rodriguez, R. Family Values. // American Identities. Contemporary Multicultural Voices.pp. 229—235.
154. Rodriguez, R. Hunger of Memory: The Education of Richard Rodriguez, Boston, 1982.
155. Rorty, R. On Ethnocentrism. // Michigan Quarterly Review, 25 1986, p. 532— 533.
156. Rosaldo, R. Culture and Truth. B., 1989
157. Roth, Ph. American Pastoral. N.Y., 1997.182183184185186187188189190191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.
158. Roth, Ph. Portnoy's Complaint. N.Y., 1969. Roth, Ph. Patrimony. N.Y., 1991.
159. Roth, Ph. The Facts. A Novelist's Autobiography. N.Y., 1988. Rudin, E. New Mestizos: Traces of the Quincentennary Miracle in Old World Spanish and New World English Texts. // Cultural Difference and the Literary Text. pp. 112—129.
160. Ruland, R. & M. Bradbury. From Puritanism to Postmodernism : A History of American Literature, Viking Press, 1991. Said, E. Culture and Imperialism, N.Y., 1994 Said, E. Orientalism. N.Y., 1978.
161. Said, E. Representing the Colonized: Anthropology's Interlocutors. // Critical Inquiry, 15, 1989, p. 225.
162. Said, E. The Politics of Knowledge. // Raritan, 11.1, 1991.
163. Said, E. The World, the Text and the Critic. Harvard University Press, 1983
164. Said, Edward, Covering Islam. N.Y., 1981.
165. Saldivar, J. D. Border Matters. Remapping American Cultural Studies. Los Angeles, 1997.
166. Sollors, W. Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. Oxford University Press, 1986.
167. Spider, R. E. et. al. Literary History of the United States. 3 ed. London, 1963. Spivak, G. Ch. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. N.Y., 1987. Spivak, G.Ch. The Postcolonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues. N.Y., 1990.
168. Staten, H. Ethnic Authenticity, Class, and Autobiography: The Case of
169. Hunger of Memory".// PMLA, January, 1998, pp.103—114.
170. Susman, W. I. Culture as History. The Transformation of American Society inthe XX Century. N.Y., 1984.
171. Takaki, R. A Different Mirror. N.Y., 1993.
172. Tan, A. The Kitchen God's Wife. N.Y., 1991.
173. Tan, A. The Joy Luck Club. N.Y., 1989.
174. Taylor, Ch. Multiculturalism and "The Politics of Recognition". Princeton, Princeton University Press, 1992. The Vintage Mencken. N.Y., 1990.
175. Tocqueville, Alexis De. Democracy in America. Harper Collins, 1988. Todorov, T. "Race", Writing and Culture. // "Race", Writing and Difference. Ed. by Henry Louis Gates, Jr. Chicago, 1985.
176. Todorov, T. On Human Diversity: Nationalism, Racism and Exoticism in French Thought. Harvard University Press, 1993. Toni Morrison. Contemporary Authors. Gail Research, 1993. Trilling, L. The Liberal Imagination. N.Y., 1950.
177. Turner, F. J. The Significance of the Frontier in American History. Madison: State Historical Society of Wisconsin, 1894.
178. Tyler, A. Introduction. // Best of the South . Selected and Introduced by Ann
179. Tyler. From Ten Years of New Stories from the South. Ed. by Shannon
180. Ravenel. Algonquin Books of Chapel Hill, 1996, p. xi—xii.
181. Tyson, L. Critical Theory Today. N.Y., 1999.
182. Updike, J. The Brazil. N.Y., 1994.
183. Updike, J. The Coup. N.Y., 1978.
184. Updike, J. Toward the End of Time. N.Y., 1997.
185. Vidal, M.C. The Death of Politics and Sex in the Eighties Show. // New1.terary History. Charlottesville. 1993. — Vol. 24, # 1, pp. 171—194.
186. Villanueva, A. L. Ultraviolet Sky. 1988.
187. Villarreal, J. A. Pocho. N.Y., 1959.
188. Vonnegut, K. Harrison Bergeron. // Welcome to the Monkey House. N.Y., 1988, pp. 7—13.
189. Wald, G. The Satire of Race. //Cross-Addressing. Resistance Literature and Cultural Borders.pp. 139—156.
190. Walker, A. Elethia. // You Can't Keep a Good Woman Down. Short Stories. N.Y., 1981, pp. 27—30.
191. Walker, A. In Search of Our Mothers' Gardens. San Diego, 1984.
192. Walker, A. Nineteen Fifty-five. // You Can't Keep a Good Woman Down. pp. 3—20.
193. Wallace, M. Invisibility Blues. // Multicultural Literacy. pp. 161—173.
194. Weber, R. Richard Ford's Uncommon Characters. // New York Times Magazine. 1988, April 10, p. 50, 63.
195. Webster, Y. O. Against the Multicultural Agenda. A Critical Thinking Alternative. Westport, Connecticut, 1997.
196. Wells, R. Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood. Harper Perennial, 1996. t 232. Welty, E. Keela, the Outcast Indian Maiden. // The Collected Stories of
197. Eudora Welty. N.Y., 1980, pp. 38—45.
198. Welty, E. One Writer's Beginnings. Harvard University Press, 1983
199. White, E. Forgetting Elena. N.Y., 1973.
200. Whitman, W. Leaves of Grass. Ed. by Sculley Bradley. N.Y., 1973.
201. Whitton, B. Herder's Critique of the Enlightenment: Cultural Community versus Cosmopolitan Rationalism. // History and Theory. 27(2), 1988, pp. 146—168.
202. Yamamoto, H. Seventeen Syllables. // The Oxford Book of Women's Writing in the United States. Ed. by Linda Wagner-Martin and Cathy N. Davidson, N.Y., 1995, pp. 83—94.
203. Адаме, Г. Воспитание Генри Адамса. Москва, Прогресс, 1988
204. Бахтин, М. М. Собр. Соч. в семи томах. Т.5, М. 1996
205. Ващенко, А. Америка в споре с Америкой . М., Знание, 1988/3.
206. Гачев, Г. Американский образ мира, или Америка глазами человека, который ее не видел. // Национальные образы мира. Космо-психо-логос. М., Прогресс, 1995.
207. Делез, Ж. Логика смысла. Раритет, Москва, 1998.
208. Джеймс, У. Психология. М., 1991.
209. Джеймс, У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993.
210. Земсков, В. Б. Проблема культурного синтеза в пограничных цивилизациях. // Российский цивилизационный космос. М., Издательский дом «Эйдос», 1999, стр. 240—252.
211. Ильин, И. «Постмодернизм от истоков до конца столетия», М., «Интрада», 1998.
212. История литературы США. т. 1, «Наследие», Москва, 1997.
213. Кревекер, Сент-Джон де, Письма американского фермера. // У. Брэдфорд. История поселения в Плимуте. Б. Франклин. Автобиография. Памфлеты. Сент Джон де Кревекер. Письма американского фермера. М., «Художественная Литература», 1987.
214. Культурология. XX век. Энциклопедия, Санкт-Петербург, 1998.
215. Козловски П. «Культура постмодерна». Москва, «Республика», 1997.
216. Кофман, А. Ф. Латиноамериканский художественный образ мира. М., «Наследие», 1997.
217. Льюис, С. Страх американцев перед литературой.// Писатели США о литературе. Москва, «Прогресс», 1982, т. 1, 243—254.
218. Набоков, В. В. Ада или радости страсти. Семейная хроника. Санкт-петербург, «Симпозиум», 1997.
219. Паррингтон, В.Л. Основные течения американской мысли. М., 1962.
220. Пелипенко, А. Яковенко И. Культура как система. М., 1998.
221. Покровский Н.Е. Ранняя американская философия. М., Высшая школа. 1989.
222. Померанц, Г. Диалог культурных миров. // Лики культуры. Альманах. Т. 1, Москва, 1995, стр.445—455.
223. Проблемы становления американской литературы. М., Наука, 1981.
224. Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. М, Наука, 1982.
225. Фуко, М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
226. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. A-cad, С.-П., 1994.
227. Хейзинга, Й. Homo Ludens. М., Прогресс, 1992.
228. Художественная жизнь современного общества. Субкультуры и этносы в художественной жизни. РАН, Ин-т искусствознания. Отв. Ред. К.Б. Соколов, Санкт-Петербург, 1996.
229. Шкловский, В. Гамбургский счет. М. Советский писатель, 1990.