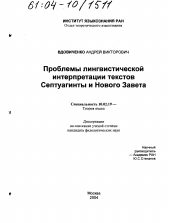автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.19
диссертация на тему: Проблемы лингвистической интерпретации текстов Септуагинты и Нового Завета
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата филологических наук Вдовиченко, Андрей Викторович
введение.з
глава 1. социо-культурно-религиозный фон.
1.1. Грекоговорящая иудейская диаспора как необходимое условие христианской проповеди.
1.2. грекоязычные сочинения иудеев и христианская литературная традиция
1.3. Иудейское и эллинское в "Иудейских Древностях" Иосифа Флавия: 8iKai-, то есть р-га?.
1.4. К вопросу о методологии истолкования текста: Евангелие от Матфея,
27.19;24: Slkcuos — reus, Sikcuos—рн^('рз)?.
глава 2. тексты и способы их описания.
2.1. Древнееврейский нарративный синтаксис в языке Септуагинты и Нового Завета.
2.2. Традиционный литературный эпический язык Евангелий: новая модель описания.
глава 3. дискурс—текст—слово.
3.1. Хаос в лингвистическом материале как проблема метода.
3.2. Септуагинта в дискурсивной парадигме описания лингвистического материала.
3.3. Интертекстуальность и дискурсивно-лингвистический подход.
3.4. Лексема и дискурс.
3.5. Этимология в свете дискурсивной парадигмы описания лингвистического материала.
Введение диссертации2004 год, автореферат по филологии, Вдовиченко, Андрей Викторович
Актуальность исследования иллюстрируется вполне оправданными сомнениями — возможны ли тексты Новозаветного корпуса в том статусе, который предлагает видеть в них лингвистическая интерпретация, традиционная для науки 20-го века? Как известно, продукцией принятого и господствовавшего интерпретационного механизма стала констатация простоты, полуграмотности и билингвальности (интерференционности) грекоязычных иудейских и иудео-христианских сочинений, к числу которых прежде всего относятся тексты Септуагинты и Нового Завета. При этом авторитет «точного» лингвистического знания вступает в откровенное противоречие с авторитетом бесспорных фактов социо-культурно-религиозной истории. Так, следует признать очевидно взаимоисключающими два обстоятельства: многовековую религиозную и литературную традицию, которую создала и в которой эволюционировала грекоговорящая иудейская община диаспоры, — и возникновение в ее русле «неправильных, полуграмотных» текстов, созданных субъектами самой традиции для субъектов той же традиции. В том же смысле можно недоумевать по поводу другого противоречия: Септуагинта в иудейской общине Александрии ко времени Филона уже как минимум два века почиталась в качестве священной богодухновенной Книги Книг, однако, согласно ныне существующей лингвистической интерпретации, этот текст представляет собой «рабски пословный перевод, изобилующий семитизмами» и прочими языковыми погрешностями. Диссонанс лингвистической и историко-культурно-религиозной интерпретаций заставляет усомниться в самом способе лингвистического описания, который провоцирует концепты, непригодные для создания непротиворечивой лингво-культурной картины.
Соответственно, целью диссертации является попытка наметить пути к более 'адекватному лингвистическому статусу Септуагинты и Новозаветного корпуса. Для этого в исследовании ставились и решались следующие задачи:
Осветить существенные черты социо-культурно-религиозной интерпретации (культурный фон);
Обозначить противоречивость результатов социо-культурно-религиозной и лингвистической интерпретаций;
Наметить некоторые теоретически значимые аспекты процедуры лингвистической дескрипции, необходимые для получения более адекватных результатов описания (понятие лексемы, значения, осознанной коммуникативной ситуации, или дискурса, момента коммуникативной ситуации, дектической синтагмы и др.).
Материалом исследования послужили, с одной стороны, корпус текстов Септуагинты и Нового Завета, с другой, — существующие практики их описания, представленные в специальных исследованиях, а также некоторые базовые лингвистические понятия, составившие основу этих практик.
В качестве методологических оснований в работе используется сопоставительный и описательный методы. Направление предлагаемого изменения способов описания текстового материала, как нам представляется, умещается в русле общего изменения гуманитарной парадигмы знания — от «объектной» к «субъектной». В области лингвистической теории этот вектор реализуется как переход от «слово-изолирующей» и «слово-ориентированной» модели к коммуникативной, или дискурсивной. Если первая состоит в определении по возможности точных «значений» предметного элемента речи — сем, морфем, лексем, словосочетаний, предложений и текстов, в признании за вербальным материалом автономной системности и объективности (соссюровский щ, langue, хомскианская language competence), то вторая гораздо менее доверяет языковой предметности. В ней вербальный элемент речемыслительного процесса не обладает собственной причинностью и самотождественностью, т.е. не мыслится свободным от говорящего (пишущего), который по сути представляет собой подвижную систему координат. В этой системе предметные элементы вербальных действий («слова») получают значение (т.е. используются адресантом и понимаются адресатом) по мере вовлечения в актуальное субъектное действие, осуществляемое в мыслимом коммуникативном пространстве. Понятие о «системе языка» как системе словесного материала (звуков, фонем, морфем, лексем и пр.) претерпевает радикальные изменение ввиду отсутствия самостоятельных самотождественных значений в словесном % материале. На смену системе в соссюровском смысле приходит осознаваемая невербальная типология коммуникативных ситуаций, или типология дектических синтагм, изменяющая восприятие традиционных лингвистических фактов. Модель описания лингвистического материала, скорректированная в этом направлении и ставшая коммуникативной (дискурсивной), позволяет констатировать, что грекоговорящие иудеи диаспоры эллинистического времени имели свой аутентичный способ создания священных текстов — традиционный литературный сакральный «язык», т.н. Jewish Greek, «иудейский греческий».
Научная новизна диссертации состоит в изменении модели лингвистического описания текстов Септуагинты и Нового Завета, в формулировании некоторых положений, значимых для общей теории лингвистики. W
Практическое значение диссертации определяется возможностью использовать результаты и материалы исследования как в области теории лингвистики, так и в более специальной области библейской филологии.
Апробация работы. Основные положения диссертации освещены в ряде публикаций. Материалы и результаты работы над исследованием нашли отражение в ряде выступлений на российских и международных конференциях, проводимых Институтом языкознания РАН, филологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, Свято-Тихоновским богословским институтом, Обществом «Сефер», при проведении лекций, семинаров и спецкурсов в МГУ, ПСТБИ, РГГУ.
Структура работы.
Главы диссертации образуют последовательность — от обсуждения социо-культурно-религиозного фона, или той аутентичной ситуации, которая послужила прямой и косвенной причиной фактов коммуникации $ (текстов) — к способам понимания самого лингвистического вербального материала.
В главе 1 «Социо-культурно-религиозный фон» затрагиваются вопросы взаимоотношений эллинской и иудейской цивилизаций эллинистического времени, их литературных традиций, а также вопросы единства грекоязычной иудейской и христианской литературных традиций. Внимание сосредоточено на когнитивном способе описания гуманитарной действительности, который заключается в воссоздании мыслительной схемы, аутентичной сознанию участника события (автора текста). Интерпретация стремится к адекватности только по мере приближения к когнитивной схеме, которую строит (некогда построил) участник события (автор текста). Это и будет «значением» данного лингвистического или экстралингвистического факта.
В главе 2 «Тексты и способы их описания» рассматриваются практики описания текстов Септуагинты и Нового Завета, обнаруживаются противоречия традиционной схемы описания, предлагается новая концепция статуса этих текстов, следующая из аутентичных условий их создания и общих закономерностей речепорождения (отношение «автор— аудитория», различие литературного и устного языка, действенность любого вербального факта, осознанная в коммуникативном пространстве и др.). Схема описания, предлагаемая немецкой и английской научной традицией, невозможна в той же мере, в какой, например, невозможно появление «разговорных полуграмотных» текстов в современной практике православного богослужения — в обоих случаях имеет место многовековая традиция, устоявшиеся лингвистические практики, корпус текстов-образцов, традиционная аудитория, создающая аутентичное коммуникативное пространство, или «систему координат» для «исчисления» значений лингвистических фактов. Соответственно, в текстах Новозаветного корпуса (как и во многих других смежных с ними) речь идет о традиционном, эпическом, архаизирующем «языке», изъятом из повседневности, приуроченном к особой практике почитания Бога грекоязычных иудеев (первых христиан).
В главе 3 «Дискурс, текст, слово» затрагиваются вопросы теории лингвистического описания, сопоставляются «слово-ориентированные» и дискурсивные способы интерпретации вербального материала, рассматриваются традиционные лингвистические практики (перевод и др.) в связи и в свете коммуникативной (дискурсивной) парадигмы. Показывается, что обсуждаемые общелингвистические понятия, свойственные традиционной (античной, слово-ориентированной) парадигме описания лингвистических фактов, послужили созданию противоречивых схем описания текстов Септуагинты и Нового Завета. При изменении отношения к таким понятиям, как «лексическое значение», «языковая система», «язык», схема описания как этих, так и других лингвистических фактов существенно изменится. В работе предлагаются некоторые понятия, значимые для когнитивной (коммуникативной, дискурсивной) модели описания лингвистических фактов (дискурс как осознанная коммуникативная ситуация; языковая модель, или клише, не имеющая никакого значения до вовлечения в структуру конкретного языкового действия; «значение слова» как представление о некой коммуникативной ситуации, где данный звукокомплекс используется; дектический синтаксис как вовлеченность языковых моделей в структуру действия, осуществляемого в коммуникативном пространстве; дектическая синтагма, или актуальное единство вербальной модели и действия в конкретном акте коммуникации; типология дектических синтагм как реальное знание говорящих (пишущих), а также — как основание смыслопорождения и понимания устной и письменной речи.
В непосредственной связи с темой диссертации опубликованы следующие работы:
1. "Христианская апология. Краткий обзор традиции", вступительная статья к сборнику "Раннехристианские апологеты", "Ладомир", М., 1999, с. 5-38.
2. "AiKcuoauvri Филона Александрийского и апостола Павла", Материалы Богословской конференции памяти о.Всеволода Шпиллера, 1996, с. 281-290.
3. Mt 26:19; 26: Dikaios — reus, dikaios — рта? Материалы Богословской конференции, 1995, с. 34-48.
4. Язык Евангелий: традиционные концепции и новая модель описания, в сб.: Материалы Богословской конференции, 1999, с. 23-39;
5. "Эллинское и иудейское в "Иудейских Древностях" Иосифа Флавия: dikai-, то есть р~!1£?", Вестник Древней Истории 1999, N4, сс. 1435;
6. Древнееврейский нарративный синтаксис в языке Септуагинты и Нового Завета. Краткое изложение, Богословский сборник ПСТБИ, N4, с. 43-60.
7. «Лексическое значение в дискурсивной парадигме описания языка. Синтактика versus семантика», Материалы Международного Конгресса по русскому языку, Март 2001, с. 93-94;
8. «Хаос в лингвистическом материале как проблема метода. Актуализация вербального феномена», в сб. Логический анализ языка. Хаос и космос, М., 2001, с. 248-256.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Проблемы лингвистической интерпретации текстов Септуагинты и Нового Завета"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предпринятое исследование позволяет сделать несколько выводов.
1. Для анализа и описания текстов Септуагинты и Нового Завета (как и для любых текстов — объектов лингвистического исследования) кардинальное значение имеют аутентичные условия создания и функционирования, или социо-культурно-религиозный фон, мыслимый субъектом коммуникативной ситуации (дискурса). В этом смысле прямо относится к теме исследования один из аспектов исторической судьбы христианства, а именно, условия его возникновения и отношение на этом этапе к т.н. эллинизму как культурному феномену. Последний в научной традиции имеет отчетливую тенденцию вобрать в себя многочисленные факты духовной и материальной культуры и представить их в виде недифференцированной смеси. Аутентичные генетические — а потому институциональные — признаки элементов в ней оказываются не различимыми. В наступившей концептуальной пестроте современный интерпретатор, оснащенный понятиями койнэ, единства империи, религиозного синкретизма, межкультурных контактов, «объективности» собственной воссоздаваемой картины (многие из этих понятий впитали ошибки устаревших эвристических методов), создает, на наш взгляд, менее адекватные модели процессов, нежели те, что могли бы явиться при условии иного подхода к интерпретационной роли исследователя и к самому смыслу историко-филологической работы. Последняя, на наш взгляд, состоит в воссоздании осознанных субъектами практик и общей гуманитарной типологии. Другими словами, реальность воссоздаваемого историко-филологического феномена определяется по мере воссоздания аутентичного способа его осмысления в конкретной ситуации конкретными действующими в этой ситуации субъектами.
Так, упомянутая в работе точка зрения Мартина Хенгеля — M.Hengel, The «Hellenization» of Judaea in the First Century after Christ, London—Philadelphia, 1989, c. 53:
Ввиду того, что после более чем трехсотлетнего периода влияния греческой культуры палестинский иудаизм может быть охарактеризован и как "эллинистический иудаизм", термин Hellenistic, «эллинистический», в У его обычном употреблении более не может служить обозначением каких-либо значимых отличительных признаков в терминологии, используемой применительно к истории раннего христианства (курсив мой. — А.В.). Суждение, подобное тому, которое было высказано Ф.Бюхзелем: "В основании его мировоззрения лежит палестинский иудаизм, а не александрийский, зараженный эллинизмом", — более не может считаться оправданным в такой форме. Уж где, где, но в самой Палестине иудаизм как раз и окажется "зараженным эллинизмом", соответственно, такое утверждение по существу лишено всякого смысла и потому должно быть с самого начала отвергнуто. Нам следует перестать придавать вопросу об "эллинистическом" влиянии отрицательное или положительное значение», — оказывается неприемлимой ввиду объективизуирующего подхода к явлениям действительности, ввиду наложения неправомерных интерпретаций на материал, в то время как в действительности значение имеет схема, мыслимая субъектом ситуации, субъектно осознаваемая реальность. Оппозиция «эллинский—иудейский», растоврившаяся для современного историка в едином «эллинистическом» (последнее по причине незначимости снимается М.Хенгелем), в действительности имела место в сознании субъектов ситуации. Вне этой оппозиции возникновение христианства как процесс постепенного синтеза двух аутентичных традиций утрачивает методологические константы и не может быть представлен в систематическом виде. Эллинство оказывается испорченным восточными влияниями, иудаизм, в свою очередь, — претерпевшим от эллинской культурной доминанты. Об историческом христианстве в таком случае пришлось бы говорить как о продукте испорченности иудаизма, как о порождении смешанного «эллинистического» иудаизма. В действительности адекватная модель процесса может строиться только как картина взаимоотношения и взаимодействия осознанных практик, как аутентичная когнитивная схема, мыслимая участниками данной исторической ситуации. Другими словами, если «материальные факты» бессмысленны и немы до вовлечения в определенную интерпретационную схему, то осознанные практики гораздо более «интерпретационно устойчивы», при историческом описании их гораздо сложнее вовлечь в чуждые связи, поскольку сами они не бессмысленны, не молчат. Собственно гуманитарную типологию — по сути, основу понимания любых исторических практик — возможно воссоздавать на основе общности осознавания предметного феномена, а не самого предметного феномена, который «терпит» любые произвольные интерпретации.
Процессы, происходящие внутри и вокруг иудейской общины в этот период (противостояние «обрезанных» и «боящихся Бога», различное восприятие проповеди Христа, изгнания и гонения чуждых «элементов», и др.) могут быть осознаны только в указанной оппозиции, мыслимой непосредственными участниками событий. При этом предметные факты в произвольно принимаемой интерпретационной схеме могут говорить об их смешении и нерелевантности, как в интерпретации Мартина Хенгеля. Именно эти категории, имеющие прямое отношение к субъектному осознаванию практик, образуют значимую систему координат для адекватного моделирования рассматриваемых процессов, в том числе — текстов Септуагинты и НовогоЗавета, текстов Иосифа Флавия и других.
Таким образом, наиболее приемлемой оказывается когнитивная (коммуникативная, дискурсивная) парадигма исследования, предлагающая в качестве интерпретации более твердые дефиниции, чем объективно (или объектно) ориентированная парадигма. В области эллинистических исследований необходимость таким образом понимаемого когнитивного подхода ощутима в ситуации, когда грекоязычная иудейская литература представляется современному исследователю как по возможности полный корпус всего написанного в иудейской диаспоре за определенный период времени (напр., Nickelsburg, G. W.E. Jewish Literature Between the Bible and У the Mishnah. London, 1981). Коммуникативная (когнитивная) парадигма лингвистического описания предлагает критерии, позволяющие разделить элементы неправомерного смешения:
1) критерий отношения субъекта, сознающего данную ситуацию в аутентичных понятиях и оппозициях;
2) критерий адресата, или аудитории, к которой обращен данный текст;
3) критерий использованных в тексте языковых моделей на уровне макро- и микро-риторических стратегий, тематики, фреймовой структуры организованного в тексте коммуникативного акта.
С этой точки зрения грекоязычная иудейская письменность неоднородна по институциональным для литературной продукции критериям. Она представлена как профетическими, так и собственно литературными текстами. Первые имеют внутреннюю для иудейской общины направленность, их авторы и аудиторий принадлежат в единой традиции. Вторая группа сочинений в различной мере ориентирована на внешнего адресата. Эти тексты исполняют в конечном счете апологетические задачи и написаны в формах греческой литературы.
Ключевой фигурой литературного процесса этого периода является Иосиф Флавий — представитель одновременно иудейской и греческой «политий», современник авторов Евангелий. Особенность лингвистической ситуации, в которой оказался автор «Иудейских древностей», состояла в соединении, встрече в пределах единого сочинения различных понятийных норм, происходящих из различных страт культурной реальности. С одной стороны, ионийско-аттический диалект, на котором написаны труды Иосифа, ставил автора в жесткие рамки греческой топики и греческой понятийной нормы, фиксированной многовековой литературной традицией. С другой стороны, — посредством аттического лексического материала автору было необходимо повествовать о реалиях иудейской жизни для эллинской культурной аудитории, ни имевшей к иудеям никакого отношения. В наиболее характерных случаях (как в рассматриваемом случае слов группы Slkcu-)/' речь идет о том, что аутентичные греческие лексемы используются Иосифом Флавием для передачи смыслов, которых они никогда не имели в пределах эллинского культурного пространства.
Из анализа позиционных употреблений можно заключить, что автор «Иудейских Древностей» стремился к соблюдению ионийско-аттической литературной топики, в отличие, например, от переводчиков Септуагинты или авторов корпуса новозаветных текстов. Одной из основных задач, которые ставил перед собою Иосиф, было создание сочинения, всецело отвечающего требованиям традиционной аттической словесности. В этих условиях, продиктованных литературной ситуацией и внутренними приоритетами самого автора, в качестве единственного средства передачи иудейского содержания в интересующее нас группе слов у Иосифа выступает широкий вербальный и невербальный контекст, в котором автор мог реализовать нужный ему смысл в пределах словосочетания, фразы, законченного смыслового отрывка, в целом всего сочинения, погруженного в реальное коммуникативное пространство. И таким образом, не греческое слово само по себе обладает необходимым значением, а само авторское словесное действие, осуществляемое в осознанном коммуникативном пространстве.
Тот же процесс вербального действия (а не проявления значения слова «самого по себе») иллюстрируется в эпизоде — Евангелие от^ Матфея, 27.19 и 27.24. Реальность актуального текста как действия в осознанном коммуникативном пространстве превалирует над реальностиью отраженного в нем факта. Процесс истолкования текста оказывается не исследованием в области фактов некой объективной реальности, а прежде всего фактов реальности иного порядка — субъектной, воспринятой, прошедшей через сознание, или коммуникативной. При этом существующие традиционные методы анализа лингвистического материала предназначены, скорее, для логико-математической работы над выделяемыми единицами смысла и не соответствуют когнитивной (дискурсивной) — единственно существующей — реальности. Следует признать, что факты текста, они же — факты «языка», являются не объективными данностями, «монадами смысла» со своими фиксированными «словарными» значениями, а своего рода функциями от более масштабных сущностей — текста, коммуникативной ситуации (или дискурса), историко-культурно-религиозной традиции. Так, наоборот, наиболее приемлемым с точки зрения реальности текста является такой вариант перевода, который «в объективной реальности» мог иметь место с наименьшей вероятностью.
Соответственно, следует признать, что процесс истолкования текста, ориентированный на воссоздание «объективной действительности», в самой действительности «не работает»: говорящий (пишущий) действует посредством своего текста не механически, «объективно», а свободно и осознанно. Реальность лингвистического факта является в образе воспринятой говорящим (пишущим) реальности.
2. Текстлингвистическая теория древнееврейского синтаксиса, созданная В. Шнайдером, дает пример дискурсивной методики анализа, выхода за пределы традиционной «слово-ориентированной» схемы описания. На основании наблюдений над особенностями перевода Септуагинты можно заключить, что определенные значимые для текста маркеры не различаются традиционной грамматикой древнееврейского языка, но различаются переводчиками. Ввиду этого следует констатировать, что в получаемом грекоподобном тексте Септуагинты сохранены древнееврейские синтаксические модели (именные— глагольные предложения, Waw, переданный через KAI—DE, древнееврейский порядок слов с соответствующими функциями), которые «строят» переводной текст книги Бытия и, естественно, отсутствуют в каких-либо аутентичных греческих текстах. Наряду с ними «работают» и греческие модели (например, оппозиция «Аорист—Имперфект», оппозиция KAI—DE), но они подчиняются, в конечном счете, общему восприятию текста в аутентичной иудейской среде, которая и придает аутентичные «нормативные» смыслы вербальным моделям — «неправильным», с точки зрения эллинов, чуждых иудеям культурно и религиозно. При этом в результате такой практики перевода в «грекоподобный» текст Септуагинты вводятся вербальные модели, не существующие в аутентичном греческом тексте, возниакающие как отражение древнееврейской вербальной типологии.
Наиболее полным и красноречивым свидетельством того, что в тексте Септуагинты представлена оригинальная негреческая вербальная типология является функционирование тех же моделей в текстах Нового Завета. Одновременно устанавливаемые связи с текстом Нового Завета имеют прямое отношение к вопросу о том, что представлял собой «язык Евангелий» с точки зрения его строя и выразительности. Если совершенно негреческий (искусственный на греческой почве) языковой строй Сепутагинты обнаруживает прямые корреляции в Новом Завете, ясно, что последний ни в коем случае не разговорный, не простонародный, не беспорядочно организованный и толкуемый в духе билингвизма, не безграмотный, и т.д., как .о нем судят со времен исследований Дайссманна и Мултона, а традиционный, литературный, архаический язык грекоговорящей иудейской диаспоры, создаваемый по образцу священного для иудеев текста Септуагинты.
Автор Евангелия от Марка для построения нарративного текста использует те же синтаксические принципы, что и переводчики
Септуагинты (функционирование оппозиции именные—глагольные предложения, еврейский Waw в виде KAI—DE, древнееврейский порядок слов с преимущественным употреблением глаголов в начале предложений, специфические конструкции типа KAI EGENETO и т.п.). Так, в общей сложности в 95 случаев из 100 в именных предложениях у Мк имеет место у частица DE. Таким образом, по отношению к именным предложениям — основному средству создания синтаксических оппозиций в наррации — автор Мк ведет себя приблизительно так же, как переводчик Быт. 1-3: в обоих случаях наблюдается правильная корреляция употреблений частицы^* DE с именными предложениями.
Рассмотрение текстов Евангелия от Луки и Апокалипсиса дает похожие результаты: нарративные тексты в этих источниках используют те же парадигмы для создания текста (функционирование оппозиции именные-глагольные предложения, еврейский Waw в виде KAI—DE, древнееврейский порядок слов с преимущественным употреблением глаголов в начале предложений, специфические конструкции типа KAI EGENETO и т.п.). Автор Лк в своей писательской манере более походит на^ переводчика Исх. 1, поскольку стремится внести разнообразие в текст посредством частой смены KAI—DE, автор Апокалипсиса почти вовсе не употребляет частицы DE, только KAI, и этим походит на переводчика 4 Цар.9. Однако все они следуют единым древнееврейским принципам синтаксического построения нарративного текста, которые были обнаружены при анализе языка Септуагинты. Поскольку строй этого «языка» — заведомо не греческий (это по-прежнему стилистический нонсенс для эллинов, как в случае текста Лк, так и в случае с текстом Ап), но при этом это подлинно единообразный способ организации текстов такого рода, — следует констатировать искомый факт существования особой типологии вербальных моделей, или особого «языка», т.н./ «иудейского греческого». Как видно, его топика возникает на греческой почве в результате систематической передачи элементов древнееврейского синтаксиса греческими лексемами. В момент создания текста Септуагинты грекоподобный текст есть по преимуществу функция самого древнееврейского текста, и шире — функция всей культурно-религиозной ситуации, и по мере того он получает смыслы и значения, традиционно присутствующие в иудейской среде, будучи обращен не к внешним эллинам, а к религиозному сообществу иудеев. Этот текст постоянно функционирует — читается и слушается — в виде сакрального текста грекоговорящей иудейской диаспоры (ср. свидетельства Филона). В результате возникает особый способ организации сакрального текста, отличный от греческой литературной топики, от разговорной топики, от каких бы то ни было существующих современных ему способов построения текста ввиду своего особого происхождения — он возник путем проецирования древнееврейских синтаксических схем на греческий лексический материал. Ввиду этого генезиса, иудейский греческий (тот, ' что мы находим в новозаветном корпусе и другой грекоговорящей иудейской литературе) — ни в коем случае не разговорный, не просторечный, а литературный эпический архаический традиционный язык.
Таким образом, ввиду того, что 1) древнееврейская синтаксическая структура в тексте Септуагинты очевидна, 2) эта же структура очевидна в текстах новозаветного круга, и 3) столь же очевидно отличие синтаксического строения любого «иудейско-греческого» текста от любого аутентичного греческого текста, — становится возможным изменение сложившейся системы подходов к анализу и описанию языка Септуагинты и Нового Завета. В этом смысле лингвистическую ситуацию грекоговорящей иудейской диаспоры можно с некоторым приближением уподобить современной русскоязычной: когда в настоящий момент создаются боговлужебные тексты на церковнославянском языке (как поступают, например, в случаях, когда нужно написать тропарь новомученникам), то их автор попадает приблизительно в ту же лингвистическую ситуацию, что и автор Евангелий в современной для него лингвистической ситуации: в обоих случаях имеет место традиционный способ моделирования текста, заведомо отличный от «разговорного», этот «способ» зафиксирован в литературном корпусе, постоянно цитируемом и воспроизводимом, он приурочен к области сакрального, и существует аудитория, адекватно воспринимающая такой способ моделирования текста.
При этом следует признать, что современная научная картина, не признающая единство и целостность иудейской литературной традиции на греческой почве, имеет весьма противоречивые концептуальные очертания. Так, в отношении Евангелий ситуация может быть представлена в следующем виде. То, что 1) авторы Евангелий писали на не-литературном греческом языке и что 2) созданные ими тексты сохраняют следы некой иной (не литературной греческой) стихии языка — самые распространенные и практически общепринятые положения, имплицитно или явно лежащие в основании концепций и взглядов на язык Евангелий. Первое суждение следует из сопоставления (ионийско-)аттической литературной нормы с любым текстом евангельского круга. Второе суждение возникает из необходимости объяснить происхождение этих очевидных «неправильностей» языка Евангелий. В попытках ответа на вопрос, откуда возникают эти нарушения (ионийско-)аттической литературной нормы, конституируются два основных направления. Первое имеет эллиноцентричную устремленность и склонно связывать лингвистические феномены, воспринимаемые с точки зрения (ионийско-)аттической нормы как неправильности, с т.н. койнэ — языком, который, как считается, был принят в качестве основного средства общения в греко-римской ойкумене соответствующего периода, при этом понятие койнэ зачастую предполагает различение уровней этого языка, т.е. введение понятий литературного и разговорного койнэ, а также выделение гипотетических территориальных особенностей койнэ, характерных для языка населения различных регионов ойкумены. Второе направление, напротив, в поисках причин «неправильностей» делает акцент на арамейской (или даже древнееврейской) стихии языка, будь он письменный или устный, исповедуя, таким образом, семитоцентричную позицию. Нужно заметить, что существует и третье направление, представленное прежде всего именем N.Turner'a, тж. отчасти H.S.Gehman, P.Katz, K.Beyer. Эти исследователи близки к тому, чтобы признать существование отдельного языка, т.н. иудейского греческого, со своими выразительными и структурными особенностями, однако, приводимая ими аргументация весьма неубедительна прежде всего из-за того, что в ней отсутствует констатация единых — дискурсивных — принципов для предполагаемого отдельного языка. Именно поэтому точка зрения Turner'а не получила широкого распространения и поддержки.
Суммируя существующие точки зрения, можно сказать, что главные составляющие, или элементы, анализируемой лингвистической ситуации, факт которых нельзя отрицать и, соответственно, на которых или вопреки которым строятся концепции языка Евангелий — это 1) греческий лексический материал, использованный создателями текста Евангелий (при этом под греческим лексическим материалом имеется в виду не греческое семантическое и синтаксическое значение лексических единиц, а их видимый греческий облик), и 2) очевидные синтаксические и семантические семитизмы, присутствующие в тексте Евангелий.
Эллиноцентричная позиция опирается по преимуществу на первый бесспорный факт — на то, что Евангелия написаны с использованием внешне греческого лексического материала, в то время как вторая очевидность, т.е. семитизмы, занимает в имеющихся концепциях маргинальное и подчиненное положение. Более того, в логически более завершенных эллиноцентричных схемах (Deissmann, Thumb, ранний Moulton) первый элемент (греческий вид лексем) стремится полностью поглотить или вытеснить второй (семитизмы), что непременно произошло бы, не будь второй элемент столь очевиден. При этом позиция исследователей, придерживающихся семитоцентричной схемы, довольно шатки.
Так, если рассматривать Евангельские тексты под эллинским углом зрения, то, соответственно, возникает необходимость найти исконную греческую топику для феноменов евангельских текстов, идентифицировать'' их, признать факты закономерности и затем понимать эти феномены исходя из тех значений, которые имеются для них в аутентичной топике. Другими словами, исследователь должен найти в исконно греческом материале ту систему координат, в которой следует исчислять грамматические и семантические явления Евангельских текстов. Таким образом, дело сводится к поиску некой исконно греческой языковой нормы, к которой должен быть приписан Евангельский текст и согласно которой он должен пониматься. Именно здесь с эллиноцентричной позицией возникают сложности. Если исследователь пытается засвидетельствовать в Евангельских текстах какое-то исконно греческое употребление, то оказывается невозможным адекватно истолковать т.н. «семитизмы». Совершенно очевидно, что они в исконно греческом тексте суть по определению нарушения греческого строя, соответственно, такой способ создания текста не может быть признан «нормативным». Если же нет нормативности, нет и того, что исследователь пытается обнаружить, т.е. ту самую единую систему лингвистических координат. Именно поэтому законченная логика эллиноцентричной позиции состоит в том, чтобы включить семитизмы в состав какой-либо исконно греческой нормы, признав, что семитизмы уже не семитизмы, а рядовые исконно греческие феномены. Однако ни в одну норму, определяемую каким-либо корпусом исконно греческих текстов (то есть признаваемых исконно греческими), т.н. «семитизмы» полностью не включаются. Они продолжают существовать для исследователя как нарушения греческого строя языка. В этом смысле показательна история Moulton'a, одного из наиболее горячих сторонников греческой аутентичности, который, однако, был вынужден в позднейших работах отказаться от своего греко-ориентированного ригоризма, признать «истинные семитизмы» в евангельском тексте и дать собственное определение понятию «семитизм».
Таким образом, с эллиноцентричной точки зрения благодаря упорству семитизмов для языка Евангелий невозможно найти устойчивой нормы, соответственно, эллиноцентричная схема позволяет лишь констатировать, что язык Евангелий есть некая греческая норма с включенными в нее неправильностями. В такой формулировке уже нет строгих рамок, и это дает некоторый простор исследователям. Это выражается в том, что в качестве греческой нормы ими принимается любая сколько-нибудь подходящая, раз правильности в ней все равно нет. Это может быть норма общегреческого разговорного койнэ или общегреческого литературного койнэ, с неизменными, впрочем, семитизмами, делающими этот язык в целом ненормативным-. Логическое продолжение этого допущения в эллиноцентричной схеме ведут к выводам о том, что авторы новозаветных текстов плохо владели греческим языком, на знали языка, на котором пишут, и т.д.
Такая точка зрения полностью исключается тем фактом, что христианская община отделяется от иудейской только к началу, или в начале, второго века. Евангельские тексты изначально обращены к представителям иудейской общины, сама же грекоговорящая иудейская община состояла из собственно иудеев и т.н. «боящихся Бога», т.е. язычников, примкнувших к иудеям, воспитанным в их религиозной традиции, принимающим участие в их религиозной практике. Поэтому аудитория Евангелистов ни в коем случае никогда не представляла собой случайную толпу. Каждый Евангельский текст был адресован участникам иудейской традиции и написан представителем той же традиции.
Кроме того, такая точка зрения признает, что ненормативность языка, которую как продукцию безграмотных людей можно представить, например, в кратких настенных графити, засвидетельствована в целом корпусе литературы и у целого ряда авторов, что само по себе абсурдно.
В случае текста Евангелия от Луки эллиноцентричная позиция попадает в очевидный концептуальный тупик, поскольку оказывается необъяснимым тот факт, что автор третьего Евангелия, написавший предисловие к Евангелию в духе изящной (ионийско-)аттической прозы, переходит затем на язык, начиненный семитизмами, т.е. отступает от исконно греческой «правильной» нормы, делая выбор в пользу заведомо не нормативного (с эллиноцентричной точки зрения) языка.
Главная характеристическая черта семитоцентричного направления — сосредоточенность на семитском материале, т.е. опора на второй бесспорный элемент Евангельского текста. В русле этого направления так же, как и в эллиноцентричном, констатируется отсутствие единой нормы языка Евангелий и признается его неправильность и ненормативность.
Пафос исследователей по преимуществу состоит в исследовании вопроса, откуда в евангельский текст попали семитизмы и какие они — арамеизмы, гебраизмы или септуагинтизмы. Таким образом, утверждается факт пущей испорченности языка Евангелий посредством констатации неправильностей, взятых из еврейского текста, из арамейских таргумов, из текста Септуагинты, из какого-то неведомого устного семитского языка, и т.д. Это нисколько не способствует нахождению целостной системы координат, в которой можно было бы «исчислить» и понять феномены евангельского текста.
Процесс проникновения неправильностей в язык Евангелий оба направления — и семито- и эллиноцентричное — в большинстве случаев связывают с т.н. явлением билингвизма, онтология которого зиждется на признании того, что 1) авторы были знакомы как минимум с двумя языками — греческим и каким-то семитским (вероятнее всего, с арамейским), и 2) что они вставляли в греческий текст семитские кальки, которые навязывало им их семитоязычное сознание. При этом следует констатировать, что теории билингвизма в отношении евангельских текстов зиждется на заведомом заблуждении — признании того, что' письменный язык может быть прямым отражением устного языка и что в письменном языке можно непосредственно видеть некий разговорный (спонтанный) узус. В действительности создание письменного текста есть процесс гораздо более опосредованный, чем обыкновенно он мыслится в духе теории билингвизма («евангельские авторы писали по-гречески так, как навязывало им их арамеоязычное сознание, поскольку они не знали, как нужно писать по-гречески правильно»). На самом деле, процесс создания письменного текста предполагает такой уровень рефлексии и отбора языковых средств, таких затрат времени и сил, что автор с неизбежностью успевает осознать свои возможности и способности. Соответственно, он успевает понять, что если язык, на котором он пишет, ему незнаком, то и писать на нем незачем, — ничего, кроме вреда самому себе и предмету такого литературного творчества, из этого не проистечет.
Литературное творчество предполагает совершенно иное использование языковых стратегий, чем то, которое явно и имплицитно констатируется понятием «билингвизм». Прежде всего следует признать, что использование языка при создании литературного текста опосредовано и рефлективно, а это в свою очередь означает, что новозаветные авторы осознанно употребляли те или иные обороты и ни о каком «непосредственном» проникновении языковых феноменов из разговорной среды в литературный текст не может быть и речи. Соответственно, возникает такая картина: семитизмы, т.е. заведомые неправильности в греческом литературном тексте, все-таки благополучно преодолевают стадию авторской рефлексии и осознанно попадают в письменный текст.
В действительности осознанные семитизмы в тексте можно объяснить только одним — фактом того, что для авторов текстов и для их аудитории способ создания этих сочинений был общепринятым, общепонятным и нормативным: авторы не могли писать, зная что они заранее обречены на осуждение со стороны аудитории за неадекватные языковые стратегии. Это значит, что «неправильности», признаваемые как таковые в семито- и эллиноцентричной схемах и санкционированные понятием билингвизма, таковыми не являются. По-видимому, из этой апории есть только один выход — признать, что евангельский «язык» вместе с т.н. семитизмами представляет собой некое единство и правильную норму.
Процесс создания письменного текста иллюстрируется вполне очевидной ситуацией Иосифа Флавия, родным языком которого был арамейский. При этом в весьма значительном корпусе его сочинений количество семитизмов, допущенных арамеоязычным автором и обнаруженных затем скрупулезными исследователями, стремится к полному нулю. Та же ситуация наблюдается с сироязычным Лукианом, автором многочисленных сочинений, написанных на аттическом диалекте. Факт семитского лингвистического просхождения авторов и полного отсутствия семитизмов в их текстах можно объяснить только тем, что Иосиф Флавий, так же как и Лукиан, создавали свои сочинения для эллинской аудитории, в русле греческой литературной традиции, предполагавшей правильное — принятое аудиторией — владение греческой литературной топикой. Именно поэтому с точки зрения формальной вербальной типологии иудейский историк явил себя в своем тексте настоящим эллином. Таким образом, в случае Иосифа Флавия следует констатировать опосредованность и рефлексию при пользовании языком, независимость литературного языка от чуждого по структуре родного языка автора — будь этот язык разговорным или литературным, затем, следует констатировать факт существования самого литературного языка и его общепринятость для автора и аудитории, а кроме того, следует констатировать факт авторитетной литературной традиции, в которой благодаря общепринятому языку адекватно реализует себя пишущий и читающий. Таким образом, билингвизм в случае Иосифа Флавия не работает». Однако для новозаветных авторов это понятие, отражающее суть как эллиноцентричной, так и, в основном, семитоцентричной позиций, сохраняет свои позиции, т.е. утверждает 1) отсутствие всякой рефлексии при пользовании языком в письменном тексте («как говорили, так и писали»), 2) утверждает прямую связь письменного языка с разговорным, 3) отрицает сам факт существования общепринятой типологии в Евангельских текстах, 4) отрицает факт его общепринятости для автора и аудитории и, наконец, 5) отрицает какую-либо литературную (и культурную) традицию, для которой такая языковая типология была бы аутентичной.
Таким образом, общая картина, которая была инициирована в библейской лингвистике в начале прошлого века и с тех пор не прекращает усложняться, запутываться и обрастать неясностями, нуждается в коррекции. На фоне ошибочных и противоречивых представлений необходимо признать, что 1) язык Нового Завета существует как обособленное единство, т.е. что он представляет собой в настоящем смысле особый способ моделирования сакрального текста со своими формальными особенностями, 2) что этот способ обладал свойством общепринятости в рамках определенной сферы использования (это ни в коем случае не разговорный, а, вне всяких сомнений, литературный образ текста), и что 3) у этого способа есть авторитетная литературная (и в целом культурно-религиозная) традиция, для которой он является аутентичным и в которой благодаря свойству общепринятости, адекватно реализовывал себя пишущий на этом языке и читающий на этом языке субъект традиции.
Такая констатация разрешает неясности и противоречия, которые возникают при использовании прежних моделей описания.
3. Созданию противоречивой и неприемлемой схемы описания тектов Септуагинты и Нового Завета послужили ряд общелингвистических понятий. Вполне очевидно, что констатация хаоса в новозаветном лингвистическом материале (т.е. идея «ненормативного языка») находится в прямой зависимости от субъекта созерцания, или субъекта рефлексии, (не)обнаруживающего организующий принцип материала. Именно это со всей определенностью переводит рассуждение о неупорядоченности материала в область того, как воспринимается этот видимый хаос, каковы критерии выявления связей в нем. Таким образом, субъект восприятия, без которого и вне которого самого хаоса не существует, с необходимостью вводится в рассмотрение лингвистического материала. Поскольку же вербальные феномены очевидным образом встроены, интегрированы, в организованную гуманитарную действительность и сами по себе четко «работают» в ней, образуя порядок, лингвистическая проблематика, как видно, состоит в адекватном методе описания вербальных феноменов, в преодолении проблемы исследовательского зрения, — хаос в лингвистическом материале есть исключительно проблема метода описания лингвистического материала.
Наиболее адекватной схемой описания речемыслительного процесса представляется когнитивная (дискурсивная) модель, в которой вербальный процесс прежде всего признается действием в коммуникативном пространстве.
За границами предложения, самостоятельность и самодостаточность которого справедливо подвергается сомнению рядом исследователей, простирается то, что может быть названо контекстом, текстом, и еще шире, — осознанной коммуникативной ситуацией (или дискурсом). Ввиду действенности речевого процесса любое использование вербального феномена всегда актуально, конкретно и зависимо от мыслимых коммуникантом условий совершения.
Составляющие мыслимой коммуникативной ситуации, способные при надлежащем описании быть ее характеристиками, — это 1) фреймы 2) факты и данные, непосредственно связанные с моментом акта коммуникации; 3) модели речевой деятельности на макро- и микроуровнях текста, актуальные для данной ситуации или ее момента, составляющее для носителя языка арсенал нетеоретизированных моделей', 4) паралингвистические характеристики коммуникативного акта (темп речи, интонация, жесты и др.; неразборчивый почерк, качество печати, дефекты носителя текста, и многое другое); 5) фактор личных особенностей в восприятии и использовании уже перечисленных элементов коммуникативной ситуации, или фактор воспринятой прагматики, или дектики. При реализации коммуникации говорящий всегда и непременно осознает — более или менее адекватно (или вовсе неадекватно) другим участникам — условия своего вербального действия. В этом смысле речь есть результат не объективной прагматической ситуации, а результат осознавания этой ситуации, т.е. дектический феномен. В этом же смысле можно говорить о том, что, несмотря на интегрированность в предметную область, реальная предикация (актуальное «говорение») есть область свободы — поскольку сознание свободно в выборе возможностей предицирования, при этом, однако, условия реализации свободы имеют место и время. «Совпадение» личных дектических вербальных действий с тем их образом, который возникает в столь же личном сознании адресата, возникает из типологии дектических синтагм. Любой из лингвистических феноменов — на уровне морфемы, лексемы, словосочетания, предложения и собственно текста — интегрирован в мыслимую коммуникативную ситуацию (=дискурс) и задан ролью говорящего, погруженного в нее и осознающего реальные условия производимого речевого действия.
Такая модель описания вербального материала представляется наиболее адекватной ввиду того, что она в наибольшей степени следует за логикой и действительной практикой построения (или восприятия) текста: когда говорящий (пишущий) производит текст, используя нетеоретизированные речевые модели, его первый и главный действительно творческий акт состоит в том, чтобы проанализировать и идентифицировать коммуникативную ситуацию, в пределах которой он может вербально действовать, т.е. реализовать свой текст как предикат данной конкретной ситуации. Смысл его первоначального рассуждения состоит в том, чтобы определить базовые параметры его, возможного коммуниканта, роли в данной ситуации, и какое вербальное действие, отвечающее его целям, будет адекватным; при этом коммуникант исходит прежде всего из того, что производимый им текст (устный или письменный) должен быть для данной ситуации актуальным, иначе ему просто незачем говорить или писать; тем более, затем, в каждый из моментов уже реализуемого текста, коммуникативная ситуация приобретает новую обусловленность; так что элементы текста, реализуемого автором, в любой момент текстовой последовательности на микро-уровне исполняют перманентный императив встраиваться в соответствующую структуру, продиктованную параметрами изначально идентифицированной (и постоянно идентифицируемой) макро-ситуации. Говорящий (пишущий) в каждый момент ситуации осознает, какие объекты вошли в сферу внимания адресата, какие фреймы актуализованы в его сознании, какая последовательность может быть непротиворечиво реализована, какие фреймы могут получить актуализацию в данный момент, и т.п.
При этом синтаксис — в дискурсивной концепции лингвистического описания, в отличие от традиционного определения — должен, как видно, пониматься совершенно иначе. Если лингвистическое описание выходит из границ предложения и констатирует, что слова связаны в значимую последовательность не внутренними для предложения связями, а значимым вне-фразовым мыслимым принципом, и что этот интегрирующий, «связывающий» принцип есть мыслимая коммуникативная ситуацию с ее фреймами, актуальными особенностями, моделями, паралингвистическими факторами и дектикой, то понимание «связи слов в предложении» становится существенно другим. Прежний синтаксис как сцепление слов ввиду их внутренних валентностей (или, в крайнем случае, сцепление нескольких простых предложений между собой), — связь, описываемая в традиционной теории синтаксиса по внутри-фразовым отношениям, лишь иногда с некоторыми элементами сверх-фразовости в целях грамматикализации все того же отдельного предложения, — обретает иную этиологию и понимается как интегрированностъ элементов текста в мыслимую коммуникативную ситуацию, или интегрирование элементов текста коммуникативной ситуацией. Такой синтаксис можно назвать дектическим, а его элементы — дектическими синтагмами. В области коммуникации говорящий всегда имеет дело с типовыми ситуациями, которые и образуют основание для адекватных речевых действий, понимания, перевода на другие «языки». Так, большинство коммуникантов различают «право и лево», «верх и низ», могут ходить, думать, качать головой, осознавая при этом тождество своих действий с такими же чужими. На основании этой невербальной типологии возможно затем вербальное действие («по-английски», «по-французски» и т.п.). Именно благодаря такой осознанной типологии, т.е. уже существующей общности, возможно затем вербальное взаимодействие, собственно коммуникация. Сочетания вербального материала с мыслимыми ситуациями взаимодействия создает типологию дектических синтагм, или «систему» коммуникации, т.е. «систему естественного языка», которой вне какой бы то ни было грамматики владеет «носитель».
Последним препятствием для когнитивной схемы речемыслительного процесса остается т.н. лексическое значение, которое «закреплено» за словом со времени античных практик описания вербального материала. Синтаксис, понимаемый как структура вербального действия в осознанном коммуникативном пространстве, вбирает все феномены лингвистической структуры (феномены всех уровней), в т.ч. и традиционно понимаемое лексическое значение. Поэтому разрешение апории: «Коммуникативная ситуация определяет свои минимальные единицы (в т.ч. значения слов)» vs «Минимальные единицы в т.ч. значения слов) определяют коммуникативную ситуацию», — с точки зрения дискурсивной (когнитивной) модели предлагается достигнуть следующим образом.
Убежденность в существовании изолированного лексического значения (или т.н. семантики) лексемы зиждется на одном несомненном факте сознания: произнося или воспринимая изолированное слово, любой субъект речевой деятельности, владеющий языком, производит ассоциирование с некими образами, в нем возникают некие ассоциации; именно это и есть то, что носитель языка считает или самим значением слова, или, по крайней мере, чем-то имеющим отношение к тому самому лексическому значению слова, его самостоятельной семантике.
В действительности же ассоциации, возникающие у носителя языка при изолированном произнесении слова, есть не что иное, как воспроизведение в памяти некой (минимальной) коммуникативной ситуации, которая достаточна для употребления данного фонетического комплекса («слова» или «словосочетания», клише) и которой данное «слово» вполне свойственно (коммуникативная ситуация при этом понимается как любое возможное (со)общение, когда говорящий (пишущий) имеют целью адекватное (т.е. нужное автору) воздействие на читающего (слушающего). Таким образом, лексическое значение изолированной лексемы есть уже синтаксическая (дектико-синтаксическая) категория; в лексеме, осмысляемой в такой ситуации, на самом деле нет изолированности, ее восприятие представляет собой уже феномен синтаксиса, понимаемого дискурсивно (дектически), т.е. как вовлеченность лингвистических элементов (в том числе, лексемы) в актуальную коммуникативную ситуацию, в типологию коммуникации.
Такое понимание лексического материала делает возможным введение субъекта в схему описания текстов Септуагинты и Нового Завета, и как следствие, упраздняет некоторые положения, следующие из предметно-ориентированной, внесубъектной схемы описания данного вербального материала, которая и послужила созданию неадекватной противоречивой картины.
Список научной литературыВдовиченко, Андрей Викторович, диссертация по теме "Теория языка"
1. Аверинцев С.С. Греческая литература и ближневосточная «словесность» // Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. М., 1971.
2. Аверинцев С.С., "ЕГШААГХМА", Альфа и омега № 1 (4), 1995.
3. Актуальные проблемы российского языкознания: 1992—1996 гг. М.,1997.
4. Алпатов В.М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы языкознания, 1993, N 3, с. 15—26
5. Алпатов В.М. Предварительные итоги лингвистики XX в. // Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы. Тезисы международной конференции. T.l. М., 1995, с. 16—18
6. Апполонская Т.А., Глейбман Е.В., Маноли И.З. Порождающие и-распознающие механизмы функциональной грамматики. Кишинев, 1987.
7. Апполонская Т.А., Глейбман Е.В., Маноли Н.Э^ Порождающие и распознающие механизмы функциональной грамматики. Кишинев, 1987.
8. Апполонская Т.А., Пиотровский Р.Г. Функциональная грамматика — фрейм — автоматическая переработка текста П Проблемы функциональной грамматики. М., 1985.
9. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1974.
10. Апресян Ю.Д. Личная сфера говорящего и наивная модель мира // Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект. М., 1988.
11. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: Попытка системного описаниям / Вопросы языкознания, 1995, №1, с. 37— 67.
12. Апресян Ю.Д. Перформативы в грамматике и словаре // Изв. АН СССР, СЛЯ. 1986. Т. 43. N 3.
13. Арутюнова Н.Д. Образ человека в культуре и языке. М., 1999.
14. Арутюнова Н.Д. Речеповеденческие акты в зеркале чужой речи «Я» и «Другой» // Человеческий фактор в языке. Коммуникация. Модальность. Дейксис. М., 1992, с. 40-72.
15. Арутюнова Н.Д. Синтаксис // Общее языкознание: Внутренняя структура языка. М., 1972.
16. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. М., 1988.
17. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999. ^
18. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999. ^
19. Арутюнова, Н.Д. «Дискурс», ЛЭС, 1990.
20. Атаян Э.Р. Коммуникация и раскрытие потенций языкового сознания. Ереван, 1981.
21. Ахутина Т. В. Единицы речевого общения, внутренняя речь, порождение речевого высказывания // Исследования речевого мышления. М., 1985.
22. Бергельсон М.Б., Кибрик А.Е. Прагматический принцип приоритета и его отражение в грамматике языка // Моделирование языковой деятельности. М., 1987.
23. Бирвиш М. Семантика // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1981. Вып. X.
24. Блумфилд Л. Язык. М., 1968.
25. Болинджер Д. Атомизация значения // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1981. Вып. X.
26. Будагов Р.А. Человек и его язык. М., 1976.
27. Васильев JI.M. Методы современной лингвистики. Уфа, 1997.
28. Вдовиченко А.В. "Д1кшоспЗуг| Филона Александрийского и апостола Павла" // Материалы Богословской конференции памяти о.Всеволода Шпиллера, 1996, с. 281-290.
29. Вдовиченко А.В. "Эллинское и иудейское в "Иудейских Древностях" Иосифа Флавия: 8ikcu-, то есть // Вестник Древней Истории 1999, N4, сс. 14-35;
30. Вдовиченко А.В. «Лексическое значение в дискурсивной парадигме описания языка. Синтактика versus семантика» // Материалы Международного Конгресса по русскому языку, Март 2001, с. 93-94;
31. Вдовиченко А.В. «Хаос в лингвистическом материале как проблема метода. Актуализация вербального феномена» // Логический анализ языка. Хаос и космос, М., 2001, с. 248-256.
32. Вдовиченко А.В. Mt 26:19; 26: Dikaios — reus, dikaios — pT2f? // Материалы Богословской конференции, 1995, с. 34-48.
33. Вдовиченко А.В. Дискурс—текст—слово. М., 2002.
34. Вдовиченко А.В. Древнееврейский нарративный синтаксис в языке Септуагинты и Нового Завета. Краткое изложение // Богословский сборник ПСТБИ, N4, с. 43-60.
35. Вдовиченко А.В. Христианская апология. Краткий обзор традиции // Раннехристианские апологеты, "Ладомир", М., 1999, с. 5-38.
36. Вдовиченко А.В. Язык Евангелий: традиционные концепции и новая модель описания // Материалы Богословской конференции, 1999, с. 23-39;
37. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
38. Верещагин Е. М. Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова М„ 1980.
39. Верещагин Е. М. Костомаров В. Г. Язык и культура. М„ 1990.
40. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М., 1980.
41. Виноград Т. К процессуальному пониманию семантики // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1983. Вып. XII.
42. Воробьев В.В. Лингвокультурология. Теория и методы. М., 1997.
43. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М., 1956.
44. Выготский Л.С. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собр. соч. М., 1982. Т. II.
45. Гак В.Г. Эмоции и оценки в структуре высказывания и текста // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1997, № 3, с. 87—95.
46. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
47. Гафарова Г.В., Кильдибекова Т.А. Когнитивные аспекты лексической системы языка. Уфа, 1998.
48. Герасимов В. И. К становлению "когнитивной грамматики" // Современные зарубежные грамматические теории: Сб. научно-аналитических обзоров. М., 1985.
49. Глубоковский Н.Н. Греческий язык Нового Завета в свете современного языкознания. Гермес, 1915, N 2-8.
50. Горелов И.Н. Вопросы теории речевой деятельности. Таллинн, 1987.
51. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.
52. Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
53. Демьянков В.З. Модульность и параллельные процессы в интеллектуальной деятельности человека / / Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект. М., 1988.
54. Диброва Е.И. Категории художественного текста // Семантика языковых единиц. Доклады II Международной конференции. Т. 2, М., 1998, с. 250—257.
55. Долинин К.А. Интерпретация текста. М., 1985.
56. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М., 1982.
57. Залевская А.А. О теоретических основах исследования принципов организации лексикона человека // Этнопсихолингвистические проблемы семантики. М., 1978.
58. Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973.
59. Зимняя И.А. Вербальное мышление (психологический аспект) // Исследование речевого мышления. М., 1985.
60. Зыцарь Ю.В. О единстве сознания и различных языков // ВЯ, 1984, N4.
61. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
62. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
63. Категоризация мира: пространство и время. М., 1997.
64. Кацнелъсон С.Д. Порождающая грамматика и процесс синтаксической деривации // Progress in Linguistics. The Hague: Mouton, 1970.
65. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание. Л., 1986.
66. Кацнельсон С.Д. Речемыслительные процессы // ВЯ, 1984, N 4.
67. Кацнельсон С.Д. Семантико-грамматическая концепция У.Л. Чейфа // Послесловие к кн.: Чейф У.Л. Значение и структура языка. М., 1975.
68. Кацнельсон С.Л. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
69. Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы языкознания. 1994, № 5, с. 126—139.
70. Кибрик А.Е. Лингвистические предпосылки моделирования языковой деятельности // Моделирование языковой деятельности. М., 1987.
71. Кильдибекова Т.А., Гафарова Г.В. Проблемы систематизации лексики в новой научной парадигме // Лингвистический семинар: Межвузовский сборник научных статей. Вып. 2. СПб—Бирск, 2001.
72. Клименко А.П. Лексическая системность и ее психолингвистическое изучение. Минск. 1974.
73. Клименко А.П. Психолингвистика. Минск, 1982.
74. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. М., 1998.
75. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. М., 1990.
76. Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975.
77. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история / Новое в лингвистике. Вып. Ill, М., Прогресс, 1963.
78. Крюков А.Н. Фоновые знания и языковая коммуникация // Этнопсихолингвистика. М., 1988.
79. Кубрякова Е.С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус // Языковая личность: Культурные концепты. Волгоград-Архангельск, 1996.
80. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997.
81. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца 20 века: Сб. статей. М., 1995.
82. Кубрякова Е.С., Александрова О.В. О контурах новой парадигмы знания в лингвистике // Структура и семантика художественного текста. Доклады Vll-й Международной конференции. М., 1999.
83. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкратц Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
84. Кубрякова Е.С., Панкрац Ю.Г. Падежная грамматика // Современные зарубежные грамматические теории. М., 1985.
85. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
86. Кухаренко B.JI. Интерпретация текста. М., 1988.
87. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. М„ 1981. Вып. X.
88. Леонтьев А.А. Объект и предмет психолингвистики и ее отношение к другим наукам о речевой деятельности // Теория речевой деятельности. М., 1968.
89. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969.
90. Леонтьев А.А., Рябова Т.В. Фазовая структура речевого акта и природа планов // Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.
91. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972.
92. Лингвострановедение и текст: Сб. статей / Под ред. Е. М. Верещагина и В.Г.Костомарова. М., 1987.
93. Логический анализ языка: Ментальные действия. М., 1993
94. Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999
95. Логический анализ языка: Противоречивость и аномальность текста. М., 1990.
96. Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979.
97. Лурия А.Р., Цветкова Л.С. Нейропсихологический анализ предикативной структуры высказывания // Теория речевой деятельности. М., 1968.
98. Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К. Планы и структуры поведения. М., 1958.
99. Минский М. Структура для представления знаний. М., 1978.
100. Норман Б.Ю. Синтаксис речевой деятельности. Минск, 1978.
101. Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. Воронеж, 1984.
102. Попова З.Д., Стернин И.А. Понятие "концепт" в лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999.
103. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке. М., 1988.
104. Потебня А.А. Мысль и язык. Харьков, 1993.
105. Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989.
106. Потебня, А.А. Из записок по теории словесности, Харьков, 1905.
107. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988.
108. Семенченко J1.B. Представления о вмешательстве божества в ход военных действий в "Иудейских древностях" Иосифа Флавия. ВДИ № 3, 1995.
109. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке. М., 1988.
110. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление. М. 1988.
111. Славятинская М.Н. Греческий язык в эпоху эллинизма // Балканы в контексте Средиземноморья, М., 1986, сс. 174-177.
112. Солсо P.J1. Когнитивная психология. М., 1996.
113. Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики // Ф.де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.
114. Степанов Г.В. Несколько замечаний о специфике художественного текста: Сб. научн. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза. Вып. 103. М., 1976.
115. Степанов Ю.С. В мире семиотики // Семиотика, М., 1983.
116. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985.
117. Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981.
118. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975,2001.
119. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.
120. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 1975а.
121. Степанов Ю.С. Семиотика. М., 1971, 2002.
122. Степанов Ю.С. Язык и метод. М., 1998.
123. Степанов Ю.С., Эдельман Д.И. Семиологический принцип описания языка // Принципы описания языков мира. М., 1976.
124. Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.В. Методологические проблемы исследования речевого мышления // Исследование речевого мышления в психолингвистике. М., 1985.
125. Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.В. Методологические проблемы исследования речевого мышления // Исследование речевого мышления в психолингвистике. М., 1985.
126. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1986.
127. Теньер J1. Основы структурного синтаксиса. М., 1988.
128. Теория поля в современном языкознании. Уфа, 1999.
129. Уровни языка в речевой деятельности. JL, 1986.
130. Ушакова Т.Н. Актуальные проблемы психологии речи // Психологические и психофизиологические исследования речи. М., 1985.
131. Фокков Н. К синтаксису новозаветного языка. М., 1887.
132. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
133. Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972.
134. Чейф У.Л. Память и вербализация прошлого опыта // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1983. Вып. XII.
135. Чейф У.Л. Значение и структура языка. М., 1975.
136. Шахнарович A.M. Семантический компонент языковой способности // Психолингвистические проблемы семантики. М., 1983.
137. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.
138. Щедровицкий Г. П. Лингвистика, психолингвистика, теория деятельности // Теория речевой деятельности. М., 1968.
139. Язык и наука конца XX в. М., 1995.
140. Abel, F.-M., Grammaire du grec biblique suivie d'un choix de papyrus. Paris 1927.
141. Aejmelaeus, A. "Participium coniunctum as a Criterion of Translation Technique." A paper read at the IOSCS Congress in Vienna 1980 (Abstract published in Bulletin IOSCS 14 (1981), 49-51.
142. Andersen, F.I., The Sentence in Biblical Hebrew. Janua Linguarum. Series Practica 231. The Hague, Paris 1974.
143. Attridge H. The Interpretation of Biblical History in Antiquitates Judaeorum. Missoula, 1976.
144. Baab, O.J., "A Theory of two Translators for the Greek Genesis" JBL 52 (1933), 239-243.
145. Barr J., The Typology of Literalism in ancient biblical translations. MSU XV. Gottingen 1979. pp. 275-325.
146. Beyer, K., Semitische Syntax im Neuen Testament. Band I. Studien zur Umwelt des Neuen Testaments I. Gottingen 1968.
147. Bickermann, E.J., "The Septuagint as a Translation." PAAJR XXVIII (1959), 1-39.
148. Black M. Aramaic Studies and the Language of Jesus // Biblical Greek Language and Linguistics, ed. by S.E.Porter & D.A.Carson. Sheffield, 1991.
149. Black, David Alan. Linguistics for Students of New Testament Creek: A Survey of Basic Concepts and Applications. Grand Rapids: Baker. 1988.
150. Blake, Frank R., A Resurvey of Hebrew Tenses. Scripta Pontificii Instituti Biblici 103. Roma 1951.
151. Blase F. — Debrunner A. Grammatik des Neutestament-liehen Griechisch. Gottingen, 1975
152. BlomqvistJ., Das sogenannte KAI adversativum: Zur Semantik einer griechischen Partikel. Studia Graeca Upsaliensia 13. Uppsala 1979.
153. Blomqvist J., Greek Particles in Hellenistic Prose. Lund. 1969.
154. Bloomfield, L. Language, NY, 1933.
155. Brock, S.P. «The Phenomenon of Biblical Translation in Antiquity», Alta 2:8(1969)'
156. Brock, S.P., "The Phenomenon of the Septuagint." OTS 17 (1972), 11-36.
157. Brockelmann, C., Hebraische Syntax. Neukirchen 1956.
158. Brockelmann, C., Grundriss der vergleichenden Grammatik der semi-tischen Sprachen. II Band: Syntax. Unveranderter Nachdruck der Ausgabe Berlin 1913. Hildesheim 1961.
159. Browning R. Medieval and Modern Greek. Cambr., 1983.
160. Caiman, G., Die Worte Jesu: Mit Berucksichtigung des nachkano-nischen jiidischen Schrifttums und der aramaischen Sprache. Band I: Einleitung und wichtige Begriffe. Leipzig 1898.
161. Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax, Mass., 1965.
162. Costas, P.S. An Outline of the History of the Greek Language. Chicago: Ares, 1936.
163. Cotterell, P. and Turner M. Linguistics and Biblical Interpretation. Downers Grove, InterVarsity, 1989.
164. Deissmann A. Hellenistic Greek with Special Consideration of the Greek Bible // Biblical Greek Language and Linguistics, ed. by S.E.Porter & D.A.Carson. Sheffield, 1991.
165. Deissmann, A. The Philology of the Greek Bible, London 1908.
166. Deissmann, A., Bibelstudien: Beitrage, zumeist aus den Papyri und Inschriften, zur Geschichte der Sprache, des Schrifttums und der
167. Religion des hellenistischen Judentums und des Urchristentums. Marburg 1895.
168. Deissmann, A., Licht vom Osten: Das Neue Testament unt die noch entdeckten Texte der hellenistisch-romischen Welt. Tubingen 1923.
169. Denniston, J.D., The Greek Particles. Second edition. Oxford 1985.
170. Dorival, G., Harl, M., Munnich, O. La Bible Greque des Septante. P., 1988.
171. Erickson, R.J. "Linguistics and Biblical Language: A Wide-Open Field" JETS 26 (1983): 257-63.
172. Fanning, B.M. Verbal Aspect in New Testament Greek. Oxford: University Press, 1990.
173. Feldman L.H. Use, Authority and Exegesis of Mikra in the Writings of Josephus // Mikra. Text, Translation, Reading and Interpretation of Hebrew Bible./ Ed. M.J.Mulder. Assen-Minneaplis, 1990.
174. Fitzmyer J. A. The Languages of Palestine in the First Century AD // Biblical Greek Language and Linguistics, ed. by S.E.Porter & D.A.Carson. Sheffield, 1991.
175. Francis G. Le polytheisme en emploi singulier des mots Оеод, 8oaiwv . P., 1957.
176. Frazier L. Grammar and language processing // Linguistics: the Cambridge Survey / Ed. by F. Newmeyer. Cambridge: CU Press., 1988. Vol. II.
177. Funk, R.W. Language, Hermeneutic, and Word of God: The Problem of Language in the New Testament and Contemporary Theology. New York: Harper, 1966.
178. Gehman H.S. The Hebraic Character of Septuagint Greek // Biblical Greek Language and Linguistics, ed. by S.E.Porter & D.A.Carson. Sheffield, 1991.
179. Gehman, H.S., "Hebraisms of the Old Greek Version of Genesis." VT III p.141-148.
180. Gehman, H.S., "The Hebraic Character of Septuagint Greek." VT I (1951), 81-90.
181. Gesenius, W. Kautzsch, E., Hebraische Grammatik. 28. Auflage. Leipzig 1909.
182. Harl M. La langue de Japhet: quinze iitudes sur la Septante et le grec des chratiens. P., 1992.
183. Helbing, R., Die Kasussyntax der Verba bei den Septuaginta: Ein Beitrag zur Hebraismenfrage und zur Syntax der koivt|. Gottingen 1928.
184. Hill, D. Greek Words and Hebrew Meanings. Studies in the Semantics of Soteriological Terms. Camb., 1967.
185. Horsley, G.H.R. The Fiction of «Jewish Greek» // New Documents Illustrating Early Christianity, vol. 5, 1989.
186. Huber, K., Untersuchungen uber den Sprachcharakter des griechi-schen Leviticus. Giessen 1916.
187. Jackendoff R. Grammar as evidence for conceptual structure // Linguistic Theory and Psychological Reality. Cambridge (Mass.): MITOress, 1978.
188. Jaubert A., La notion d'alliance dans le judaisme aux abords de 1'иге chratienne. P., 1963.
189. Jellicoe, S. The Septuagint and Modern Study, Oxford 1968, p. 284;
190. Jews and God-Fearers at Aphrodisias / publ. by J. Reynolds and R. Tannenbaum Cambr., 1987.
191. Johannessohn, M., "Das biblische KavtSo^in der Erzahlung samt seiner hebraischen Vorlage." ZVS 66 (1939), 145-195, ZVS 67 (1942), 30-84.
192. Johannessohn, M., "Der Wahrnehmungssatz bei den Verben des Sehens in der hebraj sehen und griechischen Bibel." ZVS 64 (1937), 145-260.
193. Johannessohn, M., "Das biblische каь eyeveTO und seine Geschichte." ZVS 53(1925), 161-212.
194. Johnson A.R., Sacral Kingship in Ancient Israel, Cardiff, 1955.
195. Katz J. An outline of Platonist grammar // Talking minds. Cambridge, 1984.
196. Levinson, S. Pragmatics, Cambridge 1980.
197. Longacre, R. Why We Need a Vertical Revolution in Linguistics, The Fifth Lacus Forum, Columbia, 1978.
198. Louw, J. P. Semantics of New Testament Greek. Philadelphia: Fortress, 1982.
199. MacLay H. Linguistics and language behavior // The Journal of Communication, 1964. Vol. 14, N 2.
200. Maloney E.C., Semitic Interference in Marcan Syntax, Michigan, 1981.
201. Martin, R.A., Syntactical Evidence of Semitic Sources in Greek Documents. Septuagint and Cognate Studies 3. Cambridge, Massachusetts 1974.
202. Meek, Th.J., "Result and Purpose Clauses in Hebrew." JQRXLVI (1955-1956), 40-43.
203. Meek, Th.J., "Translating the Hebrew Bible." BiTrans XVI (1965), 141-148.
204. Meek, Th.J., "The Syntax of the Sentence in Hebrew." JBL 64 (1945), 1-13.
205. Mey M. de. The cognitive paradigm: cognitive science, a newly explored approach to the study of cognition. Dordrecht: Reidel, 1982.
206. Meyer, R., Hebraische Grammatik I-III. Berlin, New York 19661972.
207. Moulton J.H. Einleitung in die Sprache des Neuen Testaments. Heidelberg, 1911.
208. Moulton J.H. New Testament Greek in the Light of Modern Discovery // Biblical Greek Language and Linguistics, ed. by S.E.Porter & D.A.Carson. Sheffield, 1991.
209. Moulton, J.H., A Grammar of New Testament Greek. Vol.111, Syntax by Nigel Turner. Edinburg 1963.
210. Nestle D. Sprachlicher Schlussel zum griechischen NeueJTestament. Giessen-Basel, 1977.
211. Nida, E.A. "Implications of Contemporary Linguistics for Biblical Scholarship." JBL 91 (1972): 73-89.
212. Olofsson, S. The LXX Version. A Guide to the Translation Technique of the Septuagint. Stockholm, 1990.
213. Palmer, L.R. The Greek Language. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, 1980.
214. Porter S.E. The Greek of the New Testament as a Disputed Area of Research // Biblical Greek Language and Linguistics, ed. by S.E.Porter & D.A.Carson. Sheffield, 1991.
215. Porter, Stanley. Verbal Aspect in the Greek of the New Testament, With Reference to Tense and Mood. New York: Lang, 1989.
216. Rabin, Ch. «The Translation Process and the Character of the Septuagint», Textus 6 (1968), p. 21.
217. Rademacher L. Neutestamentliche Grammatik. Tubingen, 1925.
218. Radermacher, L., Neutestamentliche Grammatik: Das Griechisch des Neuen Testaments im Zusammenhang mit der Volkssprache. Tubingen 1925.
219. Radford A. Transformational Syntax: a student's guide to Chomsky's extended standard theory. Cambridge (Mass.): CU Press, 1981.
220. Robertson, A.T., A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research. Nashville, Tennessee 1934.
221. Rydbeck L. On the Question of Linguistic Levels and the Place of the New Testament in the Contemporary Language Milieu // Biblical
222. Greek Language and Linguistics, ed. by S.E.Porter & D.A.Carson. Sheffield, 1991.
223. Rydbeck L., Fachprosa, vermeintliche Volkssprache und Neues Testament, Uppsala, 1967.
224. Schmidt, D.D. "The Study of Hellenistic Greek Grammar in the Light of Contemporary Linguistics." PRS 11 (1984): 27-38.
225. Silva, M. Biblical Words and Their Meaning: An Introduction to Lexical Semantics. Grand Rapids: Zondervan, 1983.
226. Silva, M. Bilingualism and the Character of Palestinian Greek, Biblica 61 (1980).
227. Sollamo, R., Renderings of Hebrew Semiprepositions in the Septuagint. AASF, Helsinki 1979.
228. Stepanov, J.S. Les relations inter- et intra-predicatives sont-elles semantiquement identiques? // Les relations inter- et intra-predicatives, Lausanne 1993.
229. Sweet, H. History of Language. New York: Macmillan, 1900.
230. Sweete, H.B. An Introduction to the ОТ in Greek, Cambridge 1900
231. Talking minds: the study of language in cognitive science / Ed. by G. Bever. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1984.
232. Thackeray, Henry St. John, "The Bisection of Books in Primitive Septuagint Mss." JTS IX (1908), 88-98.
233. Thackeray, Henry St. John, A Grammar of the Old Testament in Greek according to the Septuagint I. Cambridge 1909.
234. Thrall, Margaret E., Greek Particles in the New Testament. New Testament Tools and Studies III. Grand Rapids, Michigan 1962.
235. Thumb A. Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Beitrage zur Geschichte und Beurteilung der koivti . Strassburg, 1901.
236. Thumb, Albert, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus: Beitrage zur Geschichte und Beurteilung der KOINH. Strassburg 1901.
237. Torrey Ch.C. The Aramaic of the Gospels // Biblical Greek Language and Linguistics, ed. by S.E.Porter & D.A.Carson. Sheffield, 1991.
238. Tov, E. «Three dementions of LXX Words», RB 83 (1976).
239. Trenkner, S., Le style KAI dans le recit attique oral. Bibliotheca Classica Vangorcumiana IX. Assen, Pays-Bas 1960.
240. Turner N. The Language of Jesus and His Disciples // Biblical Greek Language and Linguistics, ed. by S.E.Porter & D.A.Carson. Sheffield, 1991.
241. Vdovichenko A. Hebrew Narrative Syntax in the Septuagint and New Testament Greek 00 Filologia Neotestamentaria, Cordoba 3, 2000.
242. Vdovichenko A. Philo's Complete Edition in Russia // Studia Philonica N9, ed. by D.Runia, New York, 1998.i
243. Vdovichenko A. Traditional Literary Language of the Gospels. New Descriptive Model for the so Called Jewish Greek // Filologia Neotestamentaria, Cordoba.
244. Viteau, J., Etude sur le grec du Nouveau Testament. Le verbe: Syntaxe des Propositions. Paris 1893.
245. Weinrich, H. Linguistik der Lue^e, 1966. i
246. Weinrich, H. Tempus: Besprochene und еггдЬке Welt. Stuttgart: Kohlhammer, 1964.
247. Wevers, J.W., Text History of the Greek Genesis. Gottingen 1974.
248. Zerwick, M., Biblical Greek. Biblici 114. Rome 1963.