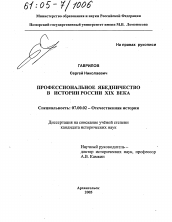автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Профессиональное ябедничество в истории России XIX века
Полный текст автореферата диссертации по теме "Профессиональное ябедничество в истории России XIX века"
На правах рукописи
ГАВРИЛОВ Сергей Николаевич
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЯБЕДНИЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ XIX ВЕКА
Специальность: 07.00.02 - Отечественная история
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук
Архангельск 2005
Работа выполнена на кафедре отечественной истории Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Научный руководитель:
Официальные оппоненты:
доктор исторических наук, профессор Камкин Александр Васильевич
доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Власова Ирина Владимировна
кандидат исторических наук, доцент Шаляпин Сергей Олегович
Ведущая организация:
Сыктывкарский государственный университет
Защита состоится 16 сентября 2005 года в 12 часов на заседании Диссертационного совета Д 212.191.02 при Поморском государственном университете имени М.В. Ломоносова по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 7, учебный корпус ПГУ № 2, ауд. 201.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Поморского государственного университете имени М.В. Ломоносова по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 4.
Автореферат разослан
41
августа 2005 г.
Ученый секретарь Диссертационного совета доктор исторических наук, профессор
В.И. Коротаев
2Оое-4
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В числе явлений социальной, правовой и культурной истории России на протяжении нескольких веков имело место ябедничество.
Возникшее и развившееся на правовой почве - как проявление недобросовестных приёмов и методов при ведении судебных (административных и иных) дел, явление это по своей сути и значимости давно вышло за рамки исключительно правового. Исследование профессионального ябедничества существенно расширяет наши представления о развитии социальных институтов, о появлении элементов гражданского общества в период модернизационных процессов в России XIX века.
Распространенность ябедничества, множество его явных и скрытых социальных проявлений, вовлеченность в него всех сословий и слоев населения, роль постоянного раздражителя общественного мнения - эти и другие аспекты указанного явления естественным образом ставят вопрос о необходимости его тщательного изучения средствами исторической науки. Современное состояние отечественной историографии свидетельствует о потребности разработки данной темы.
Исследуемый феномен можно признать «мониторинговым» для целого комплекса явлений и процессов правовой и социокультурной реальности России на протяжении ряда веков По характеру отношения общества к ябедничеству можно судить не толы® об отношении его (общества) к праву, к судебной процедуре, но и отношению к правам личности вообще, а также делать выводы об иерархии общественных ценностей россиян в тот или иной период.
Актуальность темы усиливается тем, что хотя само слово «ябеда» рассматривается в настоящее время как устаревшее и употребляется в ином, чем ранее, значении, профессиональное ябедничество, изменившееся по форме, но неизменное по сути своей, живо и в настоящее время В период очередных попыток создания в России гражданского общества явление это вполне современно.
Степень научной разработанности темы. Ябедничество в значении «сутяжничество»; «крючкотворство»; «привязка, придирка по тяжебным делам» специальной историографии практически не имеет. Оно упоминается косвенно, в контексте иных проблем и исследовательских задач. В частности, исследуемый феномен нашел отражение в литературе, освещающей общие проблемы состояния и развития права и правосознания (посвящённой судоустройству и судопроизводству; профессиональному правозаступничеству и судебному представительству (адвокатуре) и др ), а также в исследованиях историков и этнографов, посвященных истории обычного права и правосознания.
Такая историографическая ситуация позволяет диссертанту в меньшей степени обращаться к работам отдельных авторов и сосредоточиться на значимых для проводимого исследования достижениях научных направлений.
Можно условно выделить три группы работ.
I. Прежде всего, необходимо назвать авторов, работы которых посвящёны истории права (Б.Д. Греков, М.Ф. Владимирский-Буданов, А.Куницын, В. Латкин, В. Сергеевич, М.Н.Тихомиров, C.B. Юшков и др.). Не имея прямого отношения к теме ябедничества, эти работы, тем не менее, характеризовали общий правовой контекст, в рамках которого развивалось изучаемое явле
Так, в трудах М.Ф. Владимирского-Буданова, C.B. Юшкова, В. Сергеевича освещаются вопросы возникновения и развития института судебного представительства, на почве которого профессиональное ябедничество развивалось.
В трудах К.К. Арсеньева, Е.В. Васьковского, М. Винавера, Д H Бородина, П. Кот-ляревского, П.В. Макалинского изучаются проблемы подготовки и проведения Судебной реформы 1864 г., а также развития профессионального правозаступничествава и судебного представительства (адвокатуры) Особо следует отметить трёхтомник «История русской адвокатуры»,' подготовленный группой авторов и содержащий исследования различных аспектов существования и деятельности адвокатуры в России за полувековой период ее существования (1864-1916 гг.).
Необходимо отметить, что даже в юридической литературе теме развития профессионального правозаступничества и судебного представительства в дореформенный (1864 г.) период уделено недостаточно внимания. Авторы (Бородин, Васьковский, Гессен), как правило, ограничивались лишь поверхностным описанием общего состояния указанных институтов, не проводя углубленного анализа их развития и проблем.
Из современных публикаций данной категории работ следует назвать труды В.Н. Смирнова и P.P. Усманова,2 H.A. Троицкого,3 Н.В. Черкасовой.4 Так, В.Н. Смирнов и Р Р. Усманов исследуют проблемы становления адвокатуры среднего Урала. Н.А Троицкий освещает социально-политические аспекты развития адвокатуры в период реформ и контрреформ в России второй половины XIX в. Работа Н.В. Черкасовой посвящена первым десятилетиям развития присяжной адвокатуры в России. При этом в основном автор основывается на уже введенных (Васьковским, Макалинским) в научный оборот материалах.
Труды И .Я. Фойницкого, В. Случевского, A.M. Пальховского и других процессуалистов позволяют выявить общее состояние явления в среде целого комплекса правовых институтов и процессов, вскрыть их взаимосвязи и взаимозависимость В частности - установить связь между уровнем развития судебной процедуры и качественным (количественными) проявлениями ябедничества.
II. Работы, в которых авторы в той или иной степени касаются ябедничества в различных его проявлениях.
Ряд авторов второй половины XIX в. касались проблем профессиональной этики адвокатов. В их числе - А. Марков, составивший на основе анализа дисциплинарной практики советов присяжных поверенных сборник правил адвокатской этики,5 Гр. Джаншиев, Д. Невядомский, В. Ильинский, В Птицын. Представляют интерес в этом отношении труды К.К. Арсеньева, Е.В Васьковского, В.Ф. Домб-ровского, М.Д. Кельмановича, А. Френкеля, а также других авторов.
В центре внимания стоял вопрос: вправе ли адвокат принимать на себя ведение «заведомо неправого дела»? В результате выделились две диаметрально противопо-
1 История русской адвокатуры. В 3 т - М, 1914-1916.
2 Смирнов В Я, Усманов РР История адвокатуры среднего Урала - Екатеринбург, 1999
3 Троицкий НА Адвокатура в России и политические процессы 1866-1904 гг - Тула, 2000
* Черкасова ИВ Формирование и развитие адвокатуры в России (60-80-е годы XIX в ) - М, 1987
5 Марков А Правила адвокатской профессии в России: Опыт систематизации постановлений советов присяжных поверенных по вопросам профессиональной этики - М, 1913
ложные позиции, оформившиеся в теориях «закономерности» (Невядомский) и «избирательности» (Васьковский, Джаншиев).
В целом, указанные авторы выявили широкий спектр общественного мнения по отношению к проблеме ябедничества.
Ш. Работы историков, этнографов и юристов, посвящённые развитию обычного права и правосознания (В. А. Александров, А .Я. Ефименко, A.B. Камкин, A.A. Леонтьев, Б.Н. Миронов, C.B. Пахман, Е.Т. Соловьёв, В.В. Тенишев, И. Тютрюмов).
Авторы по-разному подходили к истории развития обычного права и его существу Одни видели в обычном праве XIX в. самобытное развитие юридических норм (Тютрюмов, Мухин, Леонтьев), другие сближали его с установлениями права, творимого государством (Пахман).
Вместе с тем, необходимо отметить, что возникающее, как отмечал В Сергеевич, под воздействием двух сил - индивидуального сознания и «инертной силы обыкновения»,1 и игравшее большое значите в юридической практике России (в частности, XIX в.), - обычное право, не в меньшей мере, чем «писанное», являлось той средой, в которой существовало и развивалось ябедничество. «Мироеды» и «кот-таны», весьма прочно укоренившиеся в крестьянском бьпу, успешно использовали возможности норм обычного права в своей деятельности.
В числе работ по социальной истории России следует назвать труд Б.Н. Миронова,2 который в числе прочих затронул и вопросы, относящиеся к объекту исследуемого явления, такие как генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства в России XVIII - начала XX в.
Подводя итоги историографии ябедничества, возможно сделать вывод о том, что работы, посвященные комплексному анализу ябедничества как правового и социокультурного явления, отсутствуют Соответственно, отсутствует и «сквозной» анализ развития ябедничества, как явления, присущего целому ряду исторических периодов отечественного развития.
Объект исследования - правовая культура и правосознание в процессе зарождения гражданского общества в России XIX в.
Предмет исследования - профессиональное ябедничество в России XIX в., как ведение судебных (административных и иных) дел лицами, профессионально выполняющими функции правозаступников (судебных представителей) посредством недобросовестных приемов и методов.
Предмет исследования содержит две составляющие- 1) ябеду - как «сутяжничество» и «крючкотворство», совершаемое профессиональными правозаступниками (судебными представителями); 2) ябеду - как ябедника, т.е. носителя ябедничества (все категории лиц, отождествлявшихся в общественном сознании с понятиями «сутяга», «крючкотвор», «ябедник»).
Цель диссертационного исследования: выявить сущность ябедничества, определить его социокультурное место и значение в контексте модернизационных процессов российского общества XIX в.
1 Сергеевич В. Лекции и исследования по древней истории русского права. - СПб, 1899 - С 9
2 Миронов Б Н. Социальная история России периода Империи (XVIII - начало XX в ) Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства' В 2 т -СПб, 1999.
Задачи исследования:
1. Определить правовую и социокультурную сущность профессионального ябедничества в России, обнаружить его проявления и носителей.
2. Установить место профессионального ябедничества в системе правовых и социальных отношений в XIX в., выявить оценку, даваемую ему государством и обществом.
3. Определить значимость явления для процесса формирования гражданского общества в России XIX в., его правосознания и правовой культуры.
Своим исследованием диссертант стремился содействовать решению ряда вопросов, находящихся в ареале проблем философско-правового и культурологического характера (в частности, в рамках аксиологической проблематики).
Хронологические рамки исследования определены эпохой предпосылок, реализации и следствий Судебной реформы 1864 г., которая является одним из важнейших факторов зарождения гражданского общества в России XIX в.
Хронологические рамки исследования ограниченны следующим периодом; нижняя граница - конец XVIII в., верхняя - конец XIX в.
Для проведения исследования необходимо было найти знаковые для исследуемого явления процессы (события), которые возможно рассматривать как значительные вехи в его развитии. И такими возможно считать: написание и театральную постановку комедии В.В. Капниста «Ябеда» (время написания: 1791 - 1798 гг.) и общественный резонанс 80 - 90-х гг. XIX в., вызванный процессами «деморализации», происходившими в российской адвокатуре. В первом случае, это художественно-литературное произведение, воплотившее в себе общественный протест по отношению к ябедничеству. Во втором - полемика о проблемах адвокатуры, как «пособнице неправды», «рассаднику ябедничества» и т.п., активно развернувшаяся в прессе. В том и другом случае возможно наблюдать, своего рода, пики реагирования общества на конкретный социальный феномен. Все это свидетельствовало о том, что явление вызывало вполне определенную реакцию социума.
В исследуемый период ябедничество вынуждено было адаптироваться к новой общественной и правовой среде, и чтобы выжить - пройти через, своего рода, «этап модернизации». Именно Судебная реформа 1864 г. и последующие процессы отхода от ее ключевых позиций (контрреформы) во многом активизировали осмысление и переосмысление целого комплекса социокультурных явлений, в числе которых было и ябедничество. Войдя в XIX в как явление, сложившееся в эпоху средневековья с соответствующими статусом, признаками и формами функционирования, ябедничество вышло из него сохранившим свою суть.
В отдельных разделах работы в целях изучения генезиса некоторых аспектов ябедничества автор выходит за хронологические рамки исследования, обращаясь к более ранним периодам истории.
Территориальные рамки исследования включают территорию России, преимущественно ее центральные губернии. Исследуя проявления ябедничества в отдельных регионах, соискатель, вместе с тем, не ставил целью зафиксировать и изучить местные особенности феномена, поскольку региональная практика не меняла сущности самого явления.
Методология и методика исследования. При проведении исследования
диссертантом избран путь интегрального научного подхода, лишь в рамках которого возможно преодоление односторонностей сугубо юридической или исторической стратегий изучения. Рассматривая ябедничество как явление правового, исторического, культурологического характера и как антропологическую проблему, соискатель исходит из того, что только синтез познавательных возможностей отдельных дисциплин обеспечит решение задач исследования.
Диссертант делает попытку изучить явление с позиции школы «Анналов», видя свою задачу не в том, чтобы выявить и описать цепь событий, определивших ход исторического развития ябедничества, но, познать сущность предмета исследования во взаимосвязях и взаимозависимости с другими процессами и явлениями социокультурной действительности. В этой связи представляется весьма плодотворным феноменологический подход, предполагающий исследование ябедничества как некоего устойчивого социального образа, обладающего своим смысловым «кодом», единством внешних и скрытых признаков, устойчивой самоидентичностью и вызывающего однотипную рефлексию в социуме.
Автор опирается на историко-генетический метод, состоящий в данном случае в выяснении условий и обстоятельств возникновения ябедничества, в прослеживании эволюции его сущностных признаков не только в пределах избранного хронологического периода, но и в предшествующее ему время.
Исследователь использует также познавательные возможности метода исторической типологизации. Выявленные материалы позволяют выделить типы профессиональных ябедников, а также способы их социальной адаптации Типологизация позволяет установить механизмы социальной мимикрии ябедничества в быстро меняющихся условиях правовой системы эпохи «великих реформ».
Информационный пласт, которым обладает диссертант, предоставляет возможность опереться и на исследовательские процедуры культурной (социальной) антропологии. В частности, по единому алгоритму проследить биографии профессиональных ябедников, мотивацию их поступков и действий, соотнести их с традиционными и новационными соционормативными ценностями российской правовой культуры. Как отмечал А.Я. Гуревич, «историки, разделяющие принципы исторической антропологии, изучают деяния и мысли не одной только правящей элиты, но стремятся пробиться к другому уровню исторической реальности, охватить повседневную жизнь людей из разных слоев общества, воссоздать, в той мере, в какой это возможно, их взгляды и привычки сознания, их системы ценностей, определявшие их поведение, реконструировать картину мира, которая детерминировала их образ жизни и налагала на их мысли и поступки неизгладимый отпечаток».1
При определении семантической структуры слова «ябеда» и выявлении формы его отражения в общественном сознании в различные исторические периоды автор использовал методы лингвистической семасиологии и, в частности, метод компонентного анализа.
Анализ семантической структуры слова «ябеда» производился в диахронном и синхронном аспектах. Так, пытаясь обратиться к истокам возникновения изучаемого
1 Марк Блок Короли-чудотворцы Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии - М, 1998 - С 668
феномена и прослеживая генезис его развития, диссертант использовал метод этимологического анализа.
Учитывая то, что при реконструкции социального портрета ябедника и изучении других аспектов исследуемого феномена анализировались художественно-литературные источники, автор использовал метод комплексного филологического анализа.
Профессиональное ябедничество как феномен возникло и развивалось на правовой почве. С одной стороны, ябедники активно использовали правовой инструментарий в своей деятельности, с другой - законодатель в стремлении «уменьшить зло ябеды» создавал соответствующие правовые механизмы и средства. Изучение нормативно-правовых актов и практики их применения позволило выявить массу ценной информации Исследование правовых документов производилось с использованием сравнительно-правового метода и ряда других методов правовой науки.
В процессе работы применялись также другие частнонаучные методы исследования.
В целом же методология и методика исследования строиться на принципах приоритета источника, целостности и научной объективности с использованием новых познавательных возможностей, которые открывает изучение малых социальных групп в рамках социальной истории.
Источниковая база. Масштабность исследуемого явления заставляет в массе источников опираться, прежде всего, на те из них, которые могут отразить его наиболее общие признаки Диссертант не ставил задачи изучить какие-либо «местные» проявления ябедничества, характерные для той или иной территории России в изучаемый период Вместе с тем, при отборе и анализе материалов использованы данные, характеризующие проявления ябедничества в отдельных географических районах.
В процессе работы над темой были обследованы отдельные фонды трёх архивохранилищ. Российский государственный исторический архив (РГИА), Центральный государственный исторический архив г. Москвы (ЦГИАМ) и Государственный архив Вологодской области (ГАВО).
Так, в РГИА в результате обследования 19 фондов был выявлен целый комплекс весьма ценных материалов.
При подготовке диссертации были исследованы следующие фонды РГИА: фонды законодательных комиссий' Ф. 1259 (Комиссии для составления законов (1784-1804), Ф. 1260 (Комиссии составления законов (1804-1848); фонды Государственного Совета: Ф. 1149 (Департамента законов Госсовета) и Ф. 1151 (Департамента гражданских и духовных дел госсовета); Ф. 1341 (I департамента Сената); Ф. 1364 (Гражданского кассационного департамента правительствующего Сената); Ф. 1374 (Генерального прокурора Сената); Ф. 1263 (Комитета министров); Ф. Министерства внутренних дел: Ф. 1284 (Департамента общих дел МВД), Ф. 1286 (Департамента полиции исполнительной МВД), Ф. 1287 (Хоз. Департамента МВД), Ф. 1288 (Главного управления по делам местного хозяйства МВД); Ф. 515 (Главного управления уделов); Ф 1409 (Собственной е.и.в. канцелярии).
В числе обследованных фондов, в составе которых обнаружены полезные для исследования документы - личные фонды: Ф. 857 (А С.Зарудного), Ф. 651 (Василь-чиковых), Ф. 994 (Мордвиновых), Ф. 1044 (Сабуровых).
В фондах ЦГИАМа внимание соискателя привлекли Ф. 1697 (Совета присяж-
ных поверенных округа Московской судебной палаты) и Ф 78 (Московского коммерческого суда).
Интерес представили для диссертанта архивные материалы, содержащиеся в ГАВО. Предметом изучения являлись фонды 178 (Вологодской палаты гражданского суда), 179 (Вологодского окружного суда), 180 (Прокурора Вологодского окружного суда).
Всего в процессе работы в архивохранилищах выявлено и изучено около 300 дел.
Основные виды исследованных источников.
I. Законодательные акты Выявлено и проанализировано более трёхсот пятидесяти нормативно-правовых актов за период с XV по начало XX в. В их числе -грамоты, судебники, уложения, уставы, регламенты, указы, законы, манифесты и другие акты.
Данный вид источников анализировался по ряду позиций. В частности, с точки зрения наличия в них признаков и проявлений ябедничества, как правового явления, признаков и проявлений ябедничества как социокультурного явления; отношения законодателя к ябедничеству; мер, направленных на устранение ябедничества (их видов и характера).
В результате выявлен целый комплекс документов, содержащих информацию позволяющую делать вполне определённые выводы относительно объекта исследования.
П Отчетная и учётпо-статистическая документация В процессе работы соискатель обращался к статистическим данным, стремясь выявить информацию по двум основным позициям' 1) касающуюся состава профессиональных правозаступников и судебных представителей; 2) случаев проявления ябедничества
Использовались отчеты комиссий помощников присяжных поверенных' и советов присяжных поверенных,2 значительная часть которых опубликована.
Несомненный интерес представил «Список лиц, устраненных от хождения по судебным делам, за время с 1875 года по 1-ое января 1910 года».3 Содержащиеся в Списке данные позволяют проанализировать ряд обстоятельств и сделать выводы относительно географической распространённости явления и состава лиц, которые были замечены в предосудительном образе действий при хождении по чужим судебньгм делам
Соискателем проанализированы на предмет выявления статистических данных «Именные списки частным поверенным, получившим свидетельства на право ходатайствовать по чужим делам», в которых имеются сведения об отдельных частных поверенных, состоявших при Вологодском окружном суде за период с 1886 по 1907 гг4
Отчет комиссии помощников присяжных поверенных округа С -Петербургской судебной палаты за 1884 г - СПб, 1884, Отчет комиссии помощников присяжных поверенных округа С -Петербургской судебной палаты за 1890 год - СПб, 1890, Отчет комиссии помощников присяжных поверенных округа С -Петербургской судебной палаты за 1891 год - СПб , 1892 и др
2 Отчет Московского совета присяжных поверенных за 1882-1883 год - М, 1883, Отчет
Московского совета присяжных поверенных за 1888-1889 г - М , 1890, Отчет Московского совета присяжных поверенных за 1889-1890 г. - М, 1890, Отчет Московского совета присяжных поверенных за 1890 - 1891 г - М., 1891 и др 'ГАВО Ф 180 Оп 15 Д 2.
4 Там же Ф 179 Оп 5 Д 206
III. Делопроизводственная документация. В данную группу источников входят: документы Государственного совета, законодательных комиссий; доклады и докладные записки; переписка по делам окружных судов; именные списки частным поверенным, получившим свидетельства на право ходатайствовать по чужим делам; дела
0 принятии в число частных поверенных; дисциплинарные производства (присяжных поверенных, их помощников и частных поверенных), судебно-следственные материалы.
Предметом внимания были и проекты нормативно-правовых актов. Учитывая то обстоятельство, что проекты в строго юридическом смысле нельзя отнести к категории законодательных актов, автор причислил эти документы к категории источников, образующих делопроизводственную документацию.
В процессе работы изучались документы Государственного совета и законодательных комиссий. В фонде 1149 (Департамент законов Госсовета) выявлен и проанализирован ряд проектов, предусматривающих меры, направленные к совершенствованию судопроизводства, и, в частности, по вопросам судебного представительства1 Обнаруженные материалы позволили получить представление о том, какова была позиция законодателя по отношению к изучаемому явлению, какие меры законодательного характера предполагалось предпринять в целях «уменьшения зла ябеды».
В предмет изучения входили и проекты нормативно-правовых актов локального характера.2
Участие в проектировании института профессиональных правозаступников и судебных представителей, а также мер, направленных на устранение ябедничества, принимали и частные лица.3 В числе выявленных и использованных документов были доклады и докладные записки.4 Причем, в работе использовались не только доклады должностных, но и докладные записки частных лиц.5
Целый ряд судебных дел относящихся к периоду 20 - 50-х гг. XIX в. был обнаружен в фонде Департамента гражданских и духовных дел Госсовета (Ф. 1151). Особенно важно то, что данные дела, как рассмотренные департаментом Госсовета выступали в качестве своего рода прецедентов для нижестоящих судебных инстанций, и, следовательно, были вполне типичны.
В процессе работы проведён анализ дисциплинарной практики С-Петербург-ского, Московского, Харьковского советов присяжных поверенных, Вологодского окружного суда за 1864-1900 гг. При этом диссертант основывался, как на опубликованных и систематизированных данных (П.В. Макалинский,6 История русской адвокатуры,7 К.К. Арсеньев" и др.), так и выявленных в фондах Министер-
1 РГИА. Ф 1149. Оп 1 Д. 7, Д. 17; Оп 2. Д. 23; Оп. 69. Д. 7040; Д 7049 и др
2 Там же. Ф. 1405. Оп. 58 Д. 2106 и др.
3 Там же Ф 6S1 Оп. 1. Д 299; Ф 994. Оп. 2. Д 494, Ф. 1405. Оп 44. Д 4892 и др
4 Там же. Ф.1409. Оп 1. Д.1290 и др.
5 Например, РГИА. Ф 1405. Оп. 69. Д. 7040 и др.
6 С.-Петербургская присяжная адвокатура' Деятельность С -Петербургских совета и общих собраний присяжных поверенных за 22 года (1866-1888 гг.) / Сосг присяж поверенный П В Макалинский. - СПб., 1889
7 История русской адвокатуры: В 3 т. - М., 1914-1916
8 Арсеньев К К. Заметки о русской адвокатуре Обзор деятельности С.-Петербургского совета присяжных поверенных за 1866-1874 гг - СПб., 1875
ства юстиции (РГИА. Ф. 1405), Московского окружного суда (ЦГИАМ. Ф 142), Вологодского окружного суда (ГАВО. Ф. 179).
В результате обнаружен целый комплекс проявлений «неправильных и предосудительных действий», совершённых несколькими категориями профессиональных правозаступников и судебных представителей. Кроме того, получен список «профессиональных ябедников» и отдельные сведения о них.
IV. Периодическая печать. В процессе исследования выборочно просмотрены комплекты 50 наименований журналов и газет различной направленности за период с 1858 по 1900 гг. Отобраны различные по периодичности, территориям, издателям, содержанию журналы и газеты. При этом выявлено и изучено более 500 издательских единиц и опубликованных в них статей, очерков, корреспонденции и др Проанализированы публикации различных жанров: статьи, заметки, корреспонденции, фельетоны, судебные отчёты, объявления.
В них также выявлялись официальные документы, проекты законодательных актов и отзывы на пих, материалы судебной практики, мнения читателей по отдельным вопросам, публицистические произведения и др.
Кроме этого, выборочно изучались комплекты отдельных изданий за 18581914 гг. в результате, был отобран ряд публикаций и материалов. В частности, просмотрены комплекты ежедневной официальной газеты Министерства внутренних дел «Правительственный Вестник», (1893 г.); литературно-политических журналов: «Вестник Европы» (1869 г.; 1874-1896 гг.), «Дело» (1868 г.; 1876 г.), «Отечественные записки» (1958 г.; 1874 г; 1876 г); научного, литературного и политического журнала «Русская мысль» (1884-1895 гг.), общественной, литературной и политической газеты «Южный край» (1880-1891 гг.) и др. Исследовались исторические издания: «Русская летопись», «Русская старина».
V. Публицистические проюведения Учитывая особенности и значение профессионального ябедничества как явления социокультурного, соискатель не мог обойти вниманием такую группу источников, как публицистические произведения Располагая информацией, содержащейся в других видах источников и отражающей позицию официальных органов и должностных лиц на проблему ябедничества, автор стремился выявить общественное мнение по исследуемому вопросу.
В этом отношении, для диссертанта представила интерес работа «Столичная адвокатура».' Значительный толчок обсуждению вопросов этики и нравственности в деятельности профессиональных правозаступников дал фельеюн Е. Маркова «Софисты XIX века». Данная работа имела многочисленные отклики и вызвала активную полемику.2
1 См: Столичная адвокатура. Наброски С - М, 1895
2 Платонов С О русской адвокатуре «Софисты XIX века» г. Маркова и «заметки об адвокатуре» г Арсеньева//Журнал гражданского и уголовного права - 1875 -Кн 3, Кн 4, Кн 5; Избиение адвокатов Марковым // Вестник Европы. - 1875 - Кн 3; Белов Ев Современный вопрос об адвокатах // Гражданин 1875 23 сентября; Суд над русской адвокатурой // Неделя. 1875 15 ноября; Громницкий М Адвокат об адвокатах (причины дурных отзывов об адвокатуре) // Неделя. 1875. 16 октября и др
Интерес представляют и работы Кроткова,1 П.Н. Обнинского,2 М.Х. Петрула-на,3 В.В. Птицина.4 Ряд публицистических произведений выявлен в журнально-газет-ных публикациях.3
VI. Художественно-литературные источники. Значительную роль в описании ябедничества - его проявлений и причин существования, а также в создании социального портрета профессионального ябедника играют художественно-литературные источники.
В процессе работы над этой категорией источников выявлено более пятидесяти произведений за период с конца XVIII до начала XX в., которые так или иначе касались адвокатов и адвокатской деятельности вообще и, в частности, проявлений недобросовестности в данной сфере Вот некоторые из них: комедия В.В. Капниста «Ябеда» (Праволов, Наумыч); роман A.C. Пушкина «Дубровский» (заседатель Шабашкин); поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» (юрисконсульт); социально-бытовая историческая хроника М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» (Петр Дормидонтович Могильцев); комедия А Н. Островского «Свои люди - сочтемся'» (Сысой Псоич Рисположенский). Целая плеяда ябедников изображена у И.Ф Горбунова в «Иверских юристах». Образ профессионального ябедника присутствует в произведениях JI.H. Андреева, Ф.М. Достоевского, Д Н Мамина-Сибиряка, Н.А Некрасова, А.Ф. Писемского, А П. Чехова и других классиков русской литературы.
В процессе работы диссертант обращался и к другим источникам. В частности, активно использовались этимологические, толковые, энциклопедические, юридические словари XVIII - XX вв.
Таким образом, выявленный корпус источников представляется вполне репрезентативным и обеспечивающим решение задач исследования
Научная новизна работы состоит в том что,
1) впервые ябедничество становится предметом специального исторического исследования;
2) выявлена особая социальная группа (профессиональные ябедники) и выделены ее сущностные признаки;
3) определены место и роль ябедничества в социальной и культурной жизни России в исследуемый период.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что такой социокультурный феномен, как профессиональное ябедничество, изучается с позиции междис-
1 Кроткое Волчье стадо- Записки провинциального адвоката' Сцены и картины сельского суда -М, 1875
2 Обнинский П.Н Адвокатура//Закон и быт Выпуск I - М., 1891 -С 162-312.
3 Петрулан МХ Частная сельская адвокатура в Северо-Западном крае - Вильна, 1891
4 Птицын В В Древние адвокаты и наши присяжные цицероны - СПб, 1894; Птицын Влад Адвокат за адвокатуру. - СПб, 1895
5 Репинский Гр Поверенные по делам // Юридический вестник - 1860-1861 - Кн 5, Берви В Несколько слов о ходатаях по делам // Юридический вестник - 1860-1861 - Кн 6, Соколов И А Об адвокатах или стряпчих по частным делам // Сын Отечества - 1861 - № 4; Зайдлер И Уличные адвокаты и их клиенты // Одесский вестник 1864. 14 октября.
циплинарного подхода, предполагающего использование синтеза познавательных возможностей различных наук.
Недостаточная изученность явления, как полагает диссертант, вызвана его пограничным для ряда научных дисциплин положением. Именно поэтому соискатель применил интегральный научный подход, с помощью которого, по его мнению, возможно создавать новые стратегии при исследовании малоизученных явлений исторической реальности.
Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы, выводы и обобщения, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть использованы при создании фундаментальных работ по социальной истории России, культурологи, праву Материал диссертации может быть использован в образовательной деятельности для изучения истории России XIX в.
Апробация и внедрение в практику результатов исследования. Апробация результатов исследования проводилась в докладах на научных конференциях: «Традиции в контексте русской культуры» (Череповец, ноябрь 1999 г.; ноябрь 2000 г., ноябрь 2001 г.); научно-практической конференции «Образование и наука в Череповце: история, опыт и перспективы» (Череповец, июль 2001 г.); научно-практической конференции «Ноосферные знания и технологии XXI век (Череповец, июль 2002 г)
Материалы исследования использовались при подготовке спецкурса «Профессиональное ябедничество в истории России XV - начала XX вв.», проведенного для студентов III курса исторического факультета Череповецкого государственного университета; при подготовке монографии (Гаврилов С.Н. Профессиональное ябедничество в России до Судебной реформы 1864 г. как правовой и социокультурный феномен: Монография. - Череповец: 41 ПИ, 2002).
В результате обработки литературы и периодической печати был подготовлен (в соавторстве с Н.Н Фарутиной) указатель литерагуры по присяжной адвокатуре (История адвокатуры в России- присяжная адвокатура по Судебным Уставам 1864 г (1864-1917 гг.): Указатель литературы. - Вологда: Вологодская областная универсальная научная библиотека, 2000.).
Диссертация содержит обоснование положений, имеющих научное и практическое значение, которые выносятся на защиту. К ним относятся-
1. Профессиональное ябедничество - это недобросовестность при ведении судебных (административных и иных) дел лицами, профессионально выполняющими функции правозаступников (судебных представителей).
2. При всем многообразии проявлений ябедничества и наличии в его развитии нескольких этапов, в сущности своей оно оставалось неизменным на протяжении ряда веков, образуя устойчивую традицию.
3. Проявления ябедничества были присущи представителям различных социальных групп.
4 Ябедничество было распространено на всей территории России
5. Во все периоды существования явления, общество и государство негативно относилось к проявлениям ябедничества и его носителям, вместе с тем, существовала потребность общества и государства в ябедничестве
6 Профессиональное ябедничество оказывало заметное влияние на культурную и правовую жизнь России на протяжении ряда веков
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения. Диссертация содержит список использованных источников, литературы и приложения. Логика построения работы предопределена целью и задачами исследования. Так, в Главе 1 сделана попытка определить сущность ябедничества и проследить историю его возникновения. Вторая и третья главы посвящены развитию профессионального ябедничества, его проявлениям и носителям в XIX в., в период до Судебной реформы 1864 г. (Глава 2) и в период ее проведения (Глава 3).
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении дается обоснование актуальности темы, устанавливаются объект, предмет, хронологические и территориальные рамки, цель и задачи исследования; определяется методология и методика исследования, его новизна; содержатся положения, которые выносятся на защиту. Проведен анализ историографии ябедничества и источниковой базы исследования.
В главе первой «Сущность и возникновение ябедничества» определяется сущность ябедничества и прослеживается история его возникновения В этих целях на основе ряда источников: этимологических, толковых, энциклопедических, юридических словарей конца XVIII - XX вв.; нормативно правовых актов XV- начала XX вв., выявлены толкование, этимология и история семантического развития слова «ябеда», определены юридическая природа, признаки и состав ябеды как правонарушения.
В частности, в результате лингвистического анализа слова «ябеда» (§ 1 «Слово «ябеда»: толкование, этимология и история семантического развития») автор пришёл к ряду выводов.
В процессе исторического развития слово изменило свое значение, утратив нейтральность («ябетьникъ» как должностное судебное лицо), приобрело отрицательную коннотацию («ябедник» как «сутяга» и «крючкотвор»). По словам В О Ключевского «в <...> смысле клеветы, крючкодейства является ябеда в памятниках XV, XVI веков»1.
В данном разделе в самом общем виде обозначен предмет исследования. «Ябеда» в определенных значениях имеет непосредственное отношение к правовой сфере, в частности, к ведению судебных тяжб (процессов) и может рассматриваться как недобросовестность при ведении судебных (административных) дел.
Условно возможно обозначить границы активного употребления слова «ябеда» (как «крючкотворство», «сутяжничество» и т.п.): XV в. - первая треть XX в Слово «ябеда» в указанном значении, бытовало весьма значительный период времени
§ 2 «Ябеда»: юридические признаки и состав правонарушения» посвящен выявлению юридической сущности ябедничества На основе комплекса законодательных актов Х^Х1Х вв., а также справочной юридической литературы (конца XVIII - начала XX вв.), определена правовая природа, признаки и состав ябеды, как правонарушения.
1 Ключевский В О. Курс русской истории: В 6 т. - М., 1989. - Т. 6. - С 149 14
Сущность ябеды как правонарушения заключается в неких противных закону и нравственности деяниях, которые выражались с объективной стороны в действии (например, возведение поклепа), либо бездействии (неявка в суд к ответу либо иных подобных этому деяниях, совершаемых, например, для затягивания судебного дела), совершаемых с целью присвоить не принадлежащее по закону («не хотя чужое отдать»1, или «хотя чуждым воспользоваться»2).
Объектами посягательства являются: 1) имущественные или иные права лиц; 2) судебный правовой порядок.
Субъективная сторона заключается в том, что лицо, заведомо осознавая неправомерность своего деяния (например, подача заведомо-необоснованного иска или нарушение установленного порядка судопроизводства), тем не менее, совершает его.
Субъектами правонарушения могли быть различные категории лиц, среди них-
1) субъект, который в процессе судопроизводства, защищая свои интересы и права, осуществлял действие (бездействие), которое расценивалось по закону, как ябедническое;
2) субъект, совершивший деяние в интересах другого лица (лиц) при непрофессиональном выполнении функции правозаступника (т.е., оказания юридической помощи, например, при написании для другого лица челобитной, жалобы и т.п) или судебного представителя (например, представления интересов в судебном органе своего родственника);
3) субъект, совершивший деяние в интересах другого лица (лиц) при профессиональном выполнении функции правозаступника или судебного представителя (т е, профессиональным ходатаем по чужим делам). К этой категории лиц диссертант относит и ходатаев, уполномоченных различными обществами (например, мирских по-сылыциков и ходоков, осуществляющих указанную деятельность на постоянной основе) Именно эта категория субъектов представляет наибольший интерес с точки зрения проводимого исследования.
Ябеда, как установлено, содержит: 1) цель - присвоить не принадлежащее по закону; 2) средство в достижении указанной цели - «ябеднические извороты» (приемы). В этом отношении ябедничество возможно рассматривать двояко- в материальном (как цель) и процессуальном (как прибмы и методы) значении. Эти два аспекта тесно взаимосвязаны между собой. Деятельность ябедника, таким образом, в юридическом смысле можно определить в следующей формуле- субъект, с целью «добиться неправого» использует недобросовестные (в том числе и незаконные) приемы
Кроме того, юридический анализ показал, что некоторые из приемов, используемых ябедниками, представляют собой самостоятельный состав правонарушений (например, клевета, шантаж, дача взятки), но по отношению к ябедничеству они являются лишь средством в достижении основной цели - получить не принадлежащее по закону.
В § 3 «Возникновение ябедничества» определена предположительная граница возникновения ябедничества, как «недобросовестности при ведении судебных дел» В результате сделаны следующие выводы.
1 Полное собрание законов Российской империи. (Далее - ПСЗ РИ) I, Т XVI, № 11.624
2 Там же. I, Т XX, № 14 567.
Начальная граница активного употребления слова «ябеда» в значении «крючкотворство», «сутяжничество» располагается в XV в.
Ябедничество в указанном значении к концу XVIII в. уже сформировалось в устойчивый социальный феномен. Однако это не означает, что само явление возникло именно в данный период.
Вряд ли верным будет связывать момент возникновения ябедничества с появлением в законодательстве нормы его обозначающей или с началом активного употребления слова в определенном значении («крючкотворство», «сутяжничество»)
Ябедничество, как явление, заключающееся в недобросовестном ведении судебного дела, возникло задолго до того, как стало именоваться таким термином Вполне вероятно предположение, что ябедничество в рассматриваемом значении появилось в момент, когда возникла сама судебная процедура.
К исследуемому периоду (XIX в), ябедничество вошло в быт россиян как вполне сформировавшееся, устойчивое явление.
Глава вторая «Развитие профессионального ябедничества, его проявления и носители в XIX веке (период до Судебной реформы 1864 года)» посвящена развитию профессионального ябедничества, его проявлениям и носителям с конца XVIII в. до Судебной реформы 1864 г.
Поскольку профессиональное ябедничество развивалось на фоне института ходатайства по чужим делам (судебного представительства и правозаступничества), в § 1 «Круг лиц, занимавшихся профессиональным ходатайством по чужим делам» проведен краткий анализ возникновения и развития этого института Несмотря на то, что институт не получил должной регламентации в законодательстве, не приобрел государственного и общественного одобрения, профессиональным ходатайством по чужим судебным делам занимались различные категории лиц (действующие и отставные чиновники, депутаты Уложенных комиссий, архиерейские и монастырские стряпчие, мирские пищики и проч.).
Основную группу профессиональных ходатаев составляли действующие чиновники. Небольшое жалование, получаемое чиновниками, особенно низших чинов, с одной стороны, и возможность заниматься ходатайством по чужим делам, одновременно со службой, с другой, приводило к тому, что значительная часть этой категории лиц занималась ведением чужих дел. Такие занятия часто были во вред основной службе (особенно, когда ходатайство осуществлялось по месту службы чиновника) и, поэтому, законодательством устанавливались различного рода ограничения для приватной адвокатуры чиновников.
Не меньшую группу, чем действующйе чиновники, в числе профессиональных ходатаев составляли отставные чиновники. Ушедшие со службы, но обладающие определенными знаниями делопроизводства, административной и судебной системы, а, также желая иметь доход, многие из таких лиц брались за ведение дел. При этом деятельность ходатая представлялась более заманчивой и выгодной, чем государственная служба.
Запрет на хождение по делам всякого рода и сочинения прошений, кроме касающихся себя лично, был установлен для чиновников, состоящих под надзором по-
лиции и «отставленных от службы за дурное поведение» 1 Такая мера была предпринята, несомненно, в целях предотвращения развития ябедничества со стороны указанных лиц.
Хождением по делам в крестьянской среде занимались те, кто специально на это уполномочивался (например, посыльщики-ходатаи и т.п) или те, кто обладал определенной степенью грамотности и удобным для такой деятельности положением (например, мирские пищики).2
Не оставались в стороне от занятий ходатая и те, кто был призван заниматься общественным служением. Например, депутаты в Уложенной комиссии также стремились использовать свое положение, часто выполняя функции адвокатов.3
Занимались профессиональным ходатайством архиерейские и монастырские стряпчие Как гласит Синодский Указ от 30 мая 1729 года, «Святейшему Правительственному Синоду известно учинилось, что разных Архиерейских домов и монастырей стряпчие по посторонним истцовым делам ходят в суды ради одних токмо своих бездельных корыстей» 4 Видя в этом опасность происхождения «не малых ссор и вражды», что, в свою очередь, может повести к нанесению убытков, а также «Святейшему Синоду и прочим Архиереям и монастырским властям от таких ябедников может быть нарекание», Указ постановлял «в посторонние суды < > в поверенные отнюдь не ходить и в том обязать их письменно, с подписанием рук их, под страхом за преслушание жестокого наказания».5
Некоторые из выявленных групп существовали либо относительно краткое время (например, депутаты Уложенных комиссий, фискалы), либо к XIX в. фактически трансформировались в нечто иное (мирские писчики, монастырские стряпчие).
В среде столь многочисленных ходатаев были и те, кто не только проявил свою недобросовестность в отдельных случаях, но и сделал «ябеднические извороты» своим основным средством в достижении цели - материальной наживы.
§ 2 «Носители профессионального ябедничества в период до Судебной реформы 1864 года: состав, социальные признаки, деятельность» диссертации посвящен рассмотрению вопроса о носителях профессионального ябедничества, их составе, деятельности и социальным признакам.
В процессе работы были выявлены конкретные лица, признанные судебными органами ябедниками В их числе: отставной губернский секретарь Афанасий Ка-
1 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета от 10 июня 1831 г «О распространении Высочайше утвержденного 27 февраля 1829 года мнения Государственного Совета как на чиновников, состоящих под надзором полиции, так и на отставленных от службы за дурное поведение» ПСЗ РИ П, Т VI, № 4640
1 Камкин А В. Традиционные крестьянские сообщества европейского севера России в XVIII веке Дис... д-ра ист. наук - М, 1993 - С 168-185.
3 Сенатский Указ от 28 февраля 1773 г «О запрещении Депутатам, выбранным в Комиссию о сочинении проекта Нового Уложения, под видом общественных нужд, чинить поборы с их избирателей и принимать на себя хождение в Присутственных местах по делам общества, от которого они выбраны» ПСЗ РИ I, Т XIX, № 13 953
4 Синодский Указ от 30 мая 1729 г «О нехождении архиерейским и монастырским стряпчим по посторонним делам» ПСЗ РИ. I, Т VIII, № 5416
s Там же
раулов (1824 г);1 коллежский регистратор Василий Яблоновский (1832 г.);2 коллежский регистратор Василий Власов (1836 г.);3 коллежский регистратор Яков Данилов (1837 г.);4 коллежский секретарь Иван Генерозов (1837 г.);5 коллежский регистратор Гаврила Горнов (1850 г.);6 отставной коллежский регистратор Николай Попов (1851 г.);7 отставной губернский секретарь Фёдор Полозов (1851 г.);' отставной корнет Егор Петрович (1851 г.);' исключённый из службы канцелярист из дворян Михаил Жмакин (1854 г);10 отставной подпоручик Фёдор Гулин (1854 г.);11 дворянин, отставной коллежский регистратор Аполлон Меньшиков (1855 г.);12 отставной медик Иван Георгиевский (1858 г.) 13
Комплекс исследованных источников позволил сделать ряд выводов. Среди ябедников были личности, имеющие различный социальный статус. Что касается уровня образования, в числе профессиональных сутяг были как те, кто получил его, так и те, кто был вовсе неграмотен. Некто губернский секретарь И. А. Белоусов (предложивший еще в 1846 г. проект об учреждении в России звания адвокатов), так описывал уровень квалификации отдельных профессиональных ходатаев: «<.. > многие лица из податных и ремесленных сословий, и даже иностранцы, не только не имеющие познания в законоведении и судебных формах, но даже не знающие и российской грамоты, или с трудом могущие подписывать своё имя и фамилию, а иные и того даже не умеющие < . > принимают на себя хождение по делам; и при таких способностях своих причиняют доверителям своим, вместо пользы вред <...>».14
Арсенал используемых ябеднических приемов («изворотов») был весьма велик. Деловые и личностные качества, важные для профессионального ходатая вообще, были присущи так же и ябедникам- гибкость ума, юридическая сметка, знание приказных обычаев и порядков, особые способности к «витийству» и «красноглагола-нию», знание старинных форм делопроизводства и судебного процесса». Они, в основной своей массе, представляли из себя не только дельцов, знающих все тонкости приказной волокиты, но и «ловких людей», умеющих психологически точно анализировать ситуацию, использовать неискушённость противника в законах и его беспечность.
Именно личные качества предопределяли то, что лицо становилось ябедником Изобретательность, хитроумие, изворотливость сочетались в них с продажностью, цинизмом, стремлением любым путем получить наживу Заведомо неправое дело не
1 РГИА. Ф 1151 Оп 1 Д 72
г Там же Ф 1151 Оп 2 Д 40, а
'Тамже. Ф 1151 Оп 2 Д. 32, б
4 Там же. Ф 1151 Оп. 2. Д 61.
5 Там же. Ф. 1151. Оп. 2. Д. 127.
6 Там же Ф. 1151. Оп. 4. Д. 6.
7 Там же. Ф 1151. Оп. 4. Д. 18
8 Там же. Ф. 1151. Оп. 4. Д. 28.
9 Там же. Ф 1151 Оп 4 Д 102
10 Там же Ф. 1151 Оп 4 Д 82.
" Там же Ф 1151 Оп 4 Д 139.
12 Там же. Ф 1151 Оп. 4 Д. 8.
"Тамже Ф. 1151 Оп 5. Д 49
14 Там же Ф. 1405 Оп. 44. Д. 4892. Л. 5-5, об.
останавливало их. Зачастую, они сами подталкивали своего клиента и целые общества на возбуждение судебных тяжб.
Притом, что общество того времени мирилось и отлично уживалось с ходатаями, ябедничество, представлявшее для него настоящее «язву», вызывало и вполне справедливый протест. В § 3 «Меры законодательного характера, направленные на устранение ябедничества» рассматривается ряд мер, предпринимавшихся для борьбы с ябедничеством. Проведен краткий анализ соответствующих шагов, предпринятых законодателем. В их числе' 1) запреты; 2) наказания; 3) совершенствование судебной процедуры, 4) совершенствование системы судоустройства; 5) меры по организации института профессионального правозаступничества и судебного представительства (адвокатуры).
Так, наряду с наказаниями, в числе которых были: телесное наказание и тюремное заключение (Соборное Уложение);1 отнятие чести и всего имения (1711 г.);2 лишение движимого и недвижимого имущества и наложение штрафа (1752 г. и др.);3 наложение пени (1775 г);4 отдача под надзор полиции; временное заключение в Смирительном Доме (1834 г.)5 и т.п., делались попытки совершенствования судоустройства и судопроизводства.
В фонде Департамента законов Госсовета выявлен и проанализирован ряд документов. В их числе дела: «О принятии мер против умножения просительских дел» (1820 г);6 «О составлении проекта правил в обуздание ябеды и недельных прошений» (1827 г.);7 «О судебном преследовании людей, возбуждающих из видов корысти крестьян к подаче ябеднических просьб» (1835 г.)8 и др.
Участие в проектировании законов, направленных на устранение ябедничества, весьма часто принимали частные лица. Так, в фонде Васильчиковых обнаружен «Проект учреждения в С.Петербурге и в Москве посреднических контор по тяжебным делам».9 В фонде Мордвиновых имеется записка неустановленного лица «О делоходатаях или поверенных», относящаяся к 1837 году.10 В фонде Министерства юстиции (1803-1917 гг) также имеется ряд подобных дел. Например, дело «По проекту губернского секретаря И.А. Белоусова об учреждении в России звания адвокатов» (1846 г.).11
Исследование ряда источников, содержащих информацию о состоянии исследуемого явления в первой половине XIX века (до времени реализации Судебной реформы 1864 г.), позволяет сделать вывод о вполне органичном вхождении в социальную жизнь общества профессионального ябедничества, а также об устойчивости данного явления, несмотря на комплекс мер, направленных на его устранение. В об-
1 Соборное Уложение 1649 г. Гл. X, ст. 186.
2 ПСЗ РИ I, Т.1У, № 2330,
' Там же. I, Т XIII, № 9989, Т. XIV, № 10136; Т XXIV, № 18055
4 Там же I, Т. XXIV, № 18055.
5 Там же. И, Т. IX, № 7000.
' РГИА. Ф. 1149. Оп I. Д 7.
7 Там же. Ф 1149. Оп1. Д. 17
■ Там же. Ф. 1149. Оп 2. Д 23.
9 Там же Ф. 651. Оп. 1. Д. 299.
10 Там же Ф. 994. Оп. 2. Д. 494.
" Там же. Ф 1405. Оп. 44. Д. 4892.
Лестзе сложилось совершенно определенное отношение к ябеде и ябедникам. Общая негативная окраска такого отношения не мешала принимать это явление как не-лзбежлое, а ряд факторов способствовал развитию данного феномена.
В главе третьей «Развитие профессионального ябедничества, его проявлении и носители в XIX веке (период Судебной реформы 1864 года)» рассмотрен ныплекс вопросов, посвященных развитию профессионального ябедничества в пе-> реализации и последствий Судебной реформы 1864 года 3 период проведения Судебной реформы закон, преграждая определенному кру., лиц доступ к осуществлению судебного представительства, для основной массы лиц, 1 м не мечее, оставил возможность осуществления данных функций. Круг профессиональных ходатаев продолжал оставаться весьма обширным О них идет речь в § 1 «'Ср>г лиц, занимавшихся профессиональным ходатайством по чужим делам».
Как и ранее, по Своду законов Российской Империи, с введением Судебных ) I' авов 1864 г., осуществлять функции поверенных могли лица, «коим закон не воспрещает ходатайство по чужим делам» (ст. 44, 565 Уст. угол, судопр ; ст.45, 246 Уст. гражд судопр и др )
Вместе с тем, законодатель осуществил столь долго ожидаемые преобразования л сфере профессионального правозаступничества и судебного представительства В '.аспюсти, были введены институты присяжной и частной адвокатуры, в определенной степени изменившие ситуацию в сфере профессионального судохождения по чужим судебным делам Однако в период действия Судебных уставов 1864 года, при появлении новых форм профессионального правозаступничества (судебного представитель-"чва), продолжали существовать и ранее действовавшие (присяжные стряпчие при ком-.^р .л-лолх судах; «подпольные» адвокаты) В разделе дана краткая формальная харак-1еристика отдельных категорий профессиональных ходатаев по чужим делам.
В § 2 «Носители профессионального ябедничества в период действия Судебных Уставов 1864 года' состав, социальные признаки, деятельность» сделана попытка обнаружить ябедников в составе представителей некоторых форм профессионального ходатайства.
В период действия Судебных уставов 1864 г., и особенно с появлением «высшей» ка!егории профессиональных правозаступников и судебных представителей - присяжных поверенных и их помощников, ябедничество, возможно рассматривать уже не ■ элько как соответствующее правонарушение, но и как нарушение норм профессиональной адвокатской этики Более того, именно с позиции профессиональной этики диссертантом обнаружено множество «непристойных званию своему поступков» или лначе «неправильных и предосудительных действий», которые совершались профессиональными ходатаями.
В среде рассмотренных категорий профессиональных ходатаев наблюдались проявлении ябедничества. В той или иной степени, неэтичные и противозаконные поступки были присущи как представителям «высшей» формы адвокатуры - присяжной, так и другим (частной, «подпольной»).
Уже в 1878 году министр юстиции, граф К.И. Пален докладывал Императору о том, что, к сожалению, ни одно из ожидавшихся благоприятных условий существования адвокатуры не осуществилось в том виде, как это было желательным. Он от-
мечал. «нельзя не признать, что отличительным признаком характеризующим бочь-шинство присяжных поверенных является не преданность избранному делу и е*у> задачам, а цели исключительно денежной наживы, стремление к которым не останавливается ни перед какими нравственными соображениями ни при выборе кчисч-тов, ни при употреблении средств защиты».1
Падение нравственного уровня присяжной адвокатуры признавалось и самими адвокатами.2
В еще большей степени ябедничество было присуще другим формам адвокатуры - «патентованной» (частным поверенным) и «непатентованной» или «подпольной/ Такое положение вещей предопределялось низким уровнем квалификационных требований к представителям «низших» форм адвокатуры (частные поверенные), либо их полным отсутствием («подпольные» адвокаты), недостаточным и несовершенными формами дисциплинарного контроля (частные поверенные), либо их отсутствием («подпольные» адвокаты).
В одном из дел фонда 1405 (Министерства юстиции) РГИА соискателем обнаружена докладная записка министру юстиции графу К И Палену некоего отставного контр-адмирала Арбузова, «об испытанных затруднениях от адвокатуры», датированная 12 июля 1872 года В записке, кроме прочего говорится о том вреде, который терпит «простодушный народ» и судопроизводство в целом от адвокатов Автол отмечает, что адвокаты, «больше именуемые накатами, аблокатами < . > казуистикой путают ход дел, представляя незаконные иски, промедляя их, до благоприятна обстоятельств получить с ответчика, чем искусно запускают руки в чужие карманы <...> Выродившиеся в отдельную расу приказных, они теперь по своей профессии отыскивают по улицам и кабакам начать дельца».3
В среде частных поверенных обнаружены те, кто проявил свою недобросовестность в ведении дел и применял в своей деятельности «ябеднические извороты» что было официально замечено властями.
В «Списке лиц, устраненных от хождения по судебным делам, за время с 1875 п.лч по 1-ое января 1910 года»4 обозначены 362 лица, устраненные от хождения за указанный период. Данные о некоторых из них изучены и проанализированы В их числе Дмитрий Второе - отстранен в 1898 г. (в списке № 315); Николай Кудряяый (р списке № 348) и Иван Зырин (в списке № 349), оба отстранены в 1907 г. Григорий Махов - отстранен в 1891 г. (в списке № 232), губернский секретарь Борт Крылов - отстранен в 1892 г. (в списке № 249) и др.
По приведенным в Списке данным, по мнению автора, вряд ли возможно едг-лать выводы о состоянии явления, прежде всего по причине его латентности Указанные данные могут лишь с точностью свидетельствовать об официально у стране; -ных от хождения лицах.
1 РГИА Ф. 1405. Оп 69 Д 7040. Л. 43, об
2 Птицын В В Древние адвокаты и наши присяжные цицероны - СПб , 1894, Он же Алеш ч за адвокатуру - СПб, 1895 и др
'РГИА Ф 1405 Оп 70 Д 5715. Л 2; 2, об.
4ГАВО Ф 180 Оп 15 Д2 Л. 1-7, об
Вместе с тем, в Списке содержится достаточно полезная информация - сведения о социальном статусе (чине, звании, происхождении) устраненных лиц. В числе устраненных (по данным с 1875 по 1892 г.): 5 почетных граждан; 2 потомственных почетных гражданина; 21 дворянин; 77 мещан; 4 губернских секретаря; 8 коллежских секретарей; 1 коллежский советник; 2 коллежских асессора; 6 коллежских регистраторов; 1 надворный советник; 3 титулярных советника; 1 отставной подполковник; 1 отставной капитан; 1 отставной лейтенант; 1 отставной корнет; 2 отставных прапорщика; 3 отставных штабс-ротмистра; 1 отставной поручик; 1 полковой писарь;
1 бывший почетный мировой судья; 2 бывших канцелярских чиновника; 5 крестьян;
2 сельских обывателя; 1 городской учитель; 1 кандидат в раввины; 1 запасной старший писарь; 1 таксатор; 1 канцелярский служащий.1
Как видно, в числе устраненных от хождения лиц присутствуют категории с различным социальным статусом.
Таким образом, если «подпольную» адвокатуру составляли лица «всех чинов, званий и состояний», а механизм корпоративного контроля отсутствовал; частная «патентованная» адвокатура, состоя так же из числа различных категорий лиц, могла все же давать «определенные ручательства» в компетентности и добросовестности своих членов. Присяжная адвокатура, в этом отношении, была куда более совершенной, но и она не смогла избежать заражения «вирусом» ябедничества.
Необходимо сказать, что в рассматриваемый период в обществе развернулись жаркие споры по поводу ряда вопросов адвокатской этики вообще, и в частности, одного из главных се вопросов - о ведении «заведомо неправых дел». В сущности, обсуждался вопрос о ябедничестве, но уже не только в нравственном и уголовно-правовом, а в профессионально-этическом аспекте В этой связи можно констатировать, что ябедничество уже перестало быть лишь нарушением норм общей морали и правонарушением. Возможно говорить о качественно-новой грани восприятия исследуемого объекта в общественном и профессиональном сознании Примечательно и то, что стержневое проявление ябедничества - стремление «завладеть не принадлежащим по закону», ведение «заведомо неправых дел» и т.п. - определялось в качестве «основного вопроса» адвокатской этики.2
В разделе проводится анализ отдельных точек зрения на исследуемую проблему
В § 3 «Меры законодательного характера, направленные на устранение ябедничества» рассмотрены соответствующие меры и дается их общая характеристика.
Меры запретительного характера, как и в дореформенный (1864 г.) период, были направлены на недопущение отдельных категорий лиц занятием профессиональным ходатайством по чужим судебным делам. При этом необходимо отметить, что данная категория мер не представляла собой действенной преграды для всех желающих кормиться «тяжебничеством». Как и в дореформенный период, этой деятельностью в той или иной форме занимались практически все желающие.
Законодательством также предусматривались санкции. Наказание непосредственно за ябедничество предусматривалось в ст. 939 Уложении о наказаниях (УоН) Речь
1 ГАВО. Ф. 180. Оп. 15. Д 2 Л. 1-7, об.
2 Не случайно, один из авторов назвал свой труд «Основные вопросы адвокатской этики» См , Васъковский ЕВ Основные вопросы адвокатской этики - СПб, 1895
в ней шла о «возбуждении к начатию или продолжению противозаконных исков и тяжб». Отдельные ябеднические проявления и наказания за них были закреплены законодателем в других статьях УоН. К числу таких преступлений относились: злонамеренное превышение пределов полномочий и злонамеренное вступление в сношения или сделки с противниками своего доверителя во вред ему (ст. 1709 УоН); злонамеренная передача или сообщение противнику своего доверителя документов (ст. 1710 УоН); злонамеренное истребление или повреждение, присвоение, утайка или растрата документов или имущества доверителей (ст. 1711 УоН).
Можно констатировать, что и официальные власти и общество проявляли неподдельную заинтересованность в вопросе создания качественно иных, нежели существовавших ранее (до Судебной реформы 1864 г.), механизмов правовой защиты частных интересов. В этой связи, важным шагом является создание присяжной адвокатуры.
Советы присяжных поверенных, как органы самоуправления, осуществляли дисциплинарный надзор за деятельностью присяжных поверенных и их помощников. Однако ряд факторов (недостатки в организационном устройстве адвокатуры, различные подходы в дисциплинарной практике отдельных советов, приостановление открытия советов присяжных поверенных в 1874 г.1 и др.) снижали эффективность контроля и качество реагирования советов на проявления недобросовестности в среде присяжных поверенных.
Вопросы реформирования института присяжных поверенных были в центре внимания властей. Недостатки в организации присяжной адвокатуры, осознаваемые как самими членами адвокатского сословия, так и законодателем, понуждали государственные органы проявлять активность в деле преобразования профессионального судохождения. В фондах РГИА имеется отношение министерства юстиции от 11 сентября 1880 г. за № 17885 «Об образовании особой комиссии при министерстве юстиции для пересмотра некоторых узаконений касающихся учреждений присяжных поверенных».2 Позже комиссии создавались неоднократно (в 1885 г. под председательством Г.А. Евреинова, в 1890 г. под председательством МВ Красов-ского, в 1897 г. под председательством Н.В. Муравьёва).
Законом от 25 мая 1874 г.3 были введены институты частных поверенных и «лиц, имеющих право вести чужие дела не более трех раз в течение года». Указанные институты являлись ни чем иным, как попыткой легализовать деятельность подпольных адвокатов, поставив их под контроль государства Однако попытка эта не была успешной. Частные поверенные и те, кто ходатайствовал по делам «не более трех раз в течение года», в основной своей массе, мало отличались от подпольных адвокатов. Институт частных поверенных был чем-то средним между присяжной и подпольной адвокатурой. При этом по своим качественным характеристикам наиболее близко она подходила к последней форме адвокатуры.
Было бы неверным утверждать, что все те меры, которые были направлены на борьбу со злом ябеды были малоэффективны Так, сама организация нового правового
1 РГИА Ф 1405 Оп. 69 Д. 7040
2 Там же Ф. 1405. Оп. 69. Д 7040. Л 97-99, об.
3 ПСЗ II, Т. Х1ЛХ, № 53573
порядка по Судебным уставам, обеспечившая качественный прорыв в правовом развитии российского общества второй половины XIX - начала XX вв., нанесла ощутимый удар по ябедникам дореформенной поры.
«Ябеднические извороты», которые с введением Судебных уставов 1864 г. не перестали быть весьма обычным и распространенным явлением, оставшись по сути своей неизменными, были в определенной степени адаптированы их носителями к новым условиям.
В Заключении сделаны общие выводы, касающиеся развития профессионального ябедничества в исследуемый период и его значения для социокультурной жизни России в XIX в.
При всем многообразии проявлений ябедничества и наличии в его развитии нескольких этапов, оно оставалось качественно неизменным на протяжении ряда веков, образуя устойчивую традицию Вместе с тем, именно XIX в. стал тем периодом, который в эволюционном развитии явления занимает особое место. Произошла определенная переоценка ябедничества обществом.
Проведенный анализ позволяет сделать выводы о широкой распространенности явления: оно было распространено по всей России.
Во все периоды существования исследуемого феномена общество и государство негативно относилось к проявлениям ябедничества и его носителям. Вместе с тем, существовала потребность общества в ябедничестве Проявляя, как правило, презрительное к отношение к ябедникам, весьма многие люди сознательно обращались к ним с целью «отнять не принадлежащее по закону» у другого.
Здесь важно отметить, что явление ябедничества было теснейшим образом связано с извечными проблемами, стоявшими в русском общественном сознании - о соотношении Закона и Правды.
Проблема Правды «по закону» и Правды «по совести», в свою очередь, рассматривалась не только на уровне «бытовом» (в повседневной жизни); но и как совокупность вопросов профессионально-этического характера (адвокатская этика); и еще более широко - как нравственная общечеловеческая проблема.
Решение этого вопроса усугублялось конфликтом Правды и Закона, существовавшем в общественном сознании.1 Понимание «правого по совести» и «правого по закону» весьма разнилось. Отношение общества к ябедничеству, как к социокультурному явлению было, в этом смысле, своего рода показателем того, как решался вопрос об эпохальном конфликте.
Существование ябедничества и столь широкая распространенность его была обусловлена, по мнению автора, специфическим отношением русского человека к праву, как регулятору общественных отношений.
Если условно, в отношении к праву общества выделить три уровня: 1) «идеалистический» («Право есть Правда и средство для достижения всеобщего блага»); 2) «утилитарный» («Право есть здраво понятая польза и средство регулирования общественных отношений»); 3) «вульгарно-утилитарный» («Право
1 Этот конфликт отображен еще у митрополита Иллариона в его труде «Слово о законе и благодати».
есть средство для достижения собственного интереса, не обязательно законного, а сам закон, как дышло...»), то применительно к российскому менталитету, картину можно обрисовать следующим образом. Слияние в сознании россиянина Права и Правды в нечто единое, его стремление увидеть в законе «воплощенную Правду», и неприятие им ничего усредненного в реальной жизни приводило к совершенно противоположному.
Исходное стремление к идеалу оборачивалось в действительности (при осознании недостижимости этого идеала) в то, что Право низводилось в системе ценностей до вульгарно-утилитарного уровня и являлось сферой для крючкотворов и ябедников. Отсюда — любое использование недостатков судебной процедуры или даже просто ее особенностей воспринимались в общественном сознании как действия противные совести и нравственности, т.е. как ябедничество.
В сознании россиянина Право рассматривалось скорее не как общественный регулятор, а как формальный атрибут государства, как некое неизбежное, но преодолимое препятствие на пути к Правде, к Закону «по духу», а не «по букве». Право в этом смысле не помогало, оно было препятствием. Сама же процедура (судебная, административная) воспринималась как воплощение несправедливости. О таком отношении свидетельствуют большинство русских пословиц и поговорок о суде.
Это составляло внутреннее самооправдание нарушения Закона формального, и не рассматривалось как нечто греховное в системе высших ценностей И даже за нарушение правовых установлений общественное осуждение следовало не как за нарушение Закона, а как за нарушение нравственных норм.
«Закон как дышло - куда повернешь, туда и вышло!» Эта поговорка фокусирует в себе отношение и к качеству исполнения закона («плохо написан»); и определенную безысходность («лучше закона не будет»); и возможность манипулировать им («понимай, как хочешь и используй, как можешь»). Отсюда - социальная потребность общества в профессиональных ябедниках, тех, кто мог и хотел «обойти» закон в своих и чужих интересах.
Отношение общества к профессиональным ябедникам («знахарям от права») возможно охарактеризовать следующим образом: брезгливость и потребность. Осуждая действия ябедников на нравственном уровне как явление, значительная часть пользовалась их услугами.
Следует отметить степень значимости изучаемого феномена для процесса формирования гражданского общества в России XIX в., правосознания и правовой культуры. Органично войдя в быт россиян, и существуя в нем на протяжении ряда веков, профессиональное ябедничество оказывало заметное влияние на правовую и культурную жизнь России.
Необходимо признать и конструктивную роль ябедничества. Материалы исследованных источников наглядно показывают, что так или иначе, именно ябедники демонстрировали законодателю множество недостатков системы судоустройства и судопроизводства, что, в свою очередь, катализировало процессы совершенствования законодательства и подготовку Судебной реформы 1864 г. Кроме того, они являлись проводниками в диалоге «писанное - обычное право». В этом отношении ябедничество возможно рассматривать как вполне орга-
ничное явление в бюрократической машине России, позволявшее ей успешно функционировать.
В Приложении содержатся Таблицы, содержащие фрагменты текстов нормативно-правовых актов (Таблица 1), текстов художественно-литературных источников о ябеде (Таблица 2) и Приложение с биографическими и иными данными о лицах привлекавшихся к ответственности за ябедничество.
Основные положения диссертации представлены в следующих работах:
1 Гаврилов С Н. Традиции профессионального ябедничества в истории России // Традиции в контексте русской культуры. Выпуск VII: Межвузовский сборник научных работ. - Череповец: ЧТУ, 2000. - С. 73-75.
2 Гаврилов С Н. Профессиональное ябедничество, как объект научного исследования, носящего междисциплинарный характер // Образование и наука в Череповце: история, опыт и перспективы. Тезисы докладов научно-практической конференции. - Вологда: ЧГПИ, 2001. - С. 24-25
3. Гаврилов С.Н Юридическая сущность ябеды по законодательству XVII -XIX вв. // Образование и паука в Череповце: история, опыт и перспективы Тезисы докладов научно-практической конференции. - Вологда: ЧГПИ, 2002. - С. 47- 49.
4. Гаврилов С Н Профессиональное ябедничество в России до Судебной реформы 1864 г как правовой и социокультурный феномен: Монография - Череповец-ЧГПИ, 2002. - 157 с.
5. Гаврилов С.Н. Образ профессионального ябедника в художественной литературе XIX века // Традиции в контексте русской культуры. Выпуск IX: Межвузов- j ский сборник научных работ. - Череповец: ЧТУ, 2003. - С. 35-39.
¥
Подписано в печать 08.08.2005 года
Формат бумаги 60x84'/16. Бумага писчая. Тираж 100 экз. Объем 1,5 п.л. Заказ № 47259.
Отпечатано в ООО "Издательский дом "Череповецъ", г. Череповец, ул. Металлургов, 14а
НИ 4 7 * О
РНБ Русский фонд
2006-4 15707
о
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата исторических наук Гаврилов, Сергей Николаевич
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЯБЕДНИЧЕСТВА.
§ 1. Слово «ябеда»: толкование, этимология и история семантического развития.
§ 2. «Ябеда»: юридические признаки и состав правонарушения.
§ 3. Возникновение ябедничества.
ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯБЕДНИЧЕСТВА, ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ И НОСИТЕЛИ В XIX ВЕКЕ (ПЕРИОД ДО СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА).
§1.Круг лиц, занимавшихся профессиональным ходатайством по чужим делам.
§2. Носители профессионального ябедничества в период до Судебной реформы 1864 года: состав, социальные признаки, деятельность.
§3. Меры законодательного характера, направленные на устранение ябедничества.
ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯБЕДНИЧЕСТВА, ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ И НОСИТЕЛИ В XIX ВЕКЕ (ПЕРИОД СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА).
§ 1 .Круг лиц, занимавшихся профессиональным ходатайством по чужим делам.
§2. Носители профессионального ябедничества в период действия Судебных Уставов 1864 года: состав, социальные признаки, деятельность.
§3. Меры законодательного характера, направленные на устранение ябедничества.
Введение диссертации2005 год, автореферат по истории, Гаврилов, Сергей Николаевич
В числе явлений социальной, правовой и культурной истории России на протяжении нескольких веков имело место ябедничество.
Возникшее и развившееся на правовой почве — как проявление недобросовестных приёмов и методов при ведении судебных (административных) дел, явление это по своей сути и значимости давно вышло за рамки исключительно правового. Исследование профессионального ябедничества существенно расширит наши представления о развитии социальных институтов, о появлении элементов гражданского общества в период модернизационных процессов в России XIX века.
Распространенность ябедничества, множество его явных и скрытых социальных проявлений, вовлеченность в него всех сословий и слоев населения, роль постоянного раздражителя общественного мнения — эти и другие аспекты указанного явления естественным образом ставят вопрос о необходимости его тщательного изучения средствами и методами исторической науки. Современное состояние отечественной историографии свидетельствует о потребности разработки данной темы.
Исследуемый феномен можно признать «мониторинговым» для целого комплекса явлений и процессов правовой и социокультурной реальности России на протяжении ряда веков.
По характеру отношения общества к ябедничеству можно судить не только об отношении его (общества) к праву, к судебной процедуре, но и отношению к правам личности вообще, а также судить об иерархии общественных ценностей россиян в тот или иной период.
Актуальность темы усиливается и тем, что хотя само слово «ябеда» рассматривается как устаревшее и употребляется в ином, чем ранее, значении, профессиональное ябедничество, изменившееся по форме, но неизменное по сути своей, живо и в настоящее время. В период очередных попыток создания в России гражданского общества явление это вполне современно.
Объект диссертационного исследования - правовая культура и правосознание в процессе зарождения гражданского общества в России XIX века.
Предмет исследования - профессиональное ябедничество в России XIX века, как ведение судебных (административных и иных) дел лицами, профессионально выполняющими функции правозаступников (судебных представителей) посредством недобросовестных приемов.
Предмет исследования содержит две составляющие: 1) ябеда - как «сутяжничество» и «крючкотворство»; 2) ябеда - как ябедник, т.е. носитель ябедничества.
Предметом исследования, таким образом, является как ябедничество, совершаемое профессиональными правозаступниками и судебными представителями, так и все категории лиц, отождествлявшихся в общественном сознании с понятиями «сутяга», «крючкотвор», «ябедник».
Хронологические рамки исследования определены эпохой предпосылок, реализации и следствий Судебной реформы 1864 г., которая является одним из важнейших факторов зарождения гражданского общества в России XIX в.
Проведение исторического анализа развития любого явления ставит задачу определения периодизации. Как правильно отмечал К. Ясперс, «попытка структурировать историю, делить ее на ряд периодов всегда ведет к грубым упрощениям, однако эти упрощения могут служить стрелками, указывающими на существенные моменты».1
При определении периодизации развития ябедничества возникает весьма серьезная проблема, вызванная тем, что перед нами в значительной степени латентное явление. Отсутствие достаточных объективных данных делают весьма сложным способ определения периодизации развития феномена на основе его качественных изменений.
1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М. - 1994. - С.52.
Другую проблему в определении периодизации вызывает то обстоятельство, что столь распространенное и вжившееся в социальную структуру и самое главное в общественное сознание явление (каким было ябедничество), просто не могло качественно измениться в какой-либо относительно короткий временной промежуток.
В проводимом исследовании диссертанта в большей степени интересуют не столько качественные изменения самого явления, сколько его развитие в контексте социальных процессов, происходивших в российском обществе.
Хронологические рамки исследования ограниченны следующим периодом: нижняя граница - конец XVIII в., верхняя - конец XIX в. Выбор этот предопределен не только традиционным интересом историков к периоду XIX века. Уже на самых ранних периодах своего становления ябедничество как «сутяжничество», «крючкотворство» вызывало неприятие общества не только и не столько как явление правовое, но как проблема «неправды», т.е., в более широком и важном для сознания русского человека смысле. Стремление увидеть в законе (и, следовательно, в его применении) «воплощенную правду», натыкалось на реальность: «закон, как дышло.».
Для проведения исследования необходимо было найти знаковые для исследуемого явления процессы (события), которые возможно рассматривать как значительные вехи в его развитии. И такими возможно считать: комедию В.В. Капниста «Ябеда» (время написания: 1791-1798 гг.) и общественный резонанс 80-90-х годов XIX в., вызванный процессами «деморализации», происходившими в адвокатуре. В первом случае, это художественно-литературное произведение, воплотившее в себе общественный протест по отношению к ябедничеству. Во втором - полемика о проблемах адвокатуры, как пособнице «неправды», «рассаднику ябедничества» и т.п., активно развернувшаяся в прессе. В том и другом случае возможно наблюдать своего рода пики реагирования общества на конкретный социальный феномен. Все это свидетельствовало о том, что явление вызывало вполне определенную реакцию социума.
В исследуемый период ябедничество вынуждено было адаптироваться к новой общественной и правовой среде, и чтобы выжить — пройти через, своего рода, «этап модернизации». Именно Судебная реформа 1864 г. и последующие процессы отхода от ее ключевых позиций (контрреформы) во многом активизировали осмысление и переосмысление целого комплекса социокультурных явлений, в числе которых было и ябедничество. Войдя в XIX век как явление, сложившееся в эпоху средневековья с соответствующими статусом, признаками и формами функционирования, ябедничество вышло из него сохранившим свою суть.
В отдельных разделах работы в целях исследования генезиса некоторых аспектов ябедничества автор выходит за хронологические рамки исследования, обращаясь к более ранним периодам истории.
Территориальные рамки исследования включают территорию России, преимущественно ее центральные губернии. Исследуя проявления ябедничества в отдельных регионах, автор, вместе с тем, не ставил целью зафиксировать и изучить местные особенности феномена, поскольку региональная практика не меняла сущности самого явления.
При проведении исследования диссертантом избран путь интегрального научного подхода, лишь в рамках которого возможно преодоление односторон-ностей сугубо юридической или исторической стратегий изучения. Рассматривая ябедничество как явление правового, исторического, культурологического характера и как антропологическую проблему, соискатель исходит из того, что только синтез познавательных возможностей отдельных дисциплин обеспечит решение задач исследования. Диссертант пытается изучить явление с позиции школы «Анналов», видя свою задачу не столько в том, чтобы выявить и описать цепь событий, определивших ход исторического развития ябедничества, но познать сущность предмета исследования во взаимосвязях и взаимозависимости с другими процессами и явлениями социокультурной действительности.
В этой связи представляется весьма плодотворным феноменологический подход, предполагающий исследование ябедничества как некоего устойчивого социального образа, обладающего своим смысловым «кодом», единством внешних и скрытых признаков, устойчивой самоидентичностью и вызывающего однотипную рефлексию в социуме.
Автор опирается на историко-генетический метод, состоящий в данном случае в выяснении условий и обстоятельств возникновения ябедничества, в прослеживании эволюции его сущностных признаков не только в пределах избранного хронологического периода, но и в предшествующее ему время.
Исследователь использует также познавательные возможности метода исторической типологизации. Выявленные материалы позволяют выделить типы профессиональных ябедников, а также способы их социальной адаптации. Ти-пологизация позволяет установить механизмы социальной мимикрии ябедничества в быстро меняющихся условиях правовой системы эпохи «великих реформ».
Информационный пласт, которым обладает диссертант, позволяет опереться и на исследовательские процедуры культурной (социальной) антропологии. В частности, по единому алгоритму проследить биографии профессиональных ябедников, мотивацию их поступков и действий, соотнести их с традиционными и новационными соционормативными ценностями российской правовой культуры. Как отмечал А .Я. Гуревич, «исюрики^азделяющие принципы исторической антропологии, изучают деяния и мысли не одной только правящей элиты, но стремятся пробиться к другому уровню исторической реальности, охватить повседневную жизнь людей из разных слоев общества, воссоздать, в той мере, в какой это возможно, их взгляды и привычки сознания, их системы ценностей, определявшие их поведение, реконструировать картину мира, которая детерминировала их образ жизни и налагала на их мысли и поступки неизгладимый отпечаток».1
При определении семантической структуры слова «ябеда» и выявлении его отражения в общественном сознании в различные исторические периоды автор использовал методы лингвистической семасиологии и, в частности, метод компонентного анализа.
Анализ семантической структуры слова «ябеда» производился в диахрон-ном и синхронном аспектах. Так, пытаясь обратиться к истокам возникновения изучаемого феномена и прослеживая генезис его развития, диссертант использовал метод этимологического анализа.
Учитывая то, что при реконструкции социального портрета ябедника и изучении других аспектов исследуемого феномена анализировались художественно-литературные источники, автор использовал метод комплексного филологического анализа.
Профессиональное ябедничество как феномен возникло и развивалось на правовой почве. С одной стороны, ябедники активно использовали правовой инструментарий в своей деятельности, с другой — законодатель в стремлении «уменьшить зло ябеды» создавал различные правовые механизмы и средства. Изучение нормативно-правовых актов и практики их применения позволило выявить массу ценной информации. Исследование правовых документов производилось с использованием сравнительно-правового метода и ряда других методов правовой науки.
В процессе работы использовались также другие частнонаучные методы исследования.
В целом же методология и методика исследования строиться на принципах историзма и научной объективности с использованием новых познавательных
1 Марк Блок. Короли - чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. - М., 1998. - С. 668. возможностей, которые открывает изучение малых социальных групп в рамках социальной истории.
Ябедничество в интересующем значении (как «сутяжничество»; «крючкотворство»; «привязка, придирка по тяжебным делам») специальной историографии практически не имеет. Оно упоминается косвенно, в контексте иных проблем и исследовательских задач. В частности, исследуемый феномен нашел отражение в литературе, освещающей общие проблемы состояния и развития права и правосознания (в частности, посвященной судоустройству и судопроизводству; профессиональному правозаступничеству и судебному представительству (адвокатуре)), а также в исследованиях историков и этнографов, посвященных истории обычного права и правосознания.
Такая историографическая ситуация позволяет автору в меньшей степени обращаться к исследованиям отдельных авторов, и сосредоточиться на значимых для темы исследования достижениях научных направлений.
Можно условно выделить три группы таких работ.
I. Прежде всего необходимо назвать авторов, работы которых посвящены истории права (Б.Д. Греков, М.Ф. Владимирский-Буданов, А. Куницын, В. Лат-кин, В. Сергеевич, М.Н. Тихомиров, С.В. Юшков и другие). Не имея прямого отношения к теме ябедничества, эти работы тем не менее характеризовали общий правовой контекст в рамках которого развивалось изучаемое явление.
Так, в трудах М.Ф. Владимирского-Буданова, С.В. Юшкова, В.Сергеевича освещаются вопросы возникновения и развития института судебного представительства, на почве которого профессиональное ябедничество развивалось.
В трудах К.К. Арсеньева, Е.В. Васьковского, М. Винавера, Д.Н. Бородина, П. Котляревского, П.В. Макалинского изучаются проблемы подготовки и проведения Судебной реформы 1864 г., а также развития профессионального пра-возаступничествава и судебного представительства (адвокатуры). Особо следует отметить трёхтомник «История русской адвокатуры»,1 подготовленный группой авторов и содержащий исследования, различных аспектов существования и деятельности адвокатуры в России за полувековой период ее существования (1864-1916 гг.).
Необходимо сказать, что даже в юридической литературе теме развития профессионального правозаступничества и судебного представительства в дореформенный (1864) период уделено недостаточно внимания. Авторы (Бородин, Васьковский, Гессен), как правило, ограничивались лишь поверхностным описанием общего состояния указанных институтов, не проводя углубленного анализа их развития и проблем.
Из современных публикаций данной категории работ следует назвать тру
О "5 А ды В.Н. Смирнова и P.P. Усманова, Н.А. Троицкого, Н.В. Черкасовой. Так, В.Н. Смирнов и P.P. Усманов исследуют проблемы становления адвокатуры среднего Урала. Н.А. Троицким освещаются социально-политические аспекты развития адвокатуры в период реформ и контрреформ в России второй половины XIX века. Работа Н.В. Черкасовой посвящена первым десятилетиям развития присяжной адвокатуры в России. При этом в основном автор основывается на уже введенных (в частности, Е.В. Васьковским, П.В. Макалинским) в научный оборот материалах.
Труды И.Я. Фойницкого, В. Случевского, A.M. Пальховского и других процессуалистов позволяют выявить общее состояние явления в среде целого комплекса других правовых институтов и процессов, вскрыть их взаимосвязи и взаимозависимость. В частности — установить связь между уровнем развития судебной процедуры и качественным (количественными) проявлениями ябедничества.
1 История русской адвокатуры: В 3 т. — М., 1914—1916.
2 Смирнов В.Н., Усманов P.P. История адвокатуры среднего Урала. - Екатеринбург, 1999.
3 Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы 1866-1904 гг. - Тула, 2000.
4 Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России (60-80-е годы XIX в.). - М., 1987.
II. Работы, в которых авторы в той или иной степени касаются ябедничества в различных его проявлениях.
Ряд авторов второй половины XIX века касались проблем профессиональной этики адвокатов. В их числе - сборник правил адвокатской этики, составленный А. Марковым на основе анализа дисциплинарной практики советов присяжных поверенных,1 работы Гр. Джаншиева, Д. Невядомского, В. Ильинского, В. Птицына. Заслуживают в этом отношении внимания труды К.К. Ар-сеньева, Е.В. Васьковского, В.Ф. Домбровского, М.Д. Кельмановича, А. Френкеля, а также других авторов.
В центре внимания авторов стоял вопрос: вправе ли адвокат принимать на себя ведение «заведомо неправого дела»? В результате выделились две диаметрально противоположные позиции, оформившиеся в теории «закономерности» (Невядомский) и «избирательности» (Васьковский, Джаншиев).
В целом, указанные авторы выявили широкий спектр общественного мнения по отношению к проблеме ябедничества.
III. Работы историков, этнографов и юристов, посвященные развитию обычного права и правосознания (В.А. Александров, А.Я. Ефименко, А.В. Кам-кин, А.А. Леонтьев, Б.Н. Миронов, С.В. Пахман, Е.Т. Соловьёв, В.В. Тенишев, И. Тютрюмов).
Авторы по разному подходили к истории развития обычного права и его существу. Одни видели в обычном праве XIX века самобытное развитие юридических норм (И. Тютрюмов, В.Ф. Мухин, А.А. Леонтьев), другие сближали его с установлениями права, творимого государством (С.В. Пахман).
Вместе с тем, необходимо отметить, что возникающее, как отмечал В. Сергеевич, под воздействием двух сил - индивидуального сознания и «инертной силы обыкновения», и игравшее большое значение в юридической практике
1 Марков А. Правила адвокатской профессии в России: Опыт систематизации постановлений советов присяжных поверенных по вопросам профессиональной этики. — М., 1913.
2 Сергеевич В. Лекции и исследования по древней истории русского права. Второе издание дополненное. — СПб., 1899,- С.9.
России (в частности, XIX века), - обычное право, не в меньшей мере, чем «писанное», являлось той средой, в которой существовало и развивалось ябедничество. «Мироеды» и «коштаны», весьма прочно укоренившиеся в крестьянском быту, успешно использовали возможности норм обычного права в своей деятельности.
В числе работ по социальной истории России следует назвать труд Б.Н. Миронова,1 который в числе прочих затронул и вопросы, относящиеся к объекту исследуемого явления. Такие как генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства в России XVIII — начала XX в.
Подводя итоги историографии ябедничества, возможно сделать вывод о том, что работы, посвященные комплексному анализу ябедничества как правового и социокультурного явления отсутствуют. Соответственно, отсутствует и «сквозной» анализ развития ябедничества, как явления, присущего целому ряду исторических периодов отечественного развития.
Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы, обозначив основные контуры ябедничества как явления, и выявив его сущность, определить социокультурное место и значение изучаемого феномена в контексте мо-дернизационных процессов российского общества XIX века.
В числе задач исследования следующие:
1. Определить правовую и социокультурную сущность профессионального ябедничества в России; обнаружить его проявления и носителей; установить основные этапы развития.
2. Установить место профессионального ябедничества в системе правовых и социальных отношений в XIX веке; выявить оценку, даваемую ему государством и обществом.
1 Миронов Б.Н. Социальная история России периода Империи (XVIII - начало XX в.) Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. - СПб., 1999.
3. Определить степень значимости явления для процесса формирования гражданского общества в России XIX века, его правосознания и правовой культуры.
Своим исследованием диссертант стремился также содействовать решению ряда вопросов, находящихся в ареале проблем философско-правового и культурологического характера (в частности, в рамках аксиологической проблематики).
При выборе источников соискатель стремился к тому, чтобы взаимное дополнение отдельных видов источников позволяло более полно раскрыть сущность изучаемого явления и разрешить задачи исследования.
Масштабность исследуемого явления заставляет автора в массе источников опираться прежде всего на те из них, которые могут отразить его наиболее общие признаки. Диссертант не ставил задачу исследовать какие-либо «местные» проявления ябедничества, характерные для той или иной территории России в изучаемый период. Вместе с тем, при отборе и анализе материалов использованы данные, характеризующие проявления ябедничества в отдельных географических районах.
В процессе работы над темой были обследованы отдельные фонды трёх архивохранилищ: Российского государственного исторического архива в С.Петербурге (РГИА), Центрального государственного исторического архива г. Москвы (ЦГИАМ) и Государственного архива Вологодской области (ГАВО).
Так, в РГИА в результате обследования 19 фондов был выявлен целый комплекс материалов весьма ценных для проводимого исследования. При подготовке диссертации исследованы следующие фонды РГИА:
- фонды законодательных комиссий: Ф.1259 (Комиссии для составления заN конов (1784-1804), Ф.1260 (Комиссии составления законов (1804-1848);
- фонды Государственного Совета: Ф.1149 (Департамента законов Госсовета) и Ф. 1151 (Департамента гражданских и духовных дел Госсовета);
- фонд 1341 (I департамента Сената);
- фонд 1364 (Гражданского кассационного департамента правительствующего Сената);
- фонд 1374 (Генерального прокурора Сената);
- фонд 1263 (Комитета министров);
- фонды Министерства внутренних дел: Ф.1284 (Департамента общих дел МВД), Ф.1286 (Департамента полиции исполнительной МВД), Ф.1287 (Хоз.Департамента МВД), Ф.1288 (Главного управления по делам местного хозяйства МВД);
- фонд 515 (Главного управления уделов);
- фонд 1409 (Собственной е.и.в. канцелярии).
В качестве главного для изучения избран Ф.1405 (Министерства юстиции) в котором и был обнаружен основной массив документов, использованных при проведении исследования. Выявленные источники относятся как непосредственно к исследуемому, так и более раннему периоду.
В числе обследованных фондов, в составе которых обнаружены использованные в работе документы - личные фонды: Ф.857 (А.С. Зарудного), Ф.651 (Васильчиковых), Ф.994 (Мордвиновых), Ф.1044 (Сабуровых).
В фондах ЦГИАМа внимание исследователя привлекли Ф. 1697 (Совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты (1864-1917 гг.)) и Ф.78 (Московского коммерческого суда).
Особый интерес представляли архивные материалы^ содержащиеся jb ГАВО. Предметом изучения являлись фонды 178 (Вологодской палаты гражданского суда), 179 (Вологодского окружного суда), 180 (Прокурора Вологодского окружного суда). В результате, был получен материал, весьма ценный не только для более полного раскрытия избранной темы, но представляющий, по мнению диссертанта, интерес для краеведения. В частности, выявлена информация о деятельности отдельных профессиональных ходатаев по судебным делам (частных поверенных), практиковавших в конце XIX, начале XX века, некоторые из которых обнаружили «предосудительный образ действий, несоответствующий званию поверенного» и были устранены министром юстиции от ходатайства по судебным делам. На основе изученных дел исследована процедура принятия в число частных поверенных при Вологодском окружном суде. В распоряжении автора оказались и некоторые биографические данные таких лиц.
Всего в процессе работы в архивохранилищах выявлено и изучено около 300 дел.
Остановимся на основных видах исследованных источников.
В процессе исследования было выявлено и проанализировано более трёхсот пятидесяти нормативно-правовых актов за период с XV по начало XX века. В их числе — грамоты, судебники, уложения, уставы, регламенты, указы, законы, манифесты и другие акты.
Анализ законодательных актов позволяет сделать достаточно важные выводы о правовой и социокультурной сущности явления, обнаружить информацию о носителях профессионального ябедничества.
Вместе с тем, отбор нормативно-правовых актов был затруднён тем обстоятельством, что законодатель ни в одном из них не дал юридически определённого понятия ябеды как правонарушения. О том, каким образом была решена эта исследовательская задача, речь идёт в разделе диссертации, касающемся юридической сущности ябедничества.
Нормативно-правовые акты объединены в две группы:
1) касающиеся профессионального правозаступничества и судебного представительства (его регулирования и организации);
2) непосредственно относящиеся к ябеде.
В числе нормативно-правовых актов особо необходимо выделить: Указ от 25 мая 1752 года «О искоренении ябеды» (ПСЗ РИ. I, T.XIII, № 9989); Указ от 24 января 1777 г. "О неопределении Подпоручика Кригера ни к каким делам за уклонение разными ябедническими вымыслами от платежа по векселю денег" (ПСЗ РИ. I, Т.ХХ, № 14.567); Указ от 19 июля 1797 г. «О штрафовании просителей за тяжбы, на одной ябеде основанные» (ПСЗ РИ. I, T.XXIV, № 18.055); Правила о лицах, имеющих право быть поверенными по судебным делам, утверждённые законом от 25 мая 1874 года; ряд статей Учреждений судебных установлений, касающихся присяжных поверенных и ряд других.
Нормативно-правовые акты анализировались по ряду позиций. В частности, с точки зрения наличия в них:
1) признаков и проявлений ябедничества, как правового явления;
2) признаков и проявлений ябедничества, как социального явления;
3) отношения законодателя к ябедничеству;
4) мер, направленных на устранение ябедничества (их видов и характера).
В результате выявлен целый комплекс документов, содержащих интересующую автора информацию и позволяющих делать вполне определённые выводы относительно объекта исследования. В Приложении к диссертации содержится «Таблица нормативно-правовых актов о ябеде», где приведены положения отдельных актов, наглядно иллюстрирующие сделанные автором выводы по указанным позициям.
В процессе работы диссертант обращался к статистическим данным, стремясь выявить информацию по двум основным позициям, в частности, касающимся:
1) состава профессиональных правозаступников и судебных представителей (в их числе, проявивших себя ябедниками);
2) случаев проявления ябедничества.
Сведения о численности профессиональных правозаступников и судебных представителей (присяжных поверенных, помощниках присяжных поверенных, частных поверенных) анализировались на основе опубликованных Я.Л. Берма-ном данных.1 Автор приводит статистику адвокатуры по целому ряду позиций за период 1880-1914 гг.
1 История русской адвокатуры: В 3 т. - М, 1916. - Т. 2: Сословная организация адвокатуры.
В фондах РГИА имеется ряд дел, позволяющих выявить количественный состав присяжных и частных поверенных, а так же присяжных стряпчих, состоявших при ряде окружных, мировых и коммерческих судов. В частности, Это «Сведения о присяжных и частных поверенных, сообщённые старшими председателями и прокурорами судебных палат, за время 1880-1886 г.» (РГИА. Ф. 1405. Оп.69 .Д. 7050); «Сведения о частных поверенных при съездах мировых судей округов Харьковской, Одесской и Казанской Судебных палат. 1886 г. (РГИА. Ф. 1405. Оп. 69. Д.7054); «Сведения о частных поверенных при съездах мировых судей округов Саратовской, Киевской, Варшавской, Виленской и Тифлисской судебных палат» (РГИА. Ф. 1405. Оп. 69. Д. 7055) и др.
Соискателем использовались отчеты комиссий помощников присяжных поверенных1 и советов присяжных поверенных,2 значительная часть которых опубликована.
Несомненный интерес представляет «Список лиц, устраненных от хождения по судебным делам, за время с 1875 года по 1—ое января 1910 года», поскольку он содержит информацию относительно ряда интересующих автора обстоятельств.3 Данный список содержит имена лиц, устраненных от хождения по судебным делам за период с момента введения института частных поверенных, т.е., с того самого момента, когда определенная часть профессиональных ходатаев, практиковавших ранее «подпольно», легализовала свою деятельность. Кроме того, в списке отражено время устранения от хождения (по годам) и наименование судебного учреждения, при котором состоял частный поверенный. Наконец, в списке указана сословная принадлежность, звание или чин устранённых лиц.
1 Отчет комиссии помощников присяжных поверенных округа С.-Петербургской судебной палаты за 1884 г. -СПб., 1884; Отчет комиссии помощников присяжных поверенных округа С.-Петербургской судебной палаты за 1890 год. - СПб., 1890; Отчет комиссии помощников присяжных поверенных округа С.-Петербургской судебной палаты за 1891 год. - СПб., 1892 и др.
2 Отчет Московского совета присяжных поверенных за 1882-1883 год. - М., 1883; Отчет Московского совета присяжных поверенных за 1888-1889 г. - М., 1890; Отчет Московского совета присяжных поверенных за 18891890 г. - М., 1890; Отчет Московского совета присяжных поверенных за 1890-1891 г. - М., 1891 и др.
3 ГАВО. Ф. 180. Оп. 15. Д. 2. Такие списки рассылались по всем судебным местам.
Содержащиеся в Списке данные позволяют проанализировать ряд обстоятельств и сделать некоторые выводы относительно географической распространённости явления и состава лиц, которые были замечены в предосудительном образе действий при хождении по чужим судебным делам
Проанализированы автором на предмет выявления статистических данных «Именные списки частным поверенным, получившим свидетельства на право ходатайствовать по чужим делам», в которых имеются сведения об отдельных частных поверенных, состоявших при Вологодском окружном суде за период с 1886 по 1907 г. (ГАВО. Ф. 179. Оп. 5. Д.206.)
Вместе с тем, относительно данной группы источников необходимо сделать серьёзную оговорку.
Во-первых, соискатель не ставил задачу выявления статистически-точного численного состава профессиональных ходатаев. Учитывая существование множества их категорий и отсутствие каких-либо данных о значительной их части (например, о так называемых подпольных адвокатах), диссертант обращался к отдельным сведениям, для того, чтобы определить примерный «масштаб» численности профессиональных ходатаев. Выявление статистики профессионального ходатайства — предмет специальных исследований.
Во-вторых, выявление конкретных случаев ябеднических проявлений, а, следовательно, и получение статистических данных, было затруднено целым рядом обстоятельств.
1) Анализ сущности ябедничества как правонарушения позволил сделать вывод об отсутствии в законодательных актах юридически-определённого понятия ябеды. В результате, ябедничество рассматривалось и как правонарушение (в частности — преступление и гражданско-правовой деликт), и как нарушение норм профессиональной этики (дисциплинарный проступок).
2) Ещё боле широкое, чем в законодательстве, понятие ябеды существовало в общественном сознании.
3) Явление носило в основной своей массе латентный характер.
4) Реагирование судебных и иных официальных органов на данные проявления осуществлялось не во всех случаях.
5) Судебная и дисциплинарная1 практика в различные периоды и разных местностях была далеко не единообразна.
В результате автор пришел к выводу о невозможности выявления достоверных статистических данных о состоянии явления в исследуемый период. Оперировать «урезанными», заведомо неверными данными означало бы сознательно искажать реальную картину и в результате делать ошибочные выводы.
Вместе с тем, в рамках исследования была сделана попытка выявить уровень правовой грамотности отдельных групп населения (в частности, крестьянства). Как показал анализ, в частности, периодической печати 60-х - 90-х гг. XIX в., крестьяне становились весьма легкой добычей для профессиональных сутяг и крючкотворов. Диссертантом были изучены работы посвященные разА 4 Я витию грамотности, правосознания и правовых нужд деревни в XIX веке. Именно эти факторы (грамотность, уровень правосознания и правовой культуры) предопределяли, во многом, как факт самого наличия ябедничества, так количественные и качественные его характеристики применительно к крестьянскому быту. Если вывод о том, что для деревни был характерен низкий уровень грамотности населения, является весьма спорным,5 то категорично можно ут
1 Имеется в виду, дисциплинарная практика советов присяжных поверенных и судов (в период действия Судебных устав), дисциплинарный надзор которых был распространен на присяжных поверенных (частных поверенных) и их помощников, в тех судебных округах, где не было советов.
2 Воскобойникова Н.П. К вопросу о грамотности северного крестьянства в первой четверти XVIII века. Вклад северного крестьянства в развитие материальной и духовной культуры. Тезисы годичного собрания проблемного объединения и Северного отделения археографической комиссии. - Вологда, 2-3 марта 1981 г.; Вологда, 1980.-С. 41-44.
3 Камкин А.В. Крестьянское правосознание и правотворчество по материалам второй половины XVIII века. // Социально-правовое положение северного крестьянства (досоветский период). - Вологда, 1981. - С. 40-54.
4 Кузьмин-Караваев В.Д. Земская адвокатура. Земство и деревня 1898-1903. Статьи, рефераты, доклады и речи. -СПб., 1904. - С. 30-51; Того же автора, там же: Правовые нужды деревни. - С. 325-360; и др.
5 В частности, по данным исследователей Севера России, грамотность северных крестьян со времен средневековья в этом регионе была относительно высокой. См., например, Просвирина Г.И. Грамотность крестьян Вологодской губернии в конце XIX - начале XX века как фактор развития крестьянского хозяйства // Вклад северного крестьянства в развитие материальной и духовной культуры. Тезисы годичного собрания проблемного объединения и Северного отделения археографической комиссии. Вологда, 2-3 марта 1981 г. - Вологда, 1980. -C.44-45. верждать, что общий уровень правовой культуры и правосознания не обеспечивал достаточной степени правовой защищенности крестьян.
В процессе исследования использовалась делопроизводственная документация. В данную группу источников входят: документы Государственного совета, законодательных комиссий; доклады и докладные записки; переписка по делам окружных судов; именные списки частным поверенным, получившим свидетельства на право ходатайствовать по чужим делам; дела о принятии в число частных поверенных; дисциплинарные производства (присяжных поверенных, их помощников и частных поверенных), судебно-следственные материалы.
Предметом внимания были и проекты нормативно-правовых актов. Учитывая то обстоятельство, что проекты в строго юридическом смысле нельзя отнести к категории законодательных актов, соискатель причислил эти документы к категории источников, образующих делопроизводственную документацию.
В этом отношении значительный интерес представляли документы Государственного совета и законодательных комиссий. В фонде 1149 (Департаменте законов Госсовета) выявлен и проанализирован ряд проектов, предусматривающих меры направленные к совершенствованию судопроизводства и, в частности, по вопросам судебного представительства. В их числе, следует назвать дела: «О принятии мер против умножения просительских дел» 1820 г. (РГИА. Ф. 1149. On. 1. Д.7); «О составлении проекта правил в обуздание ябеды и недельных прошений» 1827 г. (РГИА. Ф. 1149. Оп.1. Д. 17); «О судебном преследовании людей, возбуждающих из видов корысти крестьян к подаче ябеднических просьб» 1835 г. (РГИА. Ф. 1149. Оп.2. Д.23); «По вопросу об изменении узаконений о поверенных по судебным делам» 1871 г. (РГИА. Ф. 1405. Оп.69. Д. 7040); «Об изменении действующих узаконений о поверенных по судебным делам» 1873-1885 гг. (РГИА. Ф. 1405. Оп. 69. Д. 7049).
Обнаруженные материалы позволили получить представление о том, какова была позиция законодателя по отношению к изучаемому явлению, какие меры законодательного характера (реализованные, либо так и оставшиеся в проектах), предполагалось предпринять в целях «уменьшения зла ябеды».
В предмет изучения входили и проекты нормативно-правовых актов локального характера. Так, например, в фонде 1405 РГИА хранится дело «По прошению коллежского секретаря Пекарского и провизора Раушера о разрешении организовать в гор. Симферополе и по всей Таврической губернии открытую адвокатуру» 1860 г. (РГИА. Ф. 1405. Оп. 58. Д.2106).
Участие в проектировании института профессиональных правозаступников и судебных представителей (адвокатуры), принимали и частные лица. Так в фонде 651 (Васильчиковых) был обнаружен «Проект учреждения в С. -Петербурге и в Москве посреднических контор по тяжебным делам» 1834 г. (РГИА. Ф. 651. On. 1. Д. 299). В фонде 994 (Мордвиновых) имеется записка неустановленного лица «О делоходатаях или поверенных», относящаяся к 1837 году (РГИА. Ф. 994. Оп. 2. Д. 494). В Фонде 1405 содержится дело «По проекту губернского секретаря И.А. Белоусова об учреждении в России звания адвокатов» 1846 г. (РГИА. Ф. 1405. Оп. 44. Д. 4892).
В числе выявленных и использованных документов были доклады и докладные записки. Например, Высочайше утвержденный доклад Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича от 22 апреля 1825 г. "О запрещении в присоединенных от Польши Губерниях печатать, без цензуры, адвокатские речи и другие по тяжебным делам бумаги" (РГИА. Ф. 1409. On. 1. Д. 1290), опубликованный в ПСЗ РИ. I, T.XL, № 30.328.
В работе использовались не только доклады чиновников, но и докладные записки частных лиц. Например: докладная записка, направленная министру юстиции частным поверенным Харьковской судебной палаты, учителем истории Василием Андреевичем Белинским об изменении узаконений о поверенных по судебным делам в 1871 г. (РГИА. Ф. 1405. Оп. 69. Д. 7040).
Благодаря тому, что распоряжением Министерства Юстиции окружными судами должны были представляться в Министерство «Именные списки частным поверенным, получившим свидетельства на право ходатайствовать по чужим делам», а также данные о присяжных стряпчих при коммерческих суда, о присяжных поверенных и их помощниках, с указанием определенных сведений (звания и фамилии, вероисповедания, образовательного ценза, предшествующей деятельности каждого до зачисления в присяжные поверенные (их помощники, частные поверенные, присяжные стряпчие), состояние в других должностях или званиях), имеется возможность не только выявить сведения о представителях нескольких категорий профессиональных ходатаев, но и получить дополнительные материалы для портрета типичного профессионального ходатая.
В фондах РГИА обнаружены уже упоминавшиеся дела со сведениями за период 1880-1886 гг.: а) о поверенных по судебным делам при окружных судах округов: С. -Петербургской, Московской, Харьковской, Одесской и Казанской судебных палат; б) о поверенных по судебным делам по округам Саратовской, Киевской, Варшавской, Виленской и Тифлисской суд. Палат; в) о присяжных стряпчих при коммерческих судах и о частных поверенных при мировых съездах округов С-Петербургской и Московской судебных палат; г) о частных поверенных при съездах мировых судей округов Харьковской, Одесской и Казанской Судебных палат; д) о частных поверенных при съездах мировых судей округов Саратовской, Киевской, Варшавской^ Виленской и Тифлисской судебных палат. (РГИА. Ф. 1405. Оп. 69. Д. 7050-7055).
Особое внимание было уделено данным о практиковавших при Вологодском окружном суде частным поверенным (ГАВО. Ф. 179. Оп. 5. Д. 206).
Не менее ценными в этом отношении оказались дела о принятии в число частных поверенных в составе которых имеются прошения, запросы, донесения, справки, материалы дисциплинарных дел. При этом использовались прежде всего местные материалы (ГАВО. Ф. 179).
На основании п. 8 Правил от 25 мая 1874 года, судебные места запрашивали сведения о претендентах в частные поверенные у местных властей (местных прокуроров, председателей съездов мировых судей, уездных исправников и т.п.). Благодаря этому имеются характеристики таких лиц из различных источников.
Судебно-следственные материалы и дисциплинарная практика советов присяжных поверенных и судов также представляют интерес. Диссертант обратился к этим материалам за разрешением вопроса о том, как в судебно-следственной и дисциплинарной практике определялось ябедничество и какого вида ответственность за него наступала.
Целый ряд дел относящихся к периоду 20 - 50-х годов XIX в. обнаружен в фонде Департамента гражданских и духовных дел Госсовета (Ф. 1151). В их числе дела: «О коллежском регистраторе Василии Власове, судимом за писание ябеднических просьб» 1836 г. (РГИА. Ф. 1151. Оп. 2. Д.32,б); «Об отставном губернском секретаре Афанасии Караулове, судимом за лихоимство и ябедничество» 1824 г. (РГИА. Ф. 1151. On. 1. Д.72); «О коллежском секретаре Иване Генерозове, судимом за передачу векселя с подложным бланком и за написание «ябеднических бумаг с дерзкими и оскорбительными выражениями» 1837 г. (РГИА. Ф. 1151. Оп. 2. Д. 127); «О коллежском регистраторе Василии Яблонов-ском, судимом за писание помещичьим крестьянам ябеднических прошений» 1832 г. (РГИА. Ф. 1151. Оп. 2. Д. 40,а.) и другие. Особенно важно то, что данные дела, как рассмотренные департаментом Госсовета, выступали в качестве своего рода прецедентов для нижестоящих судебных инстанций, и, следовательно, были вполне типичны.
Основываясь на юридическом анализе ябеды как правонарушения, диссертант пришел к выводу о том, что ябеднические проявления фиксировались и как нарушения норм профессиональной адвокатской этики. В связи с этим, предметом изучения были дисциплинарные производства (присяжных поверенных, их помощников, а так же частных поверенных) за период с 1866 по начало 1900-х годов.
В процессе работы был проведён анализ дисциплинарной практики С-Петербургского, Московского, Харьковского советов присяжных поверенных, Вологодского окружного суда за 1864- 1900 гг. При этом автор основывался, как на опубликованных и систематизированных данных (П.В. Макалинский,1
2 3
История русской адвокатуры, К.К. Арсеньев и др.), так и выявленных в фондах Министерства юстиции (РГИА. Ф. 1405), Московского окружного суда (ЦГИАМ. Ф. 142), Вологодского окружного суда(ГАВО. Ф. 179).
В результате, выявлен целый комплекс проявлений «неправильных и предосудительных действий», совершённых несколькими категориями профессиональных правозаступников и судебных представителей. Кроме того, автором получены список «профессиональных ябедников» и отдельные сведения о них.
В процессе исследования были выборочно просмотрены комплекты 50 наименований журналов и газет различной направленности за период с 1858 по 1900 гг. При этом, отобраны различные по периодичности, территориям, издателям, содержанию журналы и газеты. В результате было выявлено и изучено более 500 издательских единиц и опубликованных в них материалов. Проанализированы публикации различных жанров: очерки, корреспонденции, фельетоны, судебные отчёты, объявления.
В них также выявлялись официальные документы, проекты законодательных актов и отзывы на них,4 материалы судебной практики, мнения читателей по отдельным вопросам,5 публицистические произведения6 и др.
1 С.-Петербургская присяжная адвокатура: Деятельность С.-Петербургских совета и общих собраний присяжных поверенных за 22 года (1866-1888 гг.)/Сост. присяж. поверенный Я. В. Макалинский. - СПб., 1889.
2 История русской адвокатуры: В 3 т. - M., 1914-1916.
3 Арсеньев К.К. Заметки о русской адвокатуре. Обзор деятельности С.-Петербургского совета присяжных поверенных за 1866-1874 г.г. - СПб., 1875.
Например, По поводу разработки при Министерстве юстиции новых правил для частных ходатаев по судебным делам // Русские ведомости. 1873. 23 ноября.
3 Например, С-ий. Изнанка адвокатского вопроса (среда, как фактор темных сторон адвокатуры) // Неделя. 1876. 10 октября; Гдб. Должен ли адвокат с нравственной точки зрения отказываться от ведения иных дел // Дело. -1868.- № 10 и др.
6 Например, Марков Е. Софисты XIX века // Голос. 1875. 6 сентября и др.
Публикации с 1858 г. по 1895 г. выявлены с наибольшей полнотой по «Систематическому указателю русской литературы по судоустройству и судопроизводству, гражданскому и уголовному» А. Поворинского (СПб., 1896).
Кроме этого, выборочно изучались комплекты отдельных изданий за 18581914 гг. в результате чего, был отобран ряд публикаций и материалов. В частности, просмотрены комплекты ежедневной официальной газеты Министерства внутренних дел «Правительственный Вестник» (1893 г.); литературно-политических журналов: «Вестник Европы» (1869 г.; 1874-1896 г.), «Дело» (1868 г.; 1876 г.), «Отечественные записки» (1958 г.; 1874 г.; 1876 г.); научного, литературного и политического журнала «Русская мысль» (1884-1895 г.), общественной, литературной и политической газеты «Южный край» (1880-1891 г.) и др.
Исследовались исторические издания, такие, как: «Русская летопись» (1871 г.), «Русская старина» (1871 г.).
В числе изученных были газеты различной политической направленности: политическая и литературная газета-журнал консервативно-монархического направления «Гражданин» (1872-1893 гг.), газеты либеральной направленности -«Биржевые ведомости» (1875 г.), «Голос» (1868 г.; 1873-1875 гг.) и др.
Особое внимание уделялось отраслевой журналистике, а именно юридическим изданиям. В частности, таким органам, как «Журнал гражданского и уголовного права» (1866-1895 гг.), «Журнал СПб Юридического Общества» (1894 г.), «Судебная газета» (1884-1897 гг.), «Судебные порядки» (1881 г.), «Судебный вестник» (1869-1876 гг.), «Юридическая газета» (1892-1894 гг.), «Юридическая летопись» (1890-1892 гг.), «Юридический вестник» (1860-1888 гг.), «Юридический журнал» (1860 г.), «Криминалист» (1882 г.).
В целях получения представления о развитии изучаемого явления в различных местностях Российской империи, изучены комплекты следующих изданий: «Варшавские гуоепнскр""т Ломости» (1877 г.), «Донские областные ведомости» (1872 г.), «Киевлянин» (1865-1866 гг.; 1880-1891 г.), «Виленский вестник»
1866 г.), «Екатеринбургская неделя» (1881 г.), «Московские Ведомости» (18591874 гг., 1887-1991 гг.), «Новороссийский телеграф» (1886-1893 гг.), «Одесский вестник» (1860-1864 гг.), «Оренбургский листок» (1877 г.), «СПб Ведомости» (1865-1994 гг.), «Северный вестник» (1890-1893 гг.), «Туркестанские Ведомости» (1883 г.), «Харьковские губернские ведомости» (1868 г.), «Южный край» (1880-1881 г., 1891 г.)
При работе с данной группой источников внимание уделялось отношению общества к институту профессионального правозаступничества и судебного представительства (адвокатуре), как таковому,1 а также попыткам его организации и реформирования. Пристальный интерес общества проявлялся как к негативным проявлениям в деятельности профессиональных правозаступников (судебных представителей), так и к самим этим институтам.
Благодаря различной направленности изданий, удалось обнаружить довольно обширный объём информации и спектр мнений по ряду весьма важных, с точки зрения исследуемого объекта, вопросов.
Учитывая особенности и значение профессионального ябедничества, как явления социокультурного, диссертант не мог обойти вниманием такую группу источников, как публицистические произведения. Располагая информацией, содержащейся в других видах источников и отражающей позицию официальных органов и должностных лиц на проблему ябедничества, диссертант стремился выявить общественное мнение по исследуемому вопросу.
Диссертантом, с учетом особенностей объекта исследования, сделана попытка обозначить общественные настроения по двум основным позициям: отношение к ябедничеству, как правовому и социокультурному явлению и отношение к его носителям.
1 См., например, Адвокаты и общественное мнение П Неделя. 1872. 12 февраля.
2 Проект адвокатской реформы // Гражданин. - 1873. - № 24; По поводу разработки при Министерстве юстиции новых правил для частных ходатаев по судебным делам // Русские ведомости. 1873.24 сентября; По поводу циркуляра Министра юстиции в разъяснение правил 25 мая 1874 г. о частных поверенных // Судебный вестник. 1875. 14 октября и др.
В этом смысле, представляет интерес работа «Столичная адвокатура».1 Приводимые в ней факты и описания присяжных поверенных, составлявших ряды Московской присяжной адвокатуры 60 - 90-х гг. XX века вполне достоверны, поскольку автор, как полагаем, рассчитывал на то, что все описываемые лица, имена которых скрыты под начальными и конечными буквами их фамилий, известны читателю и будут легко узнаваемы (без этого успех работы был бы невозможен).
Значительный толчок обсуждению вопросов этики и нравственности в деятельности профессиональных правозаступников дал фельетон Е.Маркова «Софисты XIX века» , который возможно отнести к категории публицистических произведений. Критика адвокатского сословия и адвокатуры, как таковой, ироничный тон публикации не могли остаться без внимания. Данная работа имела многочисленные отклики и вызвала активную полемику.3
Интерес представляют и работы Кроткова,4 П.Н. Обнинского5 М.Х. Петру
А 7 лана, В.В. Птицина. Ряд произведений выявлен в журнально-газетных публио кациях. В частности, работы Кроткова, П.Н. Обнинского, М.Х. Петрулана, представляют бытовавшие в деревенской среде юридические порядки и демонстрируют роль, которую играли в ней профессиональные ходатаи.
Значительную роль в описании ябедничества — его проявлений и причин, а так же в создании социального портрета профессионального ябедника играют художественно-литературные источники.
1 Столичная адвокатура. Наброски С. — М., 1895. г Марков Е. Софисты XIX века // Голос. - 1875. - № 36-37.
3 Платонов С. О русской адвокатуре. «Софисты XIX века» г. Маркова и «заметки об адвокатуре» г. Арсеньева //Журнал гражданского и уголовного права. - 1875. - Кн.З, Кн. 4, Кн. 5; Избиение адвокатов Марковым // Вестник Европы. - 1875. - Кн. 3; Белов Ев. Современный вопрос об адвокатах // Гражданин. - 1875. - № 11, 14; Суд над русской адвокатурой // Неделя. 1875. 12 апреля; Громницкий М. Адвокат об адвокатах (причины дурных отзывов об адвокатуре) // Неделя. 1875.22 мая и др.
4 Кроткое. Волчье стадо: Записки провинциального адвоката: Сцены и картины сельского суда / Изд. Земского. -М., 1875. s Обнинский П. Н. Адвокатура/Закон и быт. Выпуск I,- М., 1891.-С. 162-312.
6 Петрулан М.Х. Частная сельская адвокатура в Северо-Западном крае. - Вильна, 1891.
7 Птицын В.В. Древние адвокаты и наши присяжные цицероны. - СПб., 1894; Птицын Влад. Адвокат за адвокатуру. -СПб., 1895.
8 Репинский Гр. Поверенные по делам // Юридический вестник. - 1860-1861. - Кн.5, Кн. 6; Соколов И.А. Об адвокатах или стряпчих по частным делам // Сын Отечества. - 1861. - № 4 и др.
Учитывая, что для такого рода источников важнейшей проблемой является выделение выраженной в литературном образе информации, адекватно воспроизводящей действительность, автор проводил сопоставительный анализ указанной информации с данными других источников.
Использование этой категории источников было необходимо, по крайне мере, по двум причинам.
Во-первых это значительный массив источников. Как справедливо подметил И.В. Гессен, «нет, в самом деле, ни одного выдающегося писателя, который в своих произведениях не изобразил бы типа стряпчего, ходатая по делам». При этом автор отмечает, что хотя изображение данного образа встречается почти у всех писателей, изображения эти различаются между собой лишь по степени яркости, но отнюдь не по существу.1
Во-вторых, художественный материал, при условии достоверности изложенной в нём информации, позволяет выделить множество дополнительных и вместе с тем, очень важных черт, как социального портрета самих ябедников, так и их деятельности.
В процессе работы над этой категорией источников было выявлено более пятидесяти произведений за период с конца XVIII, по начало XX века, которые так или иначе касались адвокатов и адвокатской деятельности вообще и, в частности, проявлений недобросовестности в сфере профессионального судебного представительства и правозаступничества. Вот некоторые из них: комедия В.В. Капниста «Ябеда» (Праволов, Наумыч); роман А.С. Пушкина «Дубровский» (заседатель Шабашкин); поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» (юрисконсульт)); социально-бытовая историческая хроника М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» (Петр Дормидонтович Могильцев); комедия А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся!» (Сысой Псоич Рисположенский). Целая плеяда ябедников изображена у И.Ф. Горбунова в «Иверских юристах». Образ профессионального ябедника присутствует в произведениях Л.Н. Андреева,
1 История русской адвокатуры. Т. 1. Гессен И.В. / Сост. С.Н.Гаврилов. - М., 1997. - С.13.
Ф.М. Достоевского, Д.Н. Мамина-Сибиряка, Н.А. Некрасова, А.Ф. Писемского, А.П. Чехова и других классиков русской литературы.
В числе художественно-литературных источников, безусловно, первым, следует назвать комедию В.В. Капниста «Ябеда» (между 1791 и 1798 г.).1 Капнист рисует не только атмосферу в которой ябедничество успешно расцветало, но и описывает, какие действия совершаются ябедником - отставным асессором Праволовым.
Достоверность образа ябедника изображенного Капнистом в его комедии подтверждается не только схожестью содержащихся в ней данных, с данными других источников, но и самим жанром произведения. Это комедия. Ее успех возможен лишь в том случае, когда перед зрителем и читателем изображается узнаваемое, весьма распространенное и к тому же вызывающее общее критическое настроение в обществе, явление.
В романе «Дубровский» (1841) А.С. Пушкин показывает судебного чиновника Шабашкина, к которому обратился Троекуров с просьбой отнять имение у Дубровского без всяких на то законных оснований.
Особенно важно то, что в основу романа А.С. Пушкин положил реальное дело «О неправильном владении поручиком Иваном Яковлевым сыном Муратовым имением, принадлежащим гвардии подполковнику Семену Петрову сыну Крюкову, состоящим Тамбовской губернии Козловской округи сельце Новопанском».2
В комедии А.Н. Островского «Свои люди - сочтемся !» (1849) Сысой Псоич Рисположенский применяет один из излюбленных приёмов ябедников - ложное банкротство. В судебной практике было большое количество подобного рода дел. Так, например, автором было обнаружено дело об устранении в 1898 году Министром юстиции от хождения по чужим делам надворного советника
1 Капнист В.В. Ябеда (комедия в пяти действиях) // Русская литература последней четверти XVIII века. - М., 1985.-С.270-281.
1 Мануйлов В.А., Холшевникова Е.В. О романе «Дубровский» // Пушкин А. С. Дубровский. - М., 1973. - С.71,72.
Дмитрия Второва, который ведя дело Вологодского купца Мартынова использовал данный недобросовестный приём.1
Особо хотелось бы отметить произведение М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» (1887-1889 гг.). Обращает на себя внимание информативная насыщенность художественного текста. В нём содержится целый комплекс данных о ябеднике и его деятельности: происхождение; образование и биографические данные; свойства личности и деловые качества; используемые ходатаем ябеднические приемы; цель ябедника и последствия его деятельности.
Что касается исторической достоверности информации, изложенной в данном художественном тексте, то, сопоставительный анализ целого комплекса источников (законодательных актов, материалов судебной и дисциплинарной практики, периодическая печать) показывает, что автор создал некий обобщённый и исторически достоверный образ профессионального ябедника XIX века. При этом невольно возникает ощущение, что перед нами не художественный текст, а материалы реальной судебной практики. Определяя роль данного романа как исторического источника, М.С. Ольминский отмечал: «если Вы хотите ознакомиться с действительной жизнью той эпохи, то вместо всяких исторических сочинений начинайте с чтения «Пошехонской старины» Щедрина».2 Высоко в этом плане оценивал данный роман и М.Н. Покровский.3 С.А. Макашин отмечал, что «Пошехонская старина» принадлежит художественной литературе, но велико значение «хроники» и как исторического и социального источни-ка.4
В процессе работы диссертант обращался и к другим источникам. В частности, автором активно использовалась этимологические, толковые, энцикло
1 ГАВО. Ф. 180. Оп. 15. Д. 2; Ф. 179. Оп. 5. Д. 169; Ф. 179. Оп. 5. Д. 489.
2 Ольминский М. По вопросам литературы. Статьи 1900-1914 гг.-Л., 1926.- С.81.
3 См., Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры. Ч. 1. -M., 1915. - С. 139.
4 Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 10 т. - М., 1988. Т. 10. Примечания. - С.534. педические, юридические словари периода: с конца XVIII до настоящего времени. Комплекс исследованных источников, анализ содержащихся в них данных, позволяют, по мнению диссертанта, в целом решить задачи исследования.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Профессиональное ябедничество в истории России XIX века"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе была сделана попытка обозначить основные контуры профессионального ябедничества, как социокультурного феномена социальной истории России в общем, а также выявить его эволюцию в модернизационных процессах XIX века, в частности.
Профессиональное ябедничество возможно рассматривать как недобросовестность при ведении судебных дел лицами, профессионально выполняющими функции правозаступников (судебных представителей).
Как «вечный вопрос адвокатуры» или как выразился В.Д. Спасович, «органическое ее свойство», ябедничество сопутствовало и сопутствует ей всегда. Возникшее и существующее как «органическое» зло, как издержки профессии ходатая, для многих ее представителей ябедничество являлось основой деятельности.
В результате анализа комплекса источников установлено, что проявления ябедничества были присущи представителям различных категорий профессиональных правозаступников (судебных представителей). Гранями, отделявшими ябедника от добросовестного ходатая, были не его квалификационный уровень, социальный статус, образованность и другие формальные признаки, а честность, порядочность и следование адвоката правде «по совести». Последние были присущи отнюдь не всем.
При этом отдельные ябеднические проявления (как нарушения норм профессиональной этики) наблюдались и у вполне безупречных в нравственном и этическом отношении профессиональных правозаступников (судебных представителей).
Причина того, что ябедниками именовали чуть ли не всех представителей данной профессии состоит не только в искушении адвоката выиграть «неправое дельце». Весьма часто в общественном сознании любое использование недостатков судебной процедуры и ее особенностей рассматривалось как проявление крючкотворства, ябедничества.
В развитии ябедничества как социокультурного явления можно выделить несколько этапов. О том, что в общественном сознании происходили изменения представлений о ябедничестве, наглядно свидетельствуют результаты истори-ко-этимологического анализа самого слова «ябеда» и его семантического развития. Возникшее, как термин, определяющий некую судебную должность, слово это (не позднее XVIII в.) стало приобретать отрицательную коннотацию, являясь обычным обиходным словом. Так стали именовать лиц, занимавшихся сутяжничеством, тяжебников, завсегдатаев судебных мест. Позже, уже в начале XX века, слово устарело, постепенно выходя из сферы активного словоупотребления.
Наиболее существенное, качественное изменение восприятия общественным сознанием ябедничества, как социокультурного явления произошло именно в XIX веке, после введения Судебной реформы 1864 г., когда вопрос о ведении «заведомо неправых дел» и умышленные нарушения судебной процедуры, а так же другие формы недобросовестного поведения профессиональных ходатаев стали рассматриваться как нарушение норм профессиональной этики.
Сравнительный анализ двух периодов развития российского общества (до Судебной реформы 1864 г. и после введения Судебных уставов) позволяет сделать вывод о том, что профессиональное ябедничество продолжало существовать в качественно-неизменном виде. Ябедники весьма успешно приживались и в условиях новой социальной действительности России второй половины XIX века. Менялись определенным образом лишь формы оценки явления, формальный состав носителей и некоторые другие признаки. Но суть ябедничества — как «стремления добиться неправого при помощи судебной процедуры», «недобросовестных поступков», «вчинания заведомо-неправильных исков», «заведения неправых тяжб» и т.п., оставалась прежней.
Таким образом, при всем многообразии проявлений ябедничества и наличии в его развитии нескольких этапов, оно оставалось качественно неизменным на протяжении ряда веков, образуя устойчивую традицию. Вместе с тем, именно XIX век стал тем периодом, который в эволюционном развитии явления занимает особое место.
Проведенный анализ позволяет сделать выводы о широкой распространенности явления. Автор не ставил специальной задачи проводить сопоставительный анализ наличия и уровня ябеднических проявлений в той или иной местности. Однако исследованные источники позволяют сделать вывод о том, что явление было распространено во всех регионах Российской Империи.
Говоря о месте профессионального ябедничества в системе правовых и социальных отношений, и характеризуя оценку, даваемую ему государством и обществом необходимо отметить, что во все периоды существования явления общество и государство негативно относилось к проявлениям ябедничества и его носителям. Анализ различного вида источников свидетельствует об этом. В XIX веке распространенность явления и общая негативная оценка его обществом и государством как «общественной язвы» проявлялась через различные средства и формы: законодательство, публицистику, художественнолитературные образы, нравственное осуждение, формирование определенных языковых форм и т.д.
Для автора очевидно, что устойчивость феномена ябедничества во многом объясняется тем, что существовала потребность общества в ябедничестве. Проявляя, как правило, презрительное отношение к ябедникам, весьма многие люди сознательно обращались к ним с целью «отнять не принадлежащее по закону» у другого.
Это можно объяснить не только потребностью в юридической помощи и профессиональных ходатаях, но и в желании самих лиц, обращающихся за такой помощью, «присвоить себе чужое». Ведь именно недобросовестность самих клиентов давала возможность профессиональным ябедникам применять свое «искусство» на практике. Таким образом, можно говорить о том, что «секрет» устойчивости явления кроется, с одной стороны в органических свойствах самой профессии правозаступника (судебного представителя), с другой — в потребности общества иметь в лице представителей данной профессии не только «борцов за право и правду», но и готовых на использование любых средств «облокатов - купленная совесть». XIX в., с его довольно активными модерниза-ционными общественными процессами, в этом отношении ничего не изменил и не мог изменить. «Органические свойства» профессии адвоката и «органические свойства» человеческой природы брали верх.
Вместе с тем, следует отметить степень значимости изучаемого явления для процесса формирования гражданского общества в России XIX века, правосознания и правовой культуры.
Негативные проявления деятельности профессиональных ходатаев не означают, что в числе таковых были лишь недобросовестные лица, а любой профессиональный ходатай был ябедником. Вместе с тем, в общественном сознании «профессиональный ходатай» и «ябедник» воспринимались как тождественные.
Здесь важно отметить, что явление ябедничества было теснейшим образом связано с извечными проблемами, стоявшими в русском общественном сознании — о соотношении закона и правды.
Проблема Правды «по закону» и Правды «по совести», в свою очередь, рассматривалась не только на уровне «бытовом» (в повседневной жизни); но и как совокупность вопросов профессионально-этического характера (адвокатская этика); и еще более широко - как нравственная общечеловеческая проблема.
Решение этого вопроса усугублялось конфликтом «правды» и «закона», существовавшем в общественном сознании. Понимание «правого по совести» и «правого по закону» весьма разнилось.1 Отношение общества к ябедничеству, как к социокультурному явлению было, в этом смысле, своего рода показателем того, как решался вопрос об эпохальном конфликте.
Существование ябедничества и столь широкая распространенность его была обусловлена, по мнению диссертанта, специфическим отношением русского человека к праву, как регулятору общественных отношений.
Если условно, в отношении к праву общества выделить три уровня: 1) «идеалистический» («право есть правда и средство для достижения всеобщего блага»); 2) «утилитарный» («право есть здраво понятая польза и средство регулирования общественных отношений»); 3) «вульгарно-утилитарный» («право есть средство для достижения собственного интереса, не обязательно законного, а сам закон, как дышло.»), то применительно к российскому менталитету, картину можно обрисовать следующим образом.
Слияние в сознании русского человека «права» и «правды» в нечто единое, его стремление увидеть в законе «воплощенную правду», и неприятие им ничего усредненного в реальной жизни приводило к совершенно противоположному.
Стремление к идеалу (к «праву, как правде») оборачивалось в действительности, при осознании недостижимости этого идеала, в то, что право низводи
1 Этот конфликт отображен еще у Митрополита Иллариона в его труде «Слово о законе и благодати». лось в системе ценностей до вульгарно-утилитарного уровня и являлось сферой для крючкотворов и ябедников. Отсюда — любое использование недостатков судебной процедуры или даже просто ее особенностей воспринимались в общественном сознаний как действия противные совести и нравственности, т.е. как ябедничество.
Как ябеда могла восприниматься и любая попытка на вполне законном основании защитить свои права. Таким образом, в сознании сливались воедино два значения ябеды — 1) ябеда как прошение и жалоба; 2) ябеда как сутяжничество, крючкотворство и т.п.
Вероятно, именно поэтому стремление построить «правовое государство» в российском обществе терпело и терпит неудачу. Воспринимать и принимать право, лишь как регулятор общественных отношений (т.е., на утилитарном уровне) для российского менталитета неприемлемо. Это означает потерю идеала. Высшая правда и справедливость не может войти в рамки формального права.
Таким образом, профессиональное ябедничество оказывало заметное влияние на правовую и культурную жизнь России на протяжении ряда веков.
Вместе с тем, как это ни странно звучит, следует признать конструктивную роль ябедничества. Материалы XIX века показывают, что так или иначе, именно ябедники наглядно демонстрировали законодателю множество недостатков системы судоустройства и судопроизводства, что, в свою очередь, катализировало процессы совершенствования законодательства и подготовку Судебной реформы 1864 г.
Значительна роль ябедничества и в сфере применения права. Ябедники, с их знанием судебной процедуры и порядков, умением «крючкотворить», содействовали тому, чтобы судебная практика реагировала не только на призывы адвокатов к человеколюбию и милости, что было весьма характерно для многих процессов пореформенного (1864 г.) периода, особенно в суде присяжных,1 но и опускалась на «реальную почву права».
Тем самым, как ни парадоксально, ябедники способствовали укреплению правового порядка и на уровне правоприменения, а ябедничество возможно рассматривать как вполне органичное явление в бюрократической машине России, позволявшее ей успешно функционировать.
Ябедничество как социокультурный феномен есть явление «мониторинговое» для целого комплекса явлений и процессов правовой и социокультурной реальности. Волей-неволей ябедничество становилось средством измерения уровня правовой культуры различных социальных слоев Российского общества. По характеру отношения общества к ябедничеству (в частности, нарушениям норм профессиональной адвокатской этики) можно судить не только об отношении его (общества) к праву, к судебной процедуре, но и отношению к правам личности вообще, а также судить об иерархии общественных ценностей россиян в тот или иной период.
Дальнейшее изучение такого явления как ябедничество может способствовать качественно новому осознанию многих социальных, культурно-исторических процессов, происходивших в отечественной истории и происходящих в современном обществе в настоящее время.
1 Вспомнить хотя бы известное дело В.Засулич, которая, являясь юридически виновной, была оправдана судом присяжных под воздействием политических настроений и благодаря качественной защите П.А.Александрова.
Список научной литературыГаврилов, Сергей Николаевич, диссертация по теме "Отечественная история"
1. Публикации нормативно-правовых актов
2. Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗ). Собрание первое. -СПб. - 1830.
3. Т. II, № 1140, 1158, 1178, 1185. Т. III, № 1363, 1572, 1576. Т. IV, № 1755,2330.
4. Т. V, № 2669,2787, 2865, 2871, 3006, 3143, 3282, 3285.
5. Т. VI, № 3493, 3586, 3643, 3940, 4022.
6. Т. VII, № 4344, 4460, 4769, 4785.1. Т. VIII, №5416, 5546.
7. Т. XI, № 8012, 8113, 8558.1. Т. XII, №9279.
8. Т. XIII, № 9612,9989, 10007.1. Т. XIV, № 10136.1. Т. XV, № 11181, 11.285.1. Т. XVI, № 11624.1. Т. XVIII, № 13135.1. Т. XIX, № 13617, 13953.1. Т. XX, № 14392, 14567.1. Т. XXI, № 15172.1. Т. XXII, № 16175, 16231.1. Т. XXIII, № 16844.
9. Т. XXIV, № 17717,18055, 18266.1. Т. XXV, № 18427.1. Т. XXVI, № 19400.
10. Т. XXIX, №22076. Т. XXX, №23189, 23.911. Т. XXXI, № 24778. Т. XXXIII, № 26422. Т. XXXVI, № 27882. Т. XXXVII, №28660. Т. XXXVIII, №29072. Т. XL, № 30328.
11. Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗ). Собрание второе. -СПб.- 1830- 1884.
12. Т. 1,№ 12,403,423. Т. III, № 1754, 1792,1842. Т. VI, №4640. Т. VII, № 5360. Т. VIII, № 6390. Т. IX, № 7000. Т.Х,№7771, 8170, 8330. Т. XV, № 13630. Т. XVIII, № 16781. Т. XXI, № 15172,20101. Т. XXIII, №33.731. Т. XLIII. № 45359. Т. XLIX, № 53573.
13. Архивные материалы Российский государственный исторический архив в С.-Петербурге (РГИА)
14. Ф. 515. Главное управление уделов.
15. Оп. 38. Д. 1525. Ф. 651. Фонд Васильчиковых.
16. On. 1. Д. 299. Ф. 857. Фонд А.С. Зарудного.
17. On. 1. Д. 1522, 1551. Ф. 994 Фонд Мордвиновых.
18. Оп. 2. Д. 494. Ф. 1044 Фонд Сабуровых.
19. Оп. 1.Д.292. Ф. 1149. Департамент законов Госсовета. Оп. 1.Д. 7, 9,17,37; Оп. 2.Д. 8, 23, 60; Оп. 6. Д. 63; Оп. 8. Д. 39.
20. Ф. 1151 Департамент гражданских и духовных дел Госсовета. Оп. 1.Д. 72, 88; Оп.2. Д. 32 б, 40 а, 61, 127; Оп. 4. Д. 6, 8, 18, 28, 49, 82, 102,139. Ф. 1259. Комиссия для составления законов (1784-1804 гг.). On. 1. Д. 2, 3,4, 5, 6, 7, 8; Оп. 5. Д. 49.
21. Ф.1260. Комиссия составления законов (1804-1848 гг.).
22. On. 1. Д. 47, 280, 282, 286, 470, 605, 705. Ф. 1263. Комитет министров.
23. On. 1. Д. 256. Ф. 1284. Департамент общих дел МВД. Оп. 29. Д. 78.
24. Ф. 1286. Департамент полиции исполнительной МВД. Оп. 6. Д. 240; Оп. 7. Д. 173; Оп. 32. Д. 317; Оп. 40. Д. 439; Оп. 53. Д. 199. Ф. 1287. Хозяйственный департамент МВД. Оп. 7. Д. 1055; Оп. 27. Д. 566; Оп. 37. Д. 1968.
25. Ф. 1288 Главное управление по делам местного хозяйства МВД.
26. Оп. 3 (II Деп.). Д. 2. Ф. 1341.1 департамент Сената.
27. Оп. 13. Д. 1049. Ф. 1374. Генеральный прокурор Сената.
28. Оп. 1.Д.242. Ф. 1405. Министерство юстиции. Оп. 44. Д. 4892; Оп. 58. Д. 2106, 2158, 2204; Оп. 64. Д. 3595; Оп. 67. Д. 3045 в, 3045 г; Оп. 68. Д. 2103;
29. Оп. 69. Д. 6142, 7040, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7057,7058, 7059,7060,7061;
30. Оп. 70. Д. 5617, 5647, 5715, 7279;
31. Оп. 72. Д. 3040, 3060, 3182, 3188, 3194;
32. On. 73. Д. 3608,3692; On. 75. Д. 4217; On. 76. Д. 5062, 5079; On. 78. Д. 481; On. 88. Д. 10402; On. 101. Д. 13360; On. 531. Д. 190, 193; On. 542. Д. 154, 13325. Ф. 1409 Собственная е.и.в. канцелярия. Оп. 3. Д. 8562.
33. Центральный государственный исторический архив г. Москвы (ЦГИ-АМ).
34. Ф. 1697. Совет присяжных поверенных округа Московской судебной палаты (1864-1917 гг.).
35. Оп.4.Д. 321. Ф. 78. Московский коммерческий суд. Оп. 23. Д. 18, 32.
36. Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 178. Вологодская палата гражданского суда.
37. Оп. 23. Д. 73,74. Ф. 179. Вологодский окружной суд. Оп.З.Д. 1351;
38. Оп. 5. Д. 30, 111, 113, 140, 188, 206, 225, 258, 267, 286, 328, 458, 489, 533.
39. Ф. 180. Прокурор Вологодского окружного суда. Оп. 16. Д. 17,23,47.
40. Отчеты комиссий помощников и советов присяжных поверенных
41. Отчет комиссии помощников присяжных поверенных округа С.-Петербургской судебной палаты за 1884 г. СПб.: Тип. Л. Бермана и Рабиновича, 1884.- 158 с.
42. Отчет комиссии помощников присяжных поверенных округа С.-Петербургской судебной палаты за 1890 год. СПб.: Тип. Л. Бермана и Рабиновича, 1890. 231 с.
43. Отчет комиссии помощников присяжных поверенных округа С.-Петербургской судебной палаты за 1891 год. СПб.: Тип. Л. Бермана и Рабиновича, 1892. -187 с.
44. Отчет министра юстиции за 1834-1864. год. СПб., 1835-1866. - 213 с.
45. Отчет Московского совета присяжных поверенных за 1882-1883 год. — М.: Тип. А. Мамонтова и К', 1883. 227 с.
46. Отчет Московского совета присяжных поверенных за 1888-1889 г. — М.: Тип. А. Мамонтова и К', 1890. 273 с.
47. Отчет совета присяжных поверенных округа СПб. судебной палаты за 1873—74 год // Журнал гражданского и уголовного права. 1875. - Кн. 6. — С. 254-264.
48. Отчет Московского совета присяжных поверенных за 1889—1890 г. — М.: Тип. Кудрявцева, 1890. 239 с.
49. Отчет Московского совета присяжных поверенных за 1890-1891 г. М.: Тип. Кудрявцева, 1891.-271 с.
50. Отчет совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты за 1879-1880 г. // Юридический вестник. 1880. - Кн. 11. - С. 1-63 (При-лож.)
51. Отчет СПб. совета присяжных поверенных за 11 год, с 25 апреля 1876 г. по 1 мая 1877 г. СПб.: Тип. Артил. журн., 1878. - 179 с.
52. Отчет СПб. совета присяжных поверенных за 22-й год, с 1 марта 1887 по 1 марта 1888 г. — СПб.: Тип. Л. Бермана и Рабиновича, 1888. — 157 с.
53. Отчет СПб. совета присяжных поверенных за 23-й год, с 1 марта 1888 по 1 марта 1889 г. СПб.: Тип. Бермана и Рабиновича, 1889. - 231 с.
54. Отчет СПб. совета присяжных поверенных за 25-й год, по 1 марта 1891 г. СПб.: Тип. Бермана и Рабиновича, 1891. — 191 с.
55. Отчет СПб. совета присяжных поверенных за 26-ой год, с 1 марта 1891 г. по 1 марта 1892 г. СПб.: Тип. Бермана и Рабиновича, 1892. - 212 с.
56. Отчет СПб. совета присяжных поверенных за 28-ой год, с 1 марта 1893 г. по 1 марта 1894 г. — СПб.: Тип. Бермана и Рабиновича, 1894. 273 с.
57. Отчет СПб. совета присяжных поверенных за 38-й год (по 1 марта 1904 г.).-СПб., 1904.-215 с.1. Статистика
58. Сборник статистических сведений по Министерству юстиции за 1884, 1912-1913. год.-СПб., 1887, 1915-1916.
59. Свод статистических сведений по делам уголовным, произведенным в 1881-1913. году.-СПб., 1885-1916.1. Периодические издания1. Журналы
60. Вестник Европы. 1874 -1876, 1909.
61. Восточное обозрение. — 1885.
62. Гражданин. 1872 - 1875,1889.4. Дело.-1868.
63. Журнал гражданского и уголовного права. — 1866, 1875,1891.
64. Журнал Министерства юстиции. 1861, 1865.
65. Одесский вестник. — 1860, 1864.
66. Отечественные записки. 1858, 1874.9. Право. 1914.10. Русская летопись. 1871.11. Русская старина. -1871.
67. Русский вестник. — 1857, 1859.
68. Русский исторический журнал. — 1921.14. Русский мир. — 1862.15. Русское слово. 1860.16. Сын Отечества. — 1861.17. Эпоха.-1864.
69. Юридическая летопись. -1890.
70. Юридический вестник 1860-1861, 1863, 1873, 1878, 1880, 1890.20. Юридический журнал. 1860.-V1. Газеты
71. Варшавские губернские ведомости. — 1877.
72. Голос.-1868, 1874,1875, 1882.
73. Донские областные ведомости. 1872.
74. Киевлянин. 1865,1866, 1880, 1881, 1891.
75. Московские ведомости. 1859, 1862, 1874, 1887, 1889, 1890.
76. Неделя. 1870, 1872-1876, 1886, 1894.27. Новое время.-1883,1890.
77. Новороссийский телеграф. — 1892.29. Новости.-1882, 1890.30. Одесский листок. — 1990.
78. Петербургский листок. 1874.
79. Правительственный Вестник. 1893.33. Русская газета. — 1858.
80. Русские ведомости. 1873, 1876, 1881.
81. СПб. ведомости. 1865, 1866, 1868, 1872, 1892.
82. Судебная газета. 1884, 1885, 1887-1892, 1894.37. Судебные порядки .— 1881.
83. Судебный вестник. 1869- 1871, 1874,1875.
84. Туркестанские ведомости. 1883.
85. Юридическая газета. 1892, 1894.41. Южный край. 1881.
86. Диссертации на соискание ученой степени
87. Мерзлякова JI.B. Чиновничество в Вятской губернии первой половины XX века: (Опыт социально-политической характеристики): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ижевск, 1997.-22 с.
88. Камкин А.В. Традиционные крестьянские сообщества европейского севера России в XVIII веке. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. — М., 1993. — 440 с.1. Справочная литература
89. Адвокаты и общественное мнение // Неделя. 1872. 12 февраля.
90. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. 8-е издание. — М.: Русский язык, 1995. 673 с.
91. Большой толковый словарь русского языка. Под ред. С.А. Кузнецова. — М.: Азъ, 1998.-1123 с.
92. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 томах. — Т. 4. М.: Русский язык, 1998. - 911 с.
93. Ланганс Ф. Словарь юридической, или Свод российских узаконений, по азбучному порядку для практического употребления Императоргского Московского университета в Юридическом факультете, сочиненный Ф. Лангансом. — М.: Тип., у Н. Новикова, 1788. 893 с.I
94. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. 5-е изд., стереотип. — М.: Русский язык, 1998. 953 с.
95. Малый энциклопедический словарь. Том II, вып. IV-й. Почва-Vecorn». Изд. П-е. Издание Брокгаузъ-Ефронъ, 1909 г. — 739 с.
96. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Азъ, 1994. -978 с.
97. Поворинский А. Систематический указатель русской литературы по судоустройству и судопроизводству, гражданскому и уголовному. СПб.: Тип. ПЛ. Сойкина, 1896. - 732 с.
98. Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Часть VI. От «С» до конца. — СПб., 1822. — 651 с.12^ Словарь синонимов русского языка. В 2 томах. — JL: Академия наук СССР. Институт русского языка, 1970. — Том I (А-Н). 817 с.
99. Словарь современного русского литературного языка. В 17 томах. — М.; JI., Том семнадцатый. - 1965. - 837 с.
100. Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. СПб., 1847. - Том VI. - 912 с."
101. Справочный словарь орфографический, этимологический и толковый русского литературного языка / Под. Ред. А.Н.Чудинова. СПб.: Тип. 77.77. Сойкина, 1901.— 678 с.
102. Срезневский 77.77. Материалы для словаря древнерусского языка. — Спб.: Тип. П.П. Сойкина, 1893-1912. -Т. III. 718 с.
103. Судебные уставы Императора Александра Второго с законодательными мотивами и разъяснениями. Устав уголовного судопроизводства. / Под. ред. Щегловитова С.Г. — Спб. Тип. Кудрявцева, 1913. — 632 с.
104. Толковый словарь русского языка. Главная редакция проф. Б.М.Волин, проф. Д.77. Ушаков. В IV томах. М.: Русский язык, 1940. — Том IV. — 658 с.
105. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1975. 654 с.1. Литература
106. Александров В.А. Обычное право крепостной деревни России XVIII- начала XIX вв. — М.: Древлехранилище, 1984. — 232 с.
107. Александров В.А. Отечественная наука XIX начала XX века об обычном праве в России // Социально-политическое и правовое положение крестьянства в дореволюционной России. Воронеж: ВГУ, 1983. - С.6-18.
108. Арсенъев К.К. Заметки о русской адвокатуре. Обзор деятельности С.-Петербургского совета присяжных поверенных за 1866-1874 г.г. — СПб.: Изд. юрид. кн. маг. И.К. Мартынова, 1875. 432 с.
109. Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1962-1976 гг.). -М.: Древлехранилище, 1978. 378 с.
110. Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности//Душа России. М., 1918.-С.,231-298.
111. Берман Я.Л. Статистика адвокатуры // История русской адвокатуры. Том второй. Сословная организация адвокатуры. 1864-1914. / Под ред. М.Н.Гернета. М.: Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1916. - С. 186-214.
112. Блок Марк. Короли — чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии // Школа «Языки русской культуры». — М., 1998. — 712 с.
113. Бородин Д.Н. Исторический очерк русской адвокатуры (к 50-летию присяжной адвокатуры). 20 ноября 1864 г. 20 ноября 1914 г. - Петроград, 1915.-127 с.
114. Бронзов А.А. Белозерское духовное училище за сто лет его существования (1809-1909 г.г.). Сергиев Посад, 1909. - Том 1. - 437с.
115. Балерин Вл. Волчья стая. Записки члена коллегии защитников. — М.: Советское законодательство. — 1931. 276 с.
116. Васъковский Е. Будущее русской адвокатуры. К вопросу о предстоящей реформе. Изд. юридич. кн. маг. Н. К. Мартынова. — СПб.: Тип. Контраген-ства ж. дор., 1893. 37 с.
117. Васъковский Е. В. Организация адвокатуры: Ист.-догмат. исслед. В 2-х ч. СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1893. - 736 с.
118. Васъковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики. — СПб., 1895. -76 с.
119. Вернадский Г.В. История права. СПб.: СПб Университет, 1999. — 97с.
120. Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М.: Казённая железнодорожная типография Московского узла, 1911. 397 с.
121. Вильский Н. Деморализуется ли наша адвокатура ? // Журнал гражданского и уголовного права. — 1891. — Кн. 1. — С. 53-76.
122. Винавер М. Очерки об адвокатуре. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1902.-276 с.
123. Владгширский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд. 3 с дополнениями. Киев. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1900. - 532 с.
124. Гессен И.В. Судебная реформа. — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1905. -398 с.
125. Гребенщиков М. Заметки. Задачи адвокатуры // Журнал гражданского и уголовного права. — 1866. — Кн. 5. С.1-23.
126. Греков Б.Д. Киевская Русь. М.: Древлехранилище, 1953. — 315 с.
127. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. Учебник / Вступит, статья А.Зорина. М.: Аспект Пресс, 1998.
128. Депп Н. О значении адвокатов в гражданском процессе // Журнал Министерства юстиции. 1861. - Т. 10. - кн. 12. - С. 423-444.
129. Джаншиев Гр. Ведение неправых дел (этюд по адвокатской этике).- М.: Тип. Я. 77. Сойкина, 1886. 246 с.
130. Дмитриев Ф. История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до учреждения о губерниях. — М.: Тип. П. П. Сойкина, 1859. 314.
131. Домбровский В.Ф. Вопросы адвокатской этики. — Вильна: тип. А. Ко-невского, 1891. — 274 с.
132. Достоевский Ф.М. Дневник писателя // Достоевский Ф.М. Полное собрание художественных произведений. М.; - JX, - 1929. — Т. 11.
133. Ефименко А.Я. Исследования народной жизни. Вып. 1. Обычное право.- М., 1884.-315 с.
134. Ефименко П.С. Сборник народных юридических обычаев Архангельской губернии. Архангельск, 1869. - 475 с.
135. Жасминов Алексис граф Буренин В.П. Очерки и пародии. 2-е изд. — СПб.,-1895.
136. Загибенин С. Поверенные по делам // Юридический журнал. — 1860. — Кн.4. — С.107-113.
137. Зимин А.А. Правда Русская. М.: Древлехранилище, 1999. — 378 с.
138. Ильинский В. Адвокат против адвокатуры. — СПб.: Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1894. 215 с.
139. История адвокатуры в России: присяжная адвокатура по Судебным Уставам 1864 г. (1864-1917 гг.) Указатель литературы. Сост. С.Н.Гаврилов, Н.Н. Фарутина. Вологда: ВГПИ, 2000. - 87 с.
140. История русской адвокатуры / Изд. советов присяж. поверенных. В 3 томах. — М.: Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1914-1916.
141. История русской адвокатуры. Том первый. Гессен КВ. / Сост. С.Н.Гаврилов. М.: «Юристь», 1997. - 392 с.
142. Камкин А.В. Крестьянское правосознание и правотворчество по материалам второй половины XVIII века. // Социально-правовое положение северного крестьянства (досоветский период). Вологда: ВГПУ, 1981. - С.40-54.
143. Камкин А.В. Традиционные крестьянские сообщества европейского севера России в XVIII веке. Дисс. д. ист. н. - М., 1993.
144. Капнист В.В. Ябеда (комедия в пяти действиях) // Русская литература последней четверти XVIII века. Хрестоматия. / Сост. В.А.Западов. — М.: Русская литература, 1985. С.270-281.
145. Кельманович М.Д. Адвокатская этика и разные юридические заметки частного поверенного. — Кишинёв: Тип. А. Горянского, 1906. — 387 с.
146. Кистяковский Б. В защиту права / Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. - С. 78 - 92.
147. Короленко В.Г. История моего современника. — М.: Русская литература,-1965.
148. Котляревский П. Русская адвокатура и закон: Очерк судоустройства. -Киев: Тип. штаба Киевского воен. округа, 1905. — 237 с.
149. Кроткое. Волчье стадо: Записки провинциального адвоката: Сцены и картины сельского суда / Изд. Земского. — М.: Тип. Кудрявцева, 1875. — 312 с.
150. Кузьмин-Караваев В.Д. Земство и деревня (1898-1903). Статьи, рефераты, доклады и речи. СПб.: Тип. П. П. Сойкина, —1904. — 411 с.
151. Куницын А. Историческое изображение древнего судопроизводства в России. СПб., 1843. - 318 с.
152. Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи: (XVIII XIX вв.). - СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1909. - 387 с.
153. Леонтьев А.А. Волостной суд и юридические обычаи крестьян. — СПб., 1895.-411 с.
154. Мануйлов В.А., Холшевникова Е.В. О романе «Дубровский» // Пушкин А.С. Дубровский. -М.: Художественная литература, 1973.
155. Маньков А.Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. СПб.: СПбГУ, 1998. - 318 с.
156. Марков А. Правила адвокатской профессии в России: Опыт систем, пост, советов присяж. поверенных по вопросам профессиональной этики. — М.: Издательство Совета присяжных поверенных, 1913. —543 с.
157. Минаев Д. Не в бровь, а в глаз. СПб.: Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, — 1883. — 321 с.
158. Мировосприятие и самосознание русского общества (XI XX вв.). -М.: Мысль, 1994. - 457 с.
159. Миронов Б.Н. Социальная история России периода Империи (XVIII — начало XX в.) Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 томах. — СПб.: Древлехранилище, 1999. — Том 1. —736 с.
160. Невядомский Д. Вечные вопросы адвокатуры (по поводу «Этюда по адвокатской этики» Гр.Джаншиева), -М.: Тип. Кудрявцева, 1886. — 143 с.
161. Обзор истории русского права профессора М.Ф. Владимирского-Буданова. СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1888. - 342 с.
162. Обнинский П.Н. Адвокатура / Закон и быт. Выпуск I. М.: Тип. Кудрявцева, 1891. - С. 162-312.
163. Олеарий А. Подробное описание Голштинскаго посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем посольства Адамом Олеарием. М.: Тип. Кудрявцева, 1870. — 318 с.
164. Ольминский М. По вопросам литературы. Статьи 1900-1914 гг. — JI.: «Прибой», 1926.
165. Орлова Г.И. Бюрократическая реальность // Общественные науки и со- временность. 1999. № 6. - С. 98-106.
166. О словесном судопроизводстве в России // Русский вестник. — 1857. — № 17. С.32-37.
167. Палъховский А. М. О праве представительства на суде. — М.: Тип. Ф. Иогансона, 1876. 432 с.
168. Пахман С.В. Обычное гражданское право в России. — СПб: Изд. юрид. кн. маг. Н.К Мартынова, 1877. 379 с.
169. Пахман С.В. Обычное гражданское право в России: юридические очерки. СПб.: Тип. И П. Сойкина , 1879. - 432 с.
170. Писемский А.Ф. Ваал // Писемский А.Ф.Собрание сочинений. В 9 т. -М.: Художественная литература, 1959. — Т.9. — 546 с.
171. Петрулан М.Х. Частная сельская адвокатура в Северо-Западном крае. -Вильна, 1891.-218 с.
172. Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры. — М., 1915. — 178 с.
173. Правиков Ф.Д. Памятник из законов, руководствующий к познанию их; собранный по азбучному порядку трудами сенатского переводчика Федора Правикова. Часть 1. Москва, 1803 г. — 789 с.
174. Птицын В. Адвокат за адвокатуру. Ответ на брошюру В.Ильинского «Адвокат против адвокатуры». СПб.: Тип. 77. 77. Сойкина, 1895. - 153 с.
175. Птицын В.В. Древние адвокаты и наши присяжные цицероны. — СПб.: Тип. И П. Сойкина, 1894. 353 с.
176. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 томах. / Под общей редакцией О.И.Чистякова. Том 1 .Законодательство Древней Руси. — М.: Наука, 1991.7А. Лохвицкий А.В. О наших ходатаях по делам // Русское Слово. — 1860. — №2.-С.44-45.
177. Ручная книга о правах и обязанностях тяжущихся, по части делопроизводства апелляционным порядком. -М.: Тип. С. Селивановского, 1808.
178. Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в десяти томах. — М.: Художественная литература, 1988. Том 10. - 653 с.
179. Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. М.: Древлехранилище, 1988.—315с.
180. Сергеевич В. Лекции и исследования по древней истории русского права. Второе издание дополненное. — СПб.: Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1899. -397 с.
181. Случевский Вл. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство. Судопроизводство. 3-е изд., передел, и доп. СПб.: Тип. М. М. Стасюлеви-ча, 1910. -297 с.
182. Смирнов В.Н., P.P. Усманов P.P. История адвокатуры среднего урала. — Екатеринбург: Гуманитарный университет, 1999. — 356 с.
183. Соловьев Е.Т. Гражданское право. Очерки истории народного юридического быта. Вып I. Казань, 1888. - 379 с.
184. Столичная адвокатура. Наброски С. — М.: Тип. 77. 77. Сойкина, 1895. — 431 с.
185. С.-Петербургская присяжная адвокатура: Деятельность С.-Петербургских совета и общих собраний присяжных поверенных за 22 года (1866-1888 гг.) / сост. присяж. поверенный 77. В. Макалинский. — СПб.: Тип. Н. А. Лебедева, 1889. 531 с.
186. Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет. В 2 томах. Птг., 1914.-329 с.
187. Татищев В.Н. История Российская: В 7 томах — Л.: Наука, 1968. Том 7. -436 с.
188. Тенишев В.В. Правосудие в русском крестьянском быту. Брянск, 1907. -219 с.
189. Тихомиров М.Н., Епифанов 77.77. Соборное уложение 1649 года. — М.: Наука, 1961.-478 с.
190. ЪЪ.Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы 1866-1904 гг. Тула: Автограф, 2000. - 479 с.
191. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1-2. — СПб.: Тип. Т-ва "Обществ, польза", 1912. 713 с.
192. Френкель А. К вопросу о сравнительном изучении сущности судебной защиты и её этики. Приложение к протоколу кавказского юридического общества № 8.-1889.-С. 1-34.
193. Черкасова Н.В. Формирование и развитие адвокатуры в России (60-80-е годы XIX в.). — М.: Юридическая литература, 1987. 218 с.
194. Юшков С.В. Судебник 1497 г. (к внешней истории памятника) // Серафим Владимирович Юшков. Труды выдающихся юристов. М.: Юридическая литература, 1989.-273 с.