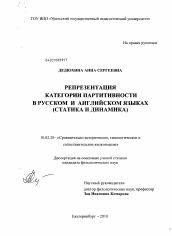автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.20
диссертация на тему: Репрезентация категории партитивности в русском и английском языках
Полный текст автореферата диссертации по теме "Репрезентация категории партитивности в русском и английском языках"
На правах рукописи
ДЕДЮХИНА Анна Сергеевна
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ ПАРТИТИВНОСТИ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ (СТАТИКА И ДИНАМИКА)
10.02.20 - «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание»
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
о*НЬЫЬ374
Екатеринбург - 2010
004606374
Работа выполнена в ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»
Научный руководитель:
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор
Комарова Зоя Ивановна
доктор филологических наук, профессор
Халина Наталия Васильевна
кандидат филологических наук, профессор
Скворцов Олег Георгиевич
Ведущая организация: ГОУ ВПО «Пермский
государственный университет»
Защита состоится 25 июня в 14 чадов на заседании диссертационного совета Д 212.283.02 при ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» по адресу: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, ауд. 316.
С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале научной библиотеки Уральского государственного педагогического университета. Текст автореферата размещен на сайте www.uspu.ru.
Автореферат разослан «20» мая 2010 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
Пирогов Н. А.
Общая характеристика работы
Реферируемая диссертация посвящена сопоставительному изучению категории партитивности в системно-категориальном (языковом) и конкретно-смысловом (речевом, дискурсивном) аспектах, при синтезе функционально-семантического и когнитивно-дискурсивного направлений современного языкознания, с учетом принципов постнеклассической эпистемологии и идеологии корпусной лингвистики.
Вопрос изучения мыслительной основы языковых структур и их речевых реализаций рассматривается в современной лингвистической парадигме в качестве одного из важнейших. В этой связи особо актуальными становятся исследования в рамках контрастивной лингвистики - области языкознания, ориентированной на сопоставительный анализ генезиса, развития и функционирования языковых построений в плане их обусловленности ментальным субстратом, важнейшей составляющей которого являются дискретные элементы сознания - концепты (понятия), которые способны группироваться в сложные структуры, называемые понятийными категориями, которые восходят к трактату Аристотеля «Категории» [Аристотель 1939]. Значимость категорий подчеркивают многие ученые разных областей знания: «Исключительная ценность этого понятия для всех наук и научного мышления не может быть поставлена под сомнение» [КСКТ 1997: 45]. В связи с этим ценным представляется изучение категорий (понятийных и языковых), учитывая их более чем двухтысячелетнюю вписанность в эволюцию культуры.
Особое место среди категорий занимает категория партитивности. Эта понятийная категория, как правило, характеризуется авторами [Есперсен 1958; Бодуэн де Куртене 1963; Ильин 1972; Холодович 1979; Реформатский 1960; Исаченко 1961; Панфилов 1977; Швачко 1981; Акуленко 1990; Чеснокова 1992; Жаботинская 1992; Копыленко 1993; Бондарко 1996; Никитин 2007 и др.] в её соотношении с языковой категорией, которая трактуется и как универсально -лингвистическая, связанная во всех языках мира с одной из неотъемлемых сторон бытия, и как «тотальная», «принадлежащая всем сторонам знаковой системы языка» [Витгенштейн 1985: 114], «пронизывающая всю систему языка: и его лексику, и его грамматику» [Панфилов 1977: 164]. Более того, Н.Ф. Алефиренко утверждает, что «противоборство процессов интеграции и дифференциации в структуре целого - главный стимул развития языковых инноваций» [Алефиренко 2009:96].
Важность рассмотрения категории партитивности обусловлена тем, что:
1) данная категория играет опосредованную роль при установлении отношений между явлениями действительности, с одной стороны, и категориями языка - с другой;
2) она выполняет функции структурирования элементов сознания, квантования и определённой систематизации мыслительных единиц, что готовит почву для последующего перевода их в сферу языка;
3) она носит универсальный характер, что объясняется её детерминированностью реальной действительностью и логическим строем человеческого мышления, принципиально общим для всех людей [Худяков 1991:158].
Когнитивный подход учитывает процесс восприятия человеком окружающего мира и формирование на этой основе концептуальной картины мира. Последняя проецируется на лексическую систему, т.е. принцип антропоцентризма позволяет представить систему языка через восприятие человека, в том числе и через изучаемую нами категорию.
Приступив к лингвистическому исследованию категории партитивности, мы отталкивались от факта, что язык отражает, конструирует объективную действительность, а в объективной действительности все предметы и явления находятся в определённых связях и отношениях: «В любом познавательном процессе выявляются две его стороны: статическая, отражающая определенные результаты (знания), идинамическая, связанная с самими мыслительными операциями, ведущими к достижению этих знаний, а также направленными на их интерпретацию или переосмысление» [Болдырев 2006: 8]. Данную точку зрения поддерживают такие лингвисты, как Б.А. Успенский (2004), Н.Ф. Алефиренко (2009), С.Е. Никитина (2010). В связи с этим в нашей работе категория партитивности исследуется в этих двух аспектах.
Категория партитивности изучается в лингвистике с середины XIX века (Э. Гуссерль, Э. Нагель, Ч. Пирс, Э.Сепир, Г. Фреге), однако и сегодня много исследований посвящается её изучению (JI.B. Глобина, ОБ. Горбунов, СБ. Киселева, ЛБ. Никишна, НА Седова, R Chaffin, D. Douglas, В. Smith, A.C. Varzi, M. E. Winston).
Так, И.В. Арнольд, 1969; А.И. Варшавская, 1984; В.Б. Касевич, 1988; M.B. Никитин, 2006; R. Jakobson, 1963; J. Lyons, 1965 констатируют недостаточную исследованность отношения между частью и целым, как в онтологическом, так и в эпистемическом и языковом планах, в то время как именно партитивные отношения играют важнейшую роль, как в языке, так и в мышлении, отражающем реальные связи в мире вещей [Никитин 2006].
Несмотря на приоритетность изучения категории партитивности, на сегодняшний день сведения о ней носят фрагментарный характер, в результате чего не разработаны теория концептуализации категории партитивности и её вербализация в языках, поэтому решение данной проблемы, безусловно, является актуальным.
Итак, актуальность исследования обусловлена рядом факторов:
• отсутствием теории концептуализации категории партитивности и её вербализации в языках;
• в лингвистическом общеграмматическом аспекте - необходимостью категориального подхода, так как «грамматика становится наукой сегодняшнего дня, если её изучать от категории к знаку» [Мигирин 2002: 234] в плане прогнозного знания [Алефиренко 2009: 32];
• в общетеоретическом плане - необходимостью разработки теории партитивности для проникновения в сущность языка, поскольку именно через категории реализуется «миросозидающая функция языка» [Кубрякова 2009];
• в типолого-сопоставительном аспекте - необходимостью выявления этнолингвистических особенностей концептуализации категорий, поскольку, как указывает, крупный типолог У. Лабов: «в самом общем плане иссле-
дование языка можно определить как исследование категорий, выраженных в языке» [Лабов 1983: 138];
• в общенаучном плане - необходимостью накопления знаний при категориальном изучении языков для создания общечеловеческого когнитивно-семантического континуума [Манакин 1994; Налимов 2003; Чебанов 2008];
• в семиотическом плане - для уточнения места естественного человеческого языка (в его категориях) в семантической шкале естественных и искусственных языков [Налимов 2003 : 274] и «едином семиотическом континууме» [Мечковская 2004: 392].
Актуальность темы обусловила объект исследования. Объектом данного диссертационного исследования является категория партитивности в русском и английском языках.
Предмет исследования - концептуализация категории партитивности и её вербализация в русском и английском языках (в статике и динамике).
Целью диссертации является когнитивно - дискурсивное моделирование категории партитивности в сопоставляемых языках (в статике и динамике).
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Создать методологию когнитивно-дискурсивного моделирования категории партитивности в русском и английском языках в свете современных логико-философских и лингвистических воззрений.
2. Разработать понятийно-терминологический аппарат исследования.
3. Выделить корпус партитивных существительных и партитивных глагольных предикатов, репрезентирующих категорию партитивности в статике и динамике в сопоставляемых языках.
4. Выявить концептуальные смыслы категории партитивности в сопоставляемых языках и описать их на основе функционально-семантических полей (ФСП) в аспектах статики (фрагмент предметной картины мира) и динамики (фрагмент процессуально-событийной картины мира).
5. Определить степень когнитивной выделенности прототипических партитивных смыслов в сопоставляемых языках.
6. При описании концешуализации категории партитивности уточнить механизмы (когнитивные процессы) создания определенных партитивных смыслов.
7. Выявить особенности вербализации категории партитивности в сопоставляемых языках.
Методология исследования сложилась под влиянием достижений
отечественных и зарубежных лингвистов в следующих направлениях:
• антропоцентризм языка, связь языка и мышления (В. фон Гумбольдт, JI.C. Выготский, A.A. Леонтьев, A.A. Потебня, Б.А. Серебренников и др.),
По образному выражению A.M. Пешковского, имя существительное и глагол - «это своего рода основание планеты нашей языковой солнечной системы» [Пешковский 1956: 132]. Значимость существительного (имени) и глагола как когнитивно-дискурсивных категорий обоснована Е.С. Кубряковой [Кубрякова 2004].
• фундаментальные исследования понятийных и языковых категорий (А. В. Бондарко, Л.В. Васильев, Л. Ельмслев, О. Есперсен, С.Н. Кацнельсон, И.И. Мещанинов, Н.А. Кобрина, Г. Пауль, Л. Чейф, Дж. Лакофф и др.);
• изучение языковой категории количества (В.В. Акуленко, А.В. Бондарко, Л.А. Запевалова, А.В. Исаченко, З.И. Комарова, М.М. Копыленко, В.А. Холодович, С.А. Швачко, С.А. Яновская; Otto Jespersen, Е. Sapir и др.);
• языковое отражение важнейших философских категорий «части» и «целого» (В.М. Алпатов, А. Вежбицкая, М.В. Никитин, Б.А. Серебренников, Р. Якобсон, R. Chaffrn, W. Hage, D. Herrman, H. Kolb, F. Moltmann, G. Schreiber, P. Simons, A. C. Varzi, M. Winston);
• концепция когнитивной лингвистики (Н.Ф. Алефиренко, Л.Г. Бабенко, А.Н. Баранов, Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянов, Д.О. Добровольский, З.И. Комарова, А.В. Кравченко, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, Е.В. Рахилина, И.А. Дж. Серл, Стернин, Ф. Растье, Р.М. Фрумкина, Л.О. Черненко, А.П. Чудинов; F. Ungerer, H.-J. Schmid, Th. Janssen, G. Redeker, L. Talmy, R.W. Langacker, G. Fauconnier, M. Johnson);
• соотношение языковой и концептуальной картины мира (Н.А. Арутюнова, Э. Бенвенист, Р.А. Будагов, Ю.Н. Караулов, В.В. Колесов, Б.А. Серебренников, М.П. Одинцова, Д.Н. Шмелев);
• полевой подход к языку (Н.В. Артемова, И. А. Бодуэн де Куртене, Г. Ипсен, Ю.Н. Караулов, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ф. де Соссюр, Л.Д. Чеснокова, Е.И. Шендельс, Г.С. Щур и др.).
• теория узуса (Дж. Байби, Т. Гивон, К. Крофт, С. Томпсон, Р. Лангакр; Я.Г. Тестелец, Е.С. Кубрякова, А.Е. Кибрик и др.);
• корпусная лингвистика (Н.Ф. Алефиренко, А.Н. Баранов, Н.Б. Гвишиани, О.Ю. Герви, А.П. Ершов, А.Е. Кибрик, О.Н. Ляшевская, Ю.Н. Марчук, А.Н. Молдаван, Н.В. Перцов, В.А. Плунгян, Т.И. Резникова, С.Д. Шелов и др.). Методы исследования. Учитывая универсальность категории
партитивности и её синкретичную природу, мы используем в работе комплекс синхронных методов, методик и приемов анализа.
В качестве основного метода используется сопоставительный. Для решения ряда конкретных задач используются, во-первых, общенаучные методы: индукции и дедукции, анализа и синтеза, сравнения, классификации и др.; во-вторых, частнонаучные: лингвистические. Так, для раскрытия семантики партитивных существительных и предикатов партитивной семантики используется методика компонентного анализа в её дефиниционной разновидности; для структурирования языковых единиц и средств формализации категории -полевая методика (ФСП); методика ассоциативного эксперимента для изучения у-генетива партитивов; для выявления партитивных смыслов в конкретно-речевом аспекте - дискурсивный анализ. Комплексное рассмотрение анализируемой категории базируется на когнитивно-дискурсивном моделировании и использовании ряда когнитивных процедур (механизмов) концептуализации категории; количественная обработка полученных материалов проводится на
базе статистических (частотных) методик, что позволяет определить степень когнитивной выделенности партитивных смыслов категории, и, наконец, используется метод лингвистической интерпретации полученных результатов исследований.
Эмпирическая база включает два типа источников:
1) для анализа категории партитивности в сопоставляемых языках в системно - категориальном (языковом) аспекте - словари и справочники, грамматики современного русского и английского языков;
2) для анализа категории партитивности в сопоставляемых языках в конкретно - смысловом (речевом, дискурсивном) аспекте -«Национальный корпус русского языка» [Электронный ресурс, режим доступа www.ruscorpora.ru] и «Британский национальный корпус» [Электронный ресурс, режим доступа: www.http://sara.natcorp.ox.ac.uk]. которые позволяют полно представить исследуемую категорию, так как насчитывают около 150 млн. словоупотреблений.
Материалом исследования являются высказывания с партитивными существительными и партитивными глагольными предикатами, извлеченные сплошной выборкой из национальных корпусов русского и английского языков.
В нашем исследовании использовано 100 тысяч контекстов (высказываний) в равных количествах по языкам.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые категория партитивности изучается с позиции синтеза функционально-семантической и когнитивно-дискурсивной парадигм в аспекте статики и динамики, что позволило впервые выделить концептуальные смыслы партитивности, актуализированные в дискурсах, и выявить средства их вербализации в сопоставляемых языках, а также раскрыть когнитивные механизмы концептуализации данной категории.
Всё это дает возможность показать конструирование «мира в целом» через «языковое существование человека» [Халина 2009] сквозь призму категории партитивности.
Теоретическое значение работы состоит в том, что создание основ теории концептуализации категории партитивности в русском и английском языках расширяет наши представления по всем проблемам, обозначенным в обосновании актуальности данного исследования (см. с. 2-3), и вносит вклад в решение кардинальной проблемы: категория и язык, а в современной формулировке проблемы: действительность - язык - речь (дискурс) -мышление - знание.
Практическая значимость исследования связана с возможностью использования результатов исследования в практике преподавания языковых дисциплин: лекционные курсы по общему и сопоставительному языкознанию, теории грамматики (особенно при изучении разделов функциональной грамматики и семантического синтаксиса), по лексикологии и когнитивной лингвистике; практическим курсам русского и английского языков. Материалы исследования могут быть полезны в лексикографической (одно- и двуязычной) и переводческой деятельности.
Концептуальные идеи диссертации отражены в следующих положениях, выносимых на защиту:
1. Первичным концептуальным фоном нашего исследования является понимание категории как основного формата знания, исходя из того, что все знания о мире хранятся в нашем сознании в категориальной форме и все входящие в картину мира объекты категоризованы, в связи с чем, категория партитивности является универсальной и «тотальной» языковой категорией.
2. В системно-категориальном (языковом) аспекте семантическая структура категории партитивности в русском и английском языках представляет собой сложное взаимодействие трех базовых категориально семантических компонентов: предметности, квантитативности и определенности/неопределенности, что является результатом языковой интерпретации соответствующей понятийной категории и в значительной мере определяет способы и модели семантизации категории партитивности в конкретно-смысловом аспекте.
3. Основные прототипические смыслы категории партитивности, актуализированные в дискурсе, - часть и целое, часть целого, часть внутри целого, часть вне целого, а также их модифика-ционные смыслы в дискурсах - в русском и английском языках концептуально изоморфны, различаясь в основном способами вербализации. Средства выражения рассматриваемых смыслов охватывают морфо-семантический, лексико-семантический и лексико-грамма-тический уровни, различаясь господствующими способами выражения партитивности.
4. Формирование категории партитивности базируется на 19 основных универсальных когнитивных механизмах. Квантификация и материализация являются господствующими когнитивными процессами создания партитивных смыслов- в статике, а в динамике - фрагментация, генерализация, элиминация и метафоризация.
5. В формировании когнитивно-дискурсивной категории партитивности участвуют как грамматическая (собственно языковая), так и лексическая (аналоговая) концептуализация, а также частично - модус на я. При этом лексический прототип имеет инвариантно-вариативную природу.
Апробация работы. Концепция исследования обсуждалась на заседаниях кафедры теоретической и прикладной лингвистики Уральского государственного педагогического университета (февраль 2008, март 2010). Основные результаты диссертационного исследования освещались в докладах на международных конференциях в г. Москве (2009), г. Шадринске (2009), г. Челябинске (2009), на III Всероссийской научно-практической конференции г. Ульяновске (2008), на ежегодных региональных конференциях «Актуальные проблемы лингвистики» и «Язык и Культура» в г. Екатеринбурге (2007, 2008, 2009,2010).
По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе одна статья в рецензируемом научном издании, включенном в реестр ВАК МОиН РФ.
Структура диссертации отражает основные этапы и логику предпринятого исследования: работа состоит из введения, трех глав с выводами, заключения, списка литературы (211 источников, 38 словарей и справочников).
Основной текст диссертации составляет 169 страниц, включает 7 схем, 8 таблиц и 7 приложений. В приложениях 1-2 приводятся списки партитивных существительных в русском и английском языках; в приложениях 3-4 -репертуары предикатов партитивной семантики концептуальной сферы «Разделение» в анализируемых языках; в приложениях 5-6 - репертуары предикатов партитивной семантики концептуальной сферы «Объединение» в сопоставляемых языках; в приложении 7 дается анкета для проведения лингвистического эксперимента.
Основное содержание работы
Во Введении обосновывается актуальность избранной темы; определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость и перечисляются использованные методы; излагаются положения, выносимые на защиту; сообщаются сведения об апробации работы и её структура.
В первой главе «Категория партитивности в свете современных логико-философских и лингвистических воззрений» излагаются теоретические основы изучения категории партитивности в русском и английском языках.
Идея часть-целое сыграла непреходящую роль в эволюции человека и общества. Эта идея — самая рациональная в познании, освоении и преобразовании мира. Она пронизывает все без исключения сферы жизни человека и общества. В культуре и искусстве она связана с гармонией: («гармония - ....соразмерное отношение частей целого» [Даль 1981: 326]), симметрией, соразмерностью и поэтому эстетикой, например: золотое сечение, ритм, мелодия, такт, размер...
Категория - продукт работы человеческого сознания, мышления при познании окружающего мира, результат освоения мира, представляющий собой обобщение данных опыта. Результаты познавательной и классифицирующей деятельности человека находят свое выражение в языке, то есть часть -целое, как сущность онтологического или гносеологического плана, преломляется в сознании человека и выражается единицами языка.
Данную идею субъект в процессе познавательной деятельности облекает в языковую форму. Признание тесного взаимодействия мышления и языка в рамках единого речемыслительного процесса побуждает обратиться к рассмотрению имеющихся концепций общенаучного мыслительного понятия количества в философии, логике, теории математики и лингвистике, что позволяет нам уточнить необходимые для исследования понятия, сформулировать методологию и методику исследования для выявления сущности изучаемой категории.
Анализ логико-философских и теоретико-математических концепций количества позволяет утверждать, что в семантике языковых квантитативных
построений может быть отражен тотально-партитивный тип когнитивно-психологических структур отражения количества.
Термин категория восходит к греческому слову «katnyopia», обозначающему «высказывание», «суждение». Он введен Аристотелем и употребляется в первую очередь в философии. Понятийные категории - это «формы осознания в понятиях всеобщих способов отношения человека к миру, отражающие наиболее общие и существенные свойства, законы природы, обстоятельства и мышления» [ФС 2001: 237]. «Category, in logic, a term used to denote the several most general or highest types of thought forms or entities, or to denote any distinction such that, if a form or entity belonging to one category is substituted into a statement in place of one belonging to another, a nonsensical assertion must resuit» [Britannica 1985: 949].
Основные положения методологии данного исследования обобщим в виде следующих принципов:
1) антропоцентризм;
2) синтез ономасиологического (как «предкогнитивного», по словам Е.С. Кубряковой) и семасиологического подходов;
3) синтез теории функционально-семантических полей (ФСП) и когнитивно-дискурсивного подхода;
4) синтез системно-категориального и конкретно-смыслового подходов;
5) анализ категории партитивности в статике (фрагмент предметной картины мира) и динамике (фрагмент процессуально-событийной картины мира);
6) из трёх трактовок языковых категорий в современной лингвистике: структурной (принцип оппозиций); функциональной (полевой) икогнитивной (прототипической) [Болдырев 2006: 6] -избираем синтез двух последних;
7) исходя из постулата когнитивной лингвистики о знании как её центральной категории [Маслова 2004: 8], изучаемую категорию партитивности осмысляем как особый формат знания, под которым понимается «определенная форма или способ представления знаний на мыслительном или языковом уровне» [Болдырев 2006: 5, Терминология и знание 2007: 8];
8) современная постнеклассическая эпистемология и гносеология [Лекторский 2001; Канке 2008; Кохановский 2008];
9) исходя из того, что в наши дни в отечественной и мировой лингвистике «намечаются контуры новой модели языка, которая в ряде существенных отношений отличается от привычных моделей,
Категория (в логике) — термин, который используется для обозначения нескольких главных, высших форм мышления или бытия или для обозначения любой отличительной особенности, причем замещение одной формы мышления или бытия на другую приведет к абсурдному суждению. [Британника 1985: 949].
сложившихся в последней четверти XX века» [Плунгян 2008: 9], принимаем принципы и постулаты идеологии корпусной лингвистики.
Во второй главе «Концептуализация категории партитиености в русском и английском языках: статический аспект» решаются две взаимосвязанные задачи. Первая состоит в выявлении когнитивно-семантической структуры языковой категории партитивности в ее статическом компоненте, и на её базе решается вторая задача, состоящая в исследовании манифестации квантитативных смыслов партитивности в сопоставляемых языках в его статической составляющей (на материале категории имени существительного). В целом проводится концептуализация категории партитивности в сопоставляемых языках (фрагмент предметной картины мира).
Внутренняя дискретность целого как продукт человеческого мышления становится признаком любого объекта, а расчленение объекта как ментальная операция становится основным принципом человеческого мировосприятия. Концептуализация объективной реальности посредством категории партитивности является для человеческого сознания внутренней потребностью, внутренним психическим законом сознания, который ставит мироощущение сложности во главу интерпретации всех вещей.
Этапы развития восприятия и понимания древним человеком окружающей действительности, приведшие к возникновению различных словесных наименований, отражающих количественные отношения, схематически можно показать следующим образом: «'целая (двуединая)' вещь =>'расчлененная' => 'отдельные части'/'совокупность двух частей' => числа 'один/два'» [Таранец 1998: 234-235]. Образ части на начальных этапах осмысления мира обладал признаком отдельности и, соответственно, являлся отдельным предметом категоризации.
Данное отношение характеризует отделенную от целого часть, которая состоит из той же материи, что и целое, и в зависимости от типа субстанции может подходить ему по форме. Отторженная от целого часть, теперь физически автономная, напоминала человеку о бывшей принадлежности конкретному целому общностью с ним своей субстанции. Так сформировалось представление о части, главным признаком которой была её отчлененность. Это подтверждается мнением A.A. Потебни, который при описании внутренней формы слова часть, указывает на его славянскую основу и говорит, что оно означало нечто отрезанное [Потебня 2000: 357].
Важно отметить, что визуализация части в пределах целого есть мысленное разделение этого целого на составляющие элементы. Места фокусирования зрительного внимания становятся значимыми зонами, которыми человек мысленно дорисовывает границы внутри объекта.
Семантика категории партитивности, актуализированная в русскоязычном и англоязычном дискурсах, дает нам основание выделить в системе ФСП партитивности четыре прототипических партитивных смысла, представленные в схеме 1 на см. 10.
Схема 1
Црототипические смыслы категории партитивности
Основными когнитивными механизмами для формирования категории партитивности в статическом аспекте являются квантификация и материализация. Квантификация - когнитивный процесс, при котором языковая единица, изначально не выражавшая количественного смысла, приобретает количественное значение.
Под материализацией нами понимается когнитивный процесс подведения конкретных, абстрактных или собирательных объектов/имён под категорию вещественности.
Партитивность в языке имеет преимущественно номинативный характер, формализуется прежде всего в имени существительном. Партитивное значение является контекстно обусловленным, что проявляется в действии морфологического и лексического факторов - сочетании партитива с существительным в форме родительного падежа, выражающим в качестве несогласованного определения значение целого по отношению к части.
Процедура отбора партитивных существительных осуществлялась по толковым словарям и словарям синонимов с применением методики компонентного анализа семантики существительных (в его дефиниционной разновидности). Метод дистрибутивного анализа выявил валентные | особенности существительных, так как через контекст раскрывается семантическая структура слова. Лексикографическое описание партитивных существительных является предпосылкой их семасиологического анализа. В I ходе нашего исследования в русском языке выявлено 247 партитивных существительных, а в английском языке - 254.
Представление о части внутри целого есть результат абстрагирования эмпирически полученного знания о части вне целого. Анализ языкового материала показал, что вербализация партитивного смысла часть внутри целого осуществляется в квантитативных конструкциях типаN, + N2,N, с(о) N2 в русском языке и N, of N2, N, in N2, N, for N2 в английском, а партитивного смысла часть вне целого в квантитативных конструкциях
ranaN, + N2, N, otN2, N, h3N2 в русском языке и N, fromN2 в английском, где N, обозначает один из ряда однородных или разнородных предметов или частей, из которых состоит целое, обозначенное N2.
Категория партитивности в её статическом аспекте как ФСП партитивности представлена в схеме 2.
Полевая организация категории партитивности в статическом аспекте
В ядерной зоне происходит вербализация прототипического смысла часть и целое.
В.В. Акуленко, М.М. Копыленко доказывают, что лексема часть /part в языковой системе занимают особое место и представляют особый интерес в плане функционирования [Акуленко 1990, Копыленко 1993]. Это дает нам право сформулировать следующую гипотезу, которая явилась исходной для нашего исследования: ядерными, наиболее эксплицитными компонентами ФСП партитивности в исследуемых языках являются лексема часть в русском языке и соотносительная лексема part в английском языке.
Эти лексемы соответствуют критериям доминантности элемента ФСП: 1) семантическому (максимальная концентрация специфических признаков, участие в максимальном числе оппозиций);
2) универсальности функции (максимальная функциональная нагрузка);
3) частотности употребления [Петровская 1989: 67].
Во-первых, именование поля - поля партитивности, соотносится с логико-философским понятием часть - целое, которое было рассмотрено в теоретической главе и находится на более высокой ступени абстракции, чем сами конституенты поля, т.е. максимально объективирует категорию партитивности как «категорию Языка» [Всеволодова 2009: 76] в отличие от других вариантных, модификационных смыслов партитивности, о которых пойдет речь в других разделах работы. А пока отметим, что ядерная
Схема 2
3. Ближняя периферия
4. Дальняя периферия
5. Крайняя периферия
1. Ядерная зона
2. Приядерная зона
часть манифестирует самый общий смысл, характеризующий всё поле -часть и целое, являющееся максимально прототипическим.
Во-вторых, лексемы часть и part являются суперклассификаторами [Бабенко 2006: 18], т.е. участвуют в максимальном числе разного рода оппозиций.
В-третьих, по данным частотных словарей, лексемы часть и part является высокочастотными, т.е. обладают высокой степенью когнитивной выделенности.
В приядерную зону входят следующие высокочастотные стилистически нейтральные единицы, обладающие самым высоким "рангом" прототипичности: период, район, элемент, участок, доля, отдел, кусок, остаток, деталь, подразделение, класс, фракция, секция; a period, a section, а class, a share, a piece, a division, a sector, a detail, an element, a cell, a constituent, an ingredient, a fraction.
В зоне ближней периферии представлено 12 модификаций основного концептуального партитивного смысла часть целого.
Проанализируем некоторые актуализированные смыслы.
— Партитивные существительные с актуализированным смыслом "каждая отдельная часть в чем-либо": ячея, ячейка, очередь, кирпичик, отсек, модуль, звено; a section, a tier, a level, a part, a compartment, a link, a constituent, an installment, a limb.
(1) Присев на еловую корягу подле избушки, он перебирает ячеи прорвавшейся
сети и, нанизывая петлю за петлей на деревянную иглу - "клегциг(у", слово за словом нанизывает и свой занимательный рассказ. (Колпакова Н. П. Терский берег (1936)).
(2) Не pushed the lock through a link of chain, turned the key, then said, 'Get
yourself inside; it's enough to freeze you. (The wingless bird. Cookson, Catherine. London: Bantam (Corgi), 1990).
— Партитивные существительные с актуализированным смыслом "составная часть, характеризующая что-либо", например: подробность, частность, черта, нюанс, штрих, тонкость, атрибут, ипостась; a face, а facet, an angle, an aspect, a nuance, a detail, an attribute, a titbit, a circumstance, a hachure.
(3) Они no сто раз перебирают в памяти все нюансы ситуации и анализируют правильность своего поведения, нереализованные возможности и собственные промахи. (Вера Елгаева. Бессонница (2003) // «100% здоровья», 2003.03.01).
(4) While left academics queue up to deliver their twenty thousand words worth on the latest nuance ofpostmodernism, we look in vain for two hundred words on a new film or television programme. (Screen. Oxford: Oxford University Press, 1991).
— Партитивные существительные с актуализированным смыслом "определенная часть целого": порция, порцион, проба, доза, четвертина, четвертушка, приём, процент, квота", a ration, a batch, a stint, a moiety, an allowance, a quota.
(5) Очень важно в практическом отношении, чтобы оценка пищевых порционов какой-либо группы населения начиналась не с количественного, а качественного их анализа, и при этом изучались бы естественные и бытовые условия, при которых эта группа живет; без строгой же индивидуализации решение вопроса будет односторонне и убедительно, пожалуй, для одних только формалистов. (А. П. Чехов. Остров Сахалин (1893-1895)).
(6) She organised his professional life: she demanded to know his daily quota of work (three pages a day) and ensured he kept to it — on pain of leaving should he fail! (Leonard Cohen: prophet of the heart. Dorm an, Loranne S and Rawlins, Clive L. London: Omnibus Press, 1990).
4) В зоне дальней периферии на современном этапе развития анализируемых языков выделяется 16 семантических моделей. Проиллюстрируем некоторые из них.
— «Отпечаток чего-н. на какой-либо поверхности, оставшаяся после движения чего-н. - сохранившаяся, уцелевшая часть чего-л.»: след, отпечаток; a track, a trace.
(7) Свадебный балдахин, соединяющий супругов, сияющий семисвечник, бечёвки талеса в мужской одежде, покрывала в женской — на всех этнографических приметах давно ушедшего быта следы изощрённого стиля. (Спасительная эстафета игры (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06).
(8) Не had been hurt so much by life that he had to laugh at it and there was not a
trace of bitterness in him. (Jane's journey. Bow, Jean. Lewes, East Sussex: The Book Guild Ltd, 1991).
— «Характерная вкусовая особенность - малейшая доля чего-либо» привкус, душок, послевкусие; a smack, a touch, a shade, a tinge.
(9) Чувствуется душок властного начала — у ворот как извне, так и снаружи стоят солдатики в касках и с М-16. (Алексей Буданов. Бангкок за один день // «Пятое измерение», 2003).
(10) Victory for either horse would be received rapturously, but at the same time with a tinge of disappointment (Great races. Magee, Sean. London: Anaya Publishers Ltd, 1990).
— «Оставшаяся часть жидкости - малейшая доля чего-либо»: осадок; an aftertaste.
(11) А вообще лёгкий осадок печали в душе... странно, чемпионат завершился и пустота какая-то... (Футбол-2 (форум) (2005)).
(12) The argument concerning the destination of the nation's art treasures has, however, acquired a bitter aftertaste. (The Art Newspaper. London: Umberto Allemandi & Company, 1992).
— «Оставшаяся часть звука - малейшая доля чего-либо»: эхо, отголосок; a trace, an echo.
(13) Но отголоски кризиса ещё будут давать о себе знать в разных местах земного шара. (Павел Максимов. Астрологический прогноз Павла Максимова (2002) // «Автопилот», 2002.06.15).
(14) LONDON MARATHON: Portugal's Rosa Mota yesterday vowed to remove any lingering trace of the psychological scars left from her world championship defeat, by successfully defending her ADT London Marathon crown on Sunday. (The Daily Telegraph pic, 1992).
— «Неотчетливое очертание фигуры - малая доля чего-либо» тень, налет, a touch, a shade.
(15) Сердечное восхищение, которое он к ней испытывал, имело налёт стариковского умиления всем тем новым, что происходит с ребёнком и никогда не происходит со взрослыми. (Людмила Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света // Новый Мир, № 8-9,2000).
(16) In his choice of names he occasionally showed a touch of irony such as placing the crater named Nicholas Copernicus (and his disputed planetary system with the Sun at the centre) in the Ocean of Storms. (New Scientist. London: IPC Magazines Ltd, 1991).
Итак, на дальней периферии происходит вербализация прототипических смысловчасть вне целого и часть внутри целого.
Мы исходим из положения, что языковое выражение партитивности эксплицируется на лексико-семантическом уровне в виде родительного партитивного падежа.
Проведенный лингвистический ассоциативный эксперимент позволяет говорить о том, что у-генитив не является рудиментарным явлением русского языка. По частоте употребления у-генетива первое место занимают глагольные конструкции со значением неполного объекта (купи сахару, съесть бы горячего супу, он принес изюму). На втором месте - "сочетания с субстантивами, обозначающими неточную меру" (немного винограду, купи ещё хлебу, немного чесноку). Третье место по частоте употребления партитива занимают "именные сочетания" типа (вязанка чесноку, мешок луку, 400г. шоколаду), в которых партитив встречается редко.
В зоне крайней периферии наблюдается семантическое варьирование, сопровождающее перенос наименования. Периферийные конституенты со значением части целого становятся базовыми для 15 метафорических сочетаний. Например:
— «Часть предмета, которая имеет неправильную форму - неопределенная оставшаяся часть абстрактного понятия»: осколок, осколочек, лоскут, сколок, кусочек, осколок, обрывки, ошметки, объедки, обломки, клок, клочья, шмат, шматок; a snippet, a shred, a slice, a gobbet, a scrap, a lump, a sliver, a piece, а wisp, a shard, a shiver, a nibble, a slab, a hunk, a splinter, a lump, a chunk, wad, а wedge.
(17) Там широкие кресла протягивали одну ручку, будто прося милостыни, между тем как на вышитой спинке трепетались лоскутки прежнего величия. (А. А. Бестужев-Марлинский. Вечер на кавказских водах в 1824 году (1830)).
(18) These reprisals set out specifically and successfully to drive a wedge of animosity between the Palestinians and their increasingly resentful hosts in
south Lebanon, the Shiite community. (Palestine and Israel. McDowell, David.
London: IВ Tauris & Company Ltd, 1990).
Таким образом, рассмотрев многочисленные примеры с партитивными существительными, можно утверждать, что в метафорических смыслах они теряют черты своей партитивности и происходит перекатегоризация.
Семантические процессы в лексико-семантическом поле партитивной лексики указывают на диалектичность связей между посредствующими фрагментами языка, а также позволяет прогнозировать возможные семантические инновации.
В третьей главе «Концептуализация категории партитивности в русском и английском языках: динамический аспект» решаются две взаимосвязанные задачи: первая состоит в выявлении когнитивно-семантической структуры языковой категории партитивности в ее динамическом компоненте, на базе которой решается вторая задача. Вторая заключается в исследовании манифестации квантитативных смыслов партитивности в сопоставляемых языках в её динамической составляющей (на материале глагольных предикатов партитивной семантики). В целом проводится концептуализация категории партитивности в сопоставляемых языках (фрагмента процессуально-событийной картины мира).
Накопленный опыт позволяет человеку совершать ментальные манипуляции, предвосхищая возможные результаты физического воздействия на объект: деление, ломание, отрывание и т.п. Такое предвидение ситуации с вычленением частей от целого, которое превращается в домысливание вероятного результата при воздействии субъекта на объект, есть сложная когнитивная операция осмысления любого объекта действительности.
Закон парадигматического описания предполагает выделение внутри множества парадигматически связанных единиц эталонного прототи-пического образца и его регулярного варьирования. Иерархия внутри парадигмы определяется семной структурой глагольного предиката и степенью соответствия его лексической семантики исходной концептуальной модели.
Таким образом, глагол есть поверхностная форма предиката [Степанов 1980: 3], а предикат - ядро пропозитивной структуры, назначение которой-«отображать некоторое событие или ситуацию действительности» [Касевич, Храковский 1983: 312]. Как очень точно и выразительно подметил Ф.С. Баце-вич, глагол «обладает двойным модусом своего существования: он является одновременно струтурно-номинативной единицей и предикатом с изначальной количественной и качественной определенностью сочетающихся с ним членов» [Касевич 1992: 7].
Именно такой подход (исследование не глагольных лексем, а предикатов, выраженных глаголами) позволяет установить концептуальный актуализированный смысл партитивных предикатов; прототипические образцы - «образцовые представители категории» [Бочкарев 2007: 123], опираясь на общеязы-
* Ограничение: исследуются только глагольные предикаты
15
ковой дискурс, манифестированный в национальных корпусах анализируемых языков.
Итак, в огромном поле предикатов партитивной семантики выделяется группа предикатов, в семантике которых партитивное отношение часть и целого представлено в виде дефиниции гиперсемы делить в русском языке и to divide - в английском.
На основе лексикографических данных по семантическому признаку -наличию холо-партитивных сем 'целое/whole' и 'часть/part' были выделены две семантические группы динамических предикатов партитивного отношения: группа предикатов партитивной семантики (ППС) «Объединение» и группа ППС «Разделение», показывающих партитивное отношение «части и целого», которые следует рассматривать как две оппозиционные группы.
В первую категорию входят глагольные предикаты с общим смыслом "приобретения или образования целостности" (группа «Объединение»), а во вторую - глагольные предикаты с основным смыслом "лишения или устранения целостности" (группа «Разделение»). Это разграничение определяет особенности семантики данных предикатов.
В ходе исследования выделено 107 предикатов партитивной семантики концептуальной сферы «Разделение» в русском языке и 102 в английском языке.
Репертуар предикатов партитивной семантики концептуальной сферы «Объединение» в русском языке составляет 86, а в английском - 101.
Полевая организация категории партитивности концептуальной сферы «Разделение» представлена на схеме 3.
Схема 3
Полевая организация категории партитивности концептуальной сферы «Разделение»
1. Ядерная зона
2. Приядерная зона
3. Ближняя периферия
4. Дальняя периферия
5. Крайняя периферия
Ядерная зона рассматриваемой концептуальной сферы представлена следующими глагольными предикатами: делить, разбивать, резать, to cut, to divide. Они являются доминантами ядра поля партитивности в динамическом аспекте, так как обладают самым высоким "рангом" прототипичности.
Значения приядерной зоны с различными категориально-лексическими семами объединяются благодаря общей дифференциальной семе 'острое орудие', которая и в ядерных семемах является обязательной и яркой, В семемах рассматриваемых предикатов в приядерную зону включаются значения, семная структура которых содержит в себе яркую и обязательную сему 'острое орудие', 'части тела живого существа', 'скрепляющее вещество', 'орудие давления'. Проиллюстрируем вышесказанное на примере фрейма «Разделение объектов физического мира».
Фрейм «Разделение объектов физического мира». Субфрейм «Качество разделяемого объекта, степень его участия».
Концептуальная модель: субъект - предикат разделения - качественно охарактеризованный объект.
Первый слот включает предикаты партитивной семантики с актуальным смыслом "разъединять парные части тела": размыкать, развести, разжимать; to part, to unclench, to unclasp.
(21) Поверьте мне! Он слегка развёл ладони. — Что ж, приходится верить. (Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 5 (1978))
(22) His thumb traced across her lips, and they parted at his touch (Roman spring. Marton, Sandra. Richmond, Surrey: Mills & Boon, 1993). Прототипический концептуальный смысл: "человек разъединяет парные
части тела"/ "a person divides something paired".
Второй слот включает предикаты разделения с актуальным смыслом "разделять что-л. сомкнутое, плотно соединенное" / "to untie, to unwrap or to open or to become untied, unwrapped, etc", например: размыкать, разнимать, расцеплять, расклеивать, расслаивать, развязывать, разъединять, раскалывать, распиливать; to undo, to open, to unfasten, to unrivet, to unclench, to disconnect, to part from, to unhook, to unhitch, to disengage, to loosen, to separate, to uncouple, to unlink, to detach, to disjoin, to dismember, to disunite, to loosen, to unbind, to untie.
(23) На этом фасаде существует стеклянный «разлом», здание как бы расслаивается на две плоскости. (Светоносная архитектура (2004) // «Мир & Дом. City», 2004.06.15).
(24) For he must uncouple the rings before he can withdraw his hands. (Warhammer
40,000: space marine. Watson, Ian. London: Boxtree, 1993). Прототипический концептуальный смысл: "человек разделяет на части что-л. соединенное, скрепленное, сжатое и т.п." / "to divide something that was previously connected, clenched etc".
В зоне ближней периферии у предикатов партитивной семантики актуализируются партитивные смыслы, как:
1) "разделить в определенном порядке" / "divide into definite parts";
2) "пролегая, рассекать, делить надвое, на части" / "to partition off';
3) "разделить на несколько частей" / "to divide into a few parts";
4) "разделить совокупность" / "to divide a wide range of something";
5) "делить на участки" / "to divide into sections".
Покажем на примере фрейма «Разделение совокупности чего-либо». Фрейм «Разделение совокупности чего-либо». Рассмотрим субфрейм «Разделение совокупности людей». Первый слот включает предикаты с актуальным смыслом: "разделить группу людей на части в определенном порядке" / "to divide (a society) into horizontal status groups or (of a society) to develop such groups", например: распределять, перераспределять, пересортировать, разделять, подразделять, сортировать, рассортировать, расслаивать, расчленить, членить, делить; to stratify, to segregate, to separate, to subdivide, to group, to sort, to select (for, from), to separate from, to reorganize, to rearrange, to cleave.
(25) Общество все сильнее и круче продолжает расслаиваться па бедных и богатых, на работающих и безработных. (Мы все зависимы друг от друга (2002) // «Жизнь национальностей», 2002.06.05).
(26) Within each mode, its attendant conditioning factors operate to stratify society into two, and only two, classes. (The third way: the promise of independent democracy. Lawrence, D. London: Routledge & Kegan Paul pic, 1988). Прототипический концептуальный смысл: "человек разделяет
совокупность людей на указанные части" / "a man divides a group of people into definite parts".
Второй слот включает предикаты с актуальным смыслом: "разделить, удалить друг от друга близких, любящих людей, друзей, не давая возможности им встретиться" / "to divide or separate from one another", "to cause to separate (from) or no longer be together", например: разлучать, разобщать, разойтись, развести, разобщать, разъединить; to part, to break up, to disunite, to alienate from, to estrange, to collapse, to cut off, to split.
(27) — Там же, где я: в своей семье. Нас разлучили обстоятельства. И они же опять свели: мой муж умер, а он остался вдовцом. (Анатолий Алексин. Раздел имущества (1979)).
(28) After living with his aunt for four years, Mr Banks moved in with his girlfriend,
but he moved back home last September after the couple split up a few weeks later and became very depressed. (Liverpool Daily Post and Echo 1987). Прототипический концептуальный смысл: "человек или неодушевленная субстанция разделяет двух, совокупность людей, противодействуя, не давая им встречаться, быть вместе" / "either a man or something parts people, preventing them to be together".
Третий слот объединяет предикаты с актуальным смыслом: "делить какую-л. организацию, предприятие, административную единицу и т.п. на менее крупные единицы, части" / "to move from one central place to several different smaller ones", например: разукрупнять; to decentralize, to subdivide.
(29) Сегодня же у нас другая задача: разукрупнить эти учреждения, превратить их из больших «казенных» домов в маленькие, уютные.
(Ирина Невинная. Галина Карелова: Согласие - есть непротивление трех сторон (2003) // «Российская газета», 2003.03.02). (30) For instance, we might sort a group of Roman coins into groups by different emperors and then subdivide these groups by some further criterion, such as the type of portrait which occurs or the inscription found with it. (Interpreting the past: coins. Burnett, Andrew. London: British Museum Press, 1991). Прототипический концептуальный смысл: "человек разделяет какую-л. организацию, предприятие, административную единицу и т.п. на менее крупные единицы, части" / "a man divides an organization into some parts/sections".
К зоне дальней периферии относятся глагольные предикаты с более узкими дифференциальными семемами, а также менее частотными.
Субфрейм «Совокупность людей разрушается под воздействием каких-либо обстоятельств» фрейма «Разделение совокупности».
Рассматриваемый слот включает предикаты грубого воздействия на объект, а денотатом выступает совокупность людей:
(31) Приходилось и ими действовать, «ломая» и «кроша» врага. Именно там и воевал наш спецназ, там наши хорошие белые парни крошили в непроходимых джунглях Африки плохих негров. (Кому не дает покоя слава «Ангольского Рембо» (2004) // «Солдат удачи», 2004.06.09).
(32) Поэтому большевикам пришлось резать и крошить армию, что и удалось сделать Крыленко, уничтожив аппарат командования и его суррогат — комитеты. (В. Б. Шкловский. Сентиментальное путешествие (1923))
Метафора основана на сравнении «разрушения целого» как номинативно-непроизводного значения с «нанесением поражения противнику», где «целое» представлено врагом, армией. Отношения между рассматриваемыми совокупностями людей выражаются партитивным предикатом ломать, крошить, резать с актуальным смыслом «нанести поражение». Выделяя появившиеся смыслы "наносить поражение", "враг", "армия" в основе семантики исследуемых глагольных предикатов, можно предположить, что полный объём признаков номинативно-непроизводного значения этого глагола не позволяет легко и просто толковать разрушить, так как актуальными оказываются семы более абстрактного характера.
В зоне крайней периферии происходит формирование других концептуальных зон, т.е. происходит перекатегоризация. При перекатегоризации ситуации происходит перекатегоризация глагола-предиката [Болдырев 1994]. Рассмотрено формирование таких концептуальных сфер, как «Причинение боли», «Угнетенное состояние», «Общение», «Изменение», «Критика», «Болезненное состояние», «Умственная деятельность», «Изучение». Рассмотрим концептуальную сферу «Причинение боли». Она включает следующие предикаты партитивной семантики: раздирать, терзать, разбивать; to lacerate, to rend, to bifurcate, to grind, а денотатом выступает человек, его душа, сердце.
Сравнение в ниже приведенных примерах осуществляется на основе ассоциации, связанной с отношением разъединения целого на части, возникшим между каким-то материальным объектом и в результате некоего внешнего силового воздействия, приведшим к полному разрушению этого объекта, так что целое не подлежит восстановлению. Человек, как целое (его моральное состояние души), потерял «целостность», а именно, его спокойствие и душевное равновесие нарушились. Таким образом, в процессе интерпретации этого значения теряется такой признак, как материальность объекта, способного развалиться на части в буквальном смысле.
(33) Каждый стон ее раздирал его душу; каждый промежуток молчания обливал его ужасом... вдруг он услышал слабый крик ребёнка, и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини — чёрный младенец лежал на постели в ее ногах. (А. С. Пушкин. Арап Петра Великого (1828)).
(34) Лариса гладила песнопевицу по голове, вела её к рукомойнику и, умывая, наговаривала: "Не пей больше, моя хорошая, не пей, не терзай своё израненное сердечко". (Виктор Астафьев. Обертон (1995-1996).
(35) lIfyou fell, l'd grind у ou ail right. ' The rich are with you always. (Macdonald, Malcolm. London: Coronet Books, 1978).
(36) Hamlet thou has't cleft ту heart in twain. (How to write essays, dissertations & theses in literary studies. Fabb, Nigel. Harlow: Longman Group UK Ltd, 1993).
В приведенных примерах семантика предикатов включает все ядерные компоненты номинативно-непроизводного значения, а именно, в значение данной метафоры входит понятие «разрушение целого». Метафорический смысл высказывания, индуцируемый системным значением глаголов раздирать, терзать, to grind, to cleave вызывает возникновение «нового смысла» —уничтожать / to destroy. Таким образом, в этом конкретном случае производное (фигуральное) значение полностью модифицировано.
Рассматриваемое значение производно от семы 'впиваясь в тело, причинять боль', находящейся на стыке дальней и ближней периферий, в силу того, что сема 'острое орудие', преобразуясь в сему субъекта, остается всё-таки достаточно яркой и обязательной. Кроме того, в данном производном значении актуализировалась и перешла в разряд категориально-лексической, обязательная сема 'причинение боли', являющаяся лишь потенциальной, скрытой в составе других значений, в частности, 'повредить, ранить какую-л. часть тела чем-н. острым' или 'вскрывать, оперировать', представляющих ближнюю периферию семантемы рассматриваемых глаголов. Итак, предикаты партитивной семантики в метафорических смыслах теряют черты своей партитивности и происходит перекатегоризация.
Репрезентацию категории партитивности (в статике и динамике) завершаем схемой 4 на с. 21, в которой показаны основные когнитивные механизмы концептуализации категории партитивности.
Схема 4
Основные когнитивные механизмы концептуализации категории партитивности
1
Категоризация \_
и Я
Визуализация Фокусирование Идентификация Квантификация Материализация | Спецификация Фрагментация Генерализация Элиминация Конкретизация Сравнение Расподобление и « ю о § с <и о я а & о о о с Индивидуализация | Метафоризация Абстрагирование Идеализация
2
-► Концептуализация *-
__
Как свидетельствует схема 4, основные когнитивные механизмы (1-19) являются универсальными при формировании категории партитивности в её статическом и динамическом компонентах. При этом механизмы 6-7 являются господствующими при формировании изучаемой категории во фрагменте предметной картины мира, а механизмы 9, 10, 11, 17 - во фрагменте процессуально-событийной картины мира.
В Заключении обобщаются основные результаты проведенного исследования. Полученные в ходе исследования результаты, обусловленные целью и задачами, можно представить следующим образом:
• создана методология когнитивно-дискурсивного моделирования категории партитивности в русском и английском языках в свете современных логико-философских и лингвистических воззрений;
• разработан понятийно-терминологический аппарат исследования;
• выделен корпус партитивных существительных и партитивных глагольных предикатов, репрезентирующих категорию партитивности в статике и динамике в сопоставляемых языках;
• выявлены концептуальные смыслы категории партитивности в сопоставляемых языках и их на основе описаны функционально-семантические поля (ФСП) в аспекте статики (фрагмент предметной картины мира) и динамики (фрагмент процессуально-событийной картины мира);
• определена степень когнитивной выделенности прототипических партитивных смыслов в сопоставляемых языках;
• уточнены механизмы (когнитивные процессы) создания определенных партитивных смыслов при описании концептуализации категории партитивности;
• выявлены особенности вербализации категории партитивности в сопоставляемых языках.
Отдаём себе отчёт в том, что исследование, выполненное в русле поставленных задач, не решает всех проблем, связанных с репрезентацией категории партитивности в языках. Считаем, что перспектива в изучении данной категории широка: возможно привлечение к анализу других частей речи, других языков, родственных и неродственных, типологически близких и далеких, подъязыков и иных форм бытования языков.
Полагаем, что широкое изучение исследуемой категории, а также в целом категориальный подход к изучению языков вполне реальны, учитывая столь впечатляющие перспективы лингвистики XX века [Вяч. Вс. Иванов 2004], когда особым, пророческим смыслом наполняется древнеиндийское изречение Anatapäram kila uabdauastram - "Не имеет предела наука о языке" [Алефиренко 2009:400].
Основные положения и результаты исследования отражены в следующих опубликованных работах:
В издании, включенном в реестр ВАК МОиН РФ:
1. Дедюхина, A.C. Методологические и методические основы изучения
категории партитивности в современном языкознании / З.И. Комарова,
A.C. Дедюхина // Вестник Пермского государственного университета.
Российская и зарубежная филология. - Пермь: Изд-во Пермского
государственного университета, 2010. - № 2. - С. 58-65.
В сборниках научных трудов и материалах научных конференций:
2. Дедюхина, A.C. Семантическое пространство партитивных существительных в русском языке / A.C. Дедюхина // Детская речь как лингвокреативная деятельность. Формы и механизмы лингвокреативной деятельности: материалы Международной научной конференции «Язык. Система. Личность: Лингвистика креатива», Екатеринбург, 22-24 апреля 2008 г. / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2008. - С. 28-32.
3. Дедюхина, A.C. Место партитивности в системе понятийных категорий / A.C. Дедюхина // Состояние и перспективы лингвистического образования в современной России: материалы III Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред. A.B. Нагорная. - Ульяновск: Изд-во Студия печати, 2008. - С. 13-18.
4. Дедюхина, A.C. Категория партитивности в свете логико-философских и лингвистических воззрений / A.C. Дедюхина // Язык и культура: сб. ст. -Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2008. - С. 26-33.
5. Дедюхина, A.C. Оттенки партитивности в падежах множественного числа / A.C. Дедюхина // Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики: материалы ежегодной научной конференции, Екатеринбург, 67 февраля 2009 г. / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2009. - С. 210215.
6. Дедюхина, A.C. Становление и исчезновение партитивных отношений на примере предикатов to unite / to destroy в английском языковом дискурсе / A.C. Дедюхина // Язык и культура: сб. ст. - Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2009.-С. 33-38.
7. Дедюхина, A.C. Особенности функционирования партитивных существительных сектор и крупица в русском языковом дискурсе / A.C. Дедюхина Активные процессы в различных типах дискурсов: функционирование единиц языка, социолекты, современные речевые жанры: материалы международной конференции 19-21 июня 2009 года. / под ред. О.В. Фокиной. - М. - Ярославль: Ремдер, 2009. - С. 142-147.
8. Дедюхина, А. С. Лингвокультурная специфика корреляции «часть-целое» в денотативной сфере «эмоции» в русском и английском языках / A.C. Дедюхина // Актуальные проблемы лингвистики и теории преподавания языков и культур: материалы междунар. науч. - практ. конф.: в 2 ч. - 4.1 / отв. ред. С.М. Поляков. - Шадринск: Изд-во Шадр. гос. пед. ин-та, 2009. -С. 324-330.
9. Дедюхина, A.C. Мереологические отношения как вид лингвистического знания / A.C. Дедюхина // Языки профессиональной коммуникации: сб. ст. участников 4-ой международной науч. конф. (Челябинск 3-5 декабря 2009) / отв. ред. и составитель E.H. Квашнина. - Челябинск: Изд-во: Энциклопедия, 2009. - С. 88-90.
10. Дедюхина, A.C. Языковая манифестация партитивного смысла «часть целого» на лексико-грамматическом уровне / A.C. Дедюхина // Язык и культура: сб. ст. - Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2010. С. 25-30.
11. Дедюхина, A.C. Когнитивный аспект семантики глаголов объединения / A.C. Дедюхина // Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики Ч. II. - материалы международной ежегодной научной конференции, Екатеринбург, 5-6 февраля 2010 г. / Урал. гос. пед. ун-т. -Екатеринбург, 2010. - С. 65-70.
Подписано в печать 17.05.2010. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Усл.печ.л. 1.Тираж 130 экз. Заказ № 27 Ризография НИЧ ГОУ ВПО УГТУ-УПИ 620002 г. Екатеринбург, ул. Мира 19
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата филологических наук Дедюхина, Анна Сергеевна
Введение.
Глава 1. Категория партитивности в свете современных логико-философских и лингвистических воззрений
1.1. Категория партитивности в философии и логике.
1.2. Языковая категория количественности и аспекты её изучения
1.3. Понятийные и семантические категории как основа сопоставления различных языков.
1.4. Когнитивный аспект партитивных отношений.
1.5. Теория поля и функционально-семантического поля как разновидности полевой структуры.;.
1.6. Методология и методика исследования категории партитивности в русском и английском языках.
1.8. Выводы по первой главе.
Глава 2. Концептуализация категории партитивности в русском и английском языках: статический аспект
2.1. Структура категории партитивности: системно-языковой подход.
2.2. Методика выделения корпуса партитивных существительных
2.3. Полевая организация категории партитивности в статическом аспекте.
2.3.1. Ядерная зона.
2.3.2. Приядерная зона.
2.3.3. Ближняя периферия.
2.3.4. Дальняя периферия.
2.3.5. Крайняя периферия.
2.4. Выводы по второй главе.
Глава 3. Концептуализация категории партитивности в русском и английском языках: динамический аспект
3.1. В ведение в проблему.
3.2. Методика выделения корпуса предикатов партитивной семантики.
3.3. Полевая организация категории партитивности в динамическом аспекте
3.3.1. Ядерная зона.
3.3.2. Приядерная зона.
3.3.3. Ближняя периферия.
3.3.4. Дальняя периферия.
3.3.5. Крайняя периферия.
3.4. Выводы по третьей главе.
Введение диссертации2010 год, автореферат по филологии, Дедюхина, Анна Сергеевна
I I Вопрос изучения мыслительной основы языковых структур и их речевых реализаций рассматривается в современной лингвистической парадигме в качестве одного из важнейших. В этой связи особо актуальными становятся исследования в рамках контрастивной лингвистики — области языкознания, ориентированной на сопоставительный анализ генезиса, развития и функционирования языковых построений в плане их обусловленности ментальным субстратом, важнейшей составляющей которого являются дискретные элементы сознания - концепты (понятия), которые способны группироваться в сложные структуры, называемые понятийными категориями, которые восходят к трактату Аристотеля "Категории" [Аристотель 1939]. Значимость категорий подчеркивают многие ученые разных областей знания: «Исключительная ценность этого понятия для всех наук и научного мышления не может быть поставлена под сомнение» [КСКТ 1997: 45]. В связи с этим ценным представляется изучение категорий (понятийных и языковых), учитывая их более чем двухтысячелетнюю вписанность в эволюцию культуры.
Особое место среди категорий занимает категория партитивности. Эта понятийная категория, как правило, характеризуется авторами [Есперсен 1958; Бодуэн де Куртене 1963; В.В. Ильин 1972; Холодович 1979; Реформатский 1960/1987; Исаченко 1961; Панфилов 1977; Швачко 1981; Акуленко 1990; Чеснокова 1992; Жаботинская 1992; Копылеико 1993; Бондарко 1996; Никитин 2007 и др.] в её отношении с языковой категорией, которая трактуется и как универсально - лингвистическая, связанная во всех языках мира с одной из неотъемлемых сторон бытия, и как «тотальная», «принадлежащая всем сторонам знаковой системы языка» [Витгенштейн 1985: 114], «пронизывающая всю систему языка: и его лексику, и его грамматику» [Панфилов 1977: 164].
В настоящее время проблема репрезентации действительности в виде языковой картины мира, национально-культурных концептов все более определенно связывается с осознанием фундаментальных свойств человеческих языков: антропоцентризма, функционально-семантической системности. А это, в свою очередь, актуализирует необходимость накопления знаний для создания общечеловеческого когнитивно-семантического континуума [Манакин 1994; Налимов 2003]. Данную точку зрения поддерживает Н.Ф. Алефиренко утверждая, что «противоборство процессов интеграции и дифференциации в структуре целого - главный стимул развития языковых инноваций» [Алефиренко 2009: 96].
Антропологическая парадигма в современном отечественном языкознании, представленная рядом направлений, характеризуется единым объектом научных поисков многих исследователей: образом человека как создателя языка, отображающего в языке и посредством языка свое сознание, свое видение мира и самого себя в этом мире.
На базе классической и новейшей, когнитивной, семантики формируется одно из главных течений лингвоантропологии - антропоцентристская семантика, выдвигающая на первый план задачу моделирования образа человека по данным языка. Для этого течения принципиально важным является изучение языка по «мерке человека» (Э. Бенвенист): язык в человеке и человек в языке должен изучаться в единстве с национально-культурными, социально-психологическими и индивидуальными факторами. Данная черта антропоцентристской семантики обуславливает ее интегративный характер, междисциплинарность, комплексность, комплементаризм всех научных изысканий и выводов. Основываясь на идее В. фон Гумбольдта об отображении «духа народа», т. е. национального своеобразия миропонимания в языке, антропоцентристская семантика сосредоточивает свое внимание на исследовании особенностей языковой концептуализации действительности в целом (языковой картины мира) и отображении в языке отдельных смысловых универсалий (фрагментов языковой картины мира - языковых образов-концептов). Такой подход позволяет реализовать миросозидающую функцию языка [Кубрякова 2009].
Важность рассмотрения категории партитивности обусловлена тем, что:
1) данная категория играет опосредованную роль при установлении отношений между явлениями действительности, с одной стороны, и категориями языка — с другой;
2) она выполняет функции структурирования элементов сознания, квантования и определённой систематизации мыслительных единиц, что готовит почву для последующего перевода их в сферу языка;
3) она носит универсальный характер, что объясняется её детерминированностью реальной действительностью и логическим строем человеческого мышления, принципиально общим для всех людей [Худяков 1991: 158].
Когнитивный подход учитывает процесс восприятия человеком окружающего мира и формирование на этой основе концептуальной картины мира. Последняя проецируется на лексическую систему, т.е. принцип антропоцентризма позволяет представить систему языка через восприятие человека, в том числе и через изучаемую нами категорию.
Приступив к лингвистическому исследованию категории партитивности, мы отталкивались от факта, что язык отражает, конструирует объективную действительность, а в объективной действительности все предметы и явления находятся в определённых связях и отношениях: «В любом познавательном процессе выявляются две его стороны: статическая, отражающая определенные результаты (знания), идинамическая, связанная с самими мыслительными операциями, ведущими к достижению этих знаний, а также направленными на их интерпретацию или переосмысление» [Болдырев 2006: 8]. Данную точку зрения поддерживают такие лингвисты, как Б.А. Успенский (2004), Н.Ф. Алефиренко (2009), С.Е. Никитина (2010) и др. В связи с этим в нашей работе категория партитивности исследуется в этих двух аспектах.
Категория партитивности изучается в лингвистике с середины XIX века (Э. Гуссерль, Э. Нагель, Ч. Пирс, Э.Сепир, Г. Фреге), однако и сегодня много исследований посвящается её изучению (JI.B. Глобина, О.В. Горбунов, С.В. Киселева, Л.Б. Никитина, Н.А. Седова, R. Chaffm, D. Douglas, В. Smith, А.С. Varzi, М. Е. Winston).
Так, И.В. Арнольд, 1969; А.И. Варшавская, 1984; В.Б. Касевич, 1988; М.В. Никитин, 2007; R. Jakobson, 1963; J. Lyons, 1965, 1977 констатируют недостаточную исследованность отношения между частью и целым, как в онтологическом, так и в эпистемическом и языковом планах, в то время как именно партитивные отношения играют важнейшую роль, как в языке, так и в мышлении, отражая реальные связи в мире вещей [Никитин 2006].
Несмотря на приоритетность изучения категории партитивности, на сегодняшний день сведения о ней носят фрагментарный характер, в результате чего не разработаны теория концептуализации категории партитивности и её вербализация в языках, поэтому решение данной проблемы, безусловно, является актуальным.
Итак, актуальность исследования обусловлена рядом факторов:
• отсутствием теории концептуализации категории партитивности и её вербализации в языках;
• в общеграмматическом аспекте - необходимостью категориального подхода, так как «грамматика становится наукой сегодняшнего дня, если её изучать от категории к знаку» [Мигирин 2002: 234] в плане прогнозного знания [Алефирешщ2009: 32];
• в общетеоретическом плане — необходимостью разработки теории для проникновения в сущность языка, поскольку именно через категории реализуется «миросозидающая функция языка» [Кубрякова 2009];
• в типолого-сопоставительном аспекте - необходимостью выявления этнолингвистических особенностей концептуализации категорий, поскольку как указывает крупный типолог У. Лабов: «в самом общем плане исследование языка можно определить как исследование категорий, выраженных в языке», [Лабов 1983: 138];
• в общенаучном плане — необходимостью накопления знаний при категориальном изучении языков для создания общечеловеческого когнитивно-семантического континуума [Манакин 1994; Налимов 2003; Чебанов 2008];
• в семиотическом плане - для уточнения места естественного человеческого языка (в его категориях) в семантической шкале естественных и искусственных языков [Налимов 2003: 274] и «едином семиотическом континууме» [Мечковская 2004: 392].
Необходимо подчеркнуть, что данное исследование входит в общий ряд работ, отражающих особый интерес в современном отечественном и зарубежном языкознании к глобальной проблеме структурирования человеческого знания о мире в языке (речи), тексте, дискурсе. В рамках когнитивного подхода к языку как две центральные проблемы рассматриваются структуры представления различных типов знания в языке и способы концептуальной организации знаний в процессах построения и понимания речевых сообщений. В отечественной и зарубежной лингвистике от когнитивного анализа ожидаются ответы на общелингвистические вопросы: каковы структуры ментального представления языкового знания, и как оно вербализуется в языках.
Актуальность темы обусловила объект исследования. Объектом данного диссертационного исследования является категория партитивности в русском и английском языках.
Предмет исследования - концептуализация категории партитивности и её вербализация в русском и английском языках (в статике и динамике).
Целью диссертации является когнитивно - дискурсивное моделирование категории партитивности в сопоставляемых языках (в статике и динамике).
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Создать методологию когнитивно-дискурсивного моделирования категории партитивности в русском и английском языках в свете современных логико-философских и лингвистических воззрений.
2. Разработать понятийно-терминологический аппарат исследования.
3. Выделить корпус партитивных существительных и партитивных глагольных предикатов, репрезентирующих категорию партитивности в статике и динамике в сопоставляемых языках.*
4. Выявить концептуальные смыслы категории партитивности в сопоставляемых языках и описать их на основе функционально-семантических полей (ФСП) в аспектах статики (фрагмент предметной картины мира) и динамики (фрагмент процессуально-событийной картины мира).
5. Определить степень когнитивной выделенности прототипических партитивных смыслов в сопоставляемых языках.
6. При описании концептуализации категории партитивности уточнить механизмы (когнитивные процессы) создания определенных партитивных смыслов.
7. Выявить особенности вербализации категории партитивности в сопоставляемых языках.
Методология исследования сложилась под влиянием достижений отечественных и зарубежных лингвистов в следующих направлениях:
• антропоцентризм языка, связь языка и мышления (В. фон Гумбольдт, JLC. Выготский, А.А. Леонтьев, АА Потебня, Б А Серебренников и др.),
• фундаментальные исследования понятийных и языковых категорий (А. В. Бондарко, JI.B. Васильев, JI. Ельмслев, О. Есперсен, С.Н. По образному выражению A.M. Пешковского, имя существительное и глагол - «это своего рода основание планеты нашей языковой солнечной системы» [Пешковский 1956: 132]. Значимость существительного (имени) и глагола как когнитивно-дискурсивных категорий обоснована Е.С. Кубряковой [Кубрякова 2004].
Кацнельсон, И.И. Мещанинов, Н.А. Кобрина, Г. Пауль, JI. Чейф, Дж. Лакофф и др.);
• изучение языковой категории количества (В.В. Акуленко, А.В. Бондарко, JI.A. Запевалова, А.В. Исаченко, З.И. Комарова, М.М. Копыленко, В.А. Холодович, С.А. Швачко, С.А. Яновская; Otto Jespersen, Е. Sapir и др.);
• языковое отражение важнейших философских категорий «части» и «целого» (В.М. Алпатов, А. Вежбицкая, М.В. Никитин, Б.А. Серебренников, Р. Якобсон, R. Chaffin, W. Hage, D. Herrman, H. Kolb, F. Moltmann, G. Schreiber, P. Simons, A. C. Varzi, M. Winston);
• концепция когнитивной лингвистики (Н.Ф. Алефиренко, Л.Г. Бабенко, А.Н, Баранов, Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянов, Д.О. Добровольский, З.И. Комарова, А.В. Кравченко, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, Е.В. Рахилина, И.А., Дж. Серл, И. А.Стернин, Ф. Растье, P.M. Фрумкина, JI.O, Чернейко, А.П. Чудинов; F. Ungerer, H.-J. Schmid, Th. Janssen, G. Redeker, L. Talmy, R.W. Langacker, G. Fauconnier, M. Johnson);
• соотношение языковой и концептуальной картины мира (Н.А. Арутюнова, Э. Бенвенист, Р.А. Будагов, Ю.Н. Караулов, В.В. Колесов, Б.А. Серебренников, М.П. Одинцова, Д.Н. Шмелев);
• полевой подход к языку (Н.В. Артемова, И.А. Бодуэн де Куртене, Г.
Ипсен, Ю.Н. Караулов, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ф. де Соссюр, П.В. Чеснокова, Е.И. Шендельс, Г.С. Щур и др.). Методы исследования.
Учитывая универсальность категории партитивности и её синкретичную природу, мы используем в работе комплекс синхронных методов, методик и приемов анализа: в качестве основного метода используется сопоставительный.
Для решения ряда конкретных задач используются, во-первых, общенаучные методы: индукции и дедукции, анализа и синтеза, сравнения, классификации и др.; во-вторых, частнонаучные, лингвистические. Так, для раскрытия семантики партитивных существительных и предикатов партитивной семантики используется методика компонентного анализа в её дефиниционной разновидности; для структурирования языковых единиц и средств формализации категории - полевая методика (ФСП); методика ассоциативного эксперимента для анализа у-генетива партитивов; для выявления партитивных смыслов в конкретно-речевом аспекте — дискурсивный анализ. Комплексное рассмотрение анализируемой категории базируется на когнитивно-дискурсивном моделировании и использовании ряда когнитивных процедур (механизмов) концептуализации категории; количественная обработка полученных материалов проводится на базе статистических методик, что позволяет определить степень когнитивной выделенности партитивных смыслов категории, и, наконец, используется метод лингвистической интерпретации полученных результатов исследований.
Эмпирическая база включает два типа источников:
1) для анализа категории партитивности в сопоставляемых языках в системно — категориальном (языковом) аспекте - словари и справочники, грамматики современного русского и английского языков;
2) для анализа категории партитивности в сопоставляемых языках в конкретно - смысловом (речевом, дискурсивном) аспекте -«Национальный корпус русского языка» [Электронный ресурс, режим доступа www.ruscoipora.ru] и «Британский национальный корпус» [Электронный ресурс, режим доступа: www.http://sara.natcorp.ox.ac.uk], которые позволяют полно представить исследуемую категорию, так как насчитывают около 150 млн. словоупотреблений.
Материалом исследования являются высказывания с партитивными существительными и партитивными глагольными предикатами, извлеченные сплошной выборкой из национальных корпусов русского и английского языков.
В нашем исследовании использовано 100 тысяч контекстов (высказываний) в равных количествах по языкам.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые категория партитивности изучается с позиции синтеза функционально-семантической и когнитивно-дискурсивной парадигм в аспекте статики и динамики, что позволило впервые выделить концептуальные смыслы партитивности, актуализированные в дискурсах, и выявить средства их вербализации в сопоставляемых языках, а также раскрыть когнитивные механизмы концептуализации данной категории.
Всё это дает возможность показать конструирование «мира в целом» через «языковое существование человека» [Халина 2009] сквозь призму категории партитивности.
Теоретическое значение работы состоит в том, что создание основ теории концептуализации категории партитивности в русском и английском языках расширяет наши представления по всем проблемам, обозначенным в обосновании актуальности данного исследования (см. с. 7-8), и вносит вклад в решение кардинальной проблемы: категория и язык, а в современной формулировке: действительность - язык - речь (дискурс) - мышление - знание.
Практическая значимость исследования связана с возможностью использования результатов исследования в практике преподавания языковых дисциплин: лекционные курсы по общему и сопоставительному языкознанию, теории грамматики (особенно при изучении разделов функциональной грамматики и семантического синтаксиса), по лексикологии и когнитивной лингвистике; практическим курсам русского и английского языков. Материалы исследования могут быть полезны в лексикографической (одно- и двуязычной) и переводческой деятельности.
Основные положения, выносимые на защиту: 1. Первичным концептуальным фоном нашего исследования является понимание категории как основного формата знания, исходя из того, что все знания о мире хранятся в нашем сознании в категориальной форме и все входящие в картину мира объекты категоризованы, в связи с чем, категория партитивности является универсальной и «тотальной» языковой категорией.
2. В системно-категориальном (языковом) аспекте семантическая структура категории партитивности в русском и английском языках представляет собой сложное взаимодействие трех базовых категории-ально-семантических компонентов: квантитативности, предметности и определенности/ неопределенности, что является результатом языковой интерпретации соответствующей понятийной категории и в значительной мере определяет способы и модели семантизации категории партитивности в конкретно-смысловом аспекте.
3. Основные прототипические смыслы категории партитивности актуализированные в дискурсе, - часть и целое, часть целого, часть внутри целого, часть вне целого, а также их модификационные смыслы в дискурсах - в русском и английском языках концептуально изоморфны, различаясь в основном способами вербализации. Средства выражения рассматриваемых смыслов охватывают морфо-семантический, лексико-семантический и лексико-грамматический уровни, различаясь господствующими способами выражения партитивности.
4. Формирование категории партитивности базируется на 19 основных универсальных когнитивных механизмах. Квантификация и материализация являются господствующими когнитивными процессами создания партитивных смыслов в статике, а в динамике - фрагментация, генерализация, элиминация и метафоризация.
5. В формировании когнитивно-дискурсивной категории партитивности участвуют как грамматическая (собственно языковая), так и лексическая (аналоговая) концептуализация, а также частично - модусная. При этом лексический прототип имеет инвариантно-вариативную природу.
Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования освещались в докладах на международных конференциях в г. Москве (2009), г. Шадринске (2009), г. Челябинске (2009), на III Всероссийской научно-практической конференции г. Ульяновске (2008), на ежегодных региональных конференциях «Актуальные проблемы лингвистики» и «Язык и Культура» в г. Екатеринбурге (2007, 2008, 2009, 2010). Концепция исследования обсуждалась на заседаниях кафедры теоретической и прикладной лингвистики Уральского государственного педагогического университета (февраль 2008, март 2010).
По теме диссертации опубликовано 11 работ, в том числе одна статья в рецензируемом научном издании, включенных в реестр ВАК МОиН РФ.
Структура диссертации отражает основные этапы и логику предпринятого исследования: работа состоит из введения, трех глав с выводами, заключения, списка литературы (211 источников, 38 словарей и справочников). Основной текст диссертации составляет 167 страниц, включая 7 схем, 8 таблиц и 7 приложений.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Репрезентация категории партитивности в русском и английском языках"
2.4. Выводы по второй главе
1. Рассматриваемая категория по своей структуре в языке представляет собой полевое образование как в плане содержания, так и выражения Оно порождается элементами разных уровней: категория партитивности манифестируется на морфо-семантическом, лексико-семантическом, лексико-грамматическом уровнях и синтаксическом. При этом обнаруживается большая функциональная нагруженность лексико-семантического уровня в сопоставляемых языках.
Схема 2
Полевая организация категории партитивности в статическом аспекте
1. Ядро
2. Приядерная зона
3. Ближняя периферия
4. Дальняя периферия
5. Крайняя периферия
2. Три других исследуемых уровня манифестации категории партитивности соотносимы по выполняемой ими функциональной нагрузке в сопоставляемых языках. Модели репрезентации категории партитивности в сопоставляемых языках обнаруживают аналогии в мотивационных словообразовательных характеристиках, в характере и направленности семантических связей в лексических полях производных слов и синонимических рядах, что подтверждает универсальность, как ментального представления данных категорий, так и их представления в языковом мышлении.
3. Грамматические и неграмматические языковые средства являются поверхностной реализацией определенных глубинных понятийных категорий; категория партитивности в системно-языковом отражении представляет собой комплекс категориально-семантических значений предметности, количества, определенности/неопределенности.
4. Определение модели категории партитивности в языке производится на основе логико-семантических функций элементов (концептуальных признаков), которые определяются на базе дефиниционных характеристик ядерных для поля партитивности лексем часть и part. Нами выделено четыре прототипических партитивных смысла часть и целое, часть - целое, часть в целом и часть вне целого, которые имеет полевую природу.
5. Функционально-семантическое поле партитивности имеет четко выраженную доминанту часть/part в сопоставляемых языках, находящуюся внутри поля и задающую иерархический характер структурных отношений.
6. Партитивность в языке имеет преимущественно номинативный характер, формализуясь в имени существительном. Партитивное значение является контекстно обусловленным, что проявляется в действии морфологического и лексического факторов - сочетании партитива с существительным в форме родительного падежа, выражающим в качестве несогласованного определения значение целого по отношению к части.
7. Возможность выражения партитивности в значительной мере зависит от подкласса существительного, от характера его денотата, то есть от характера представления какого-либо онтологического объекта в языковой семантике.
8. Общая закономерность сочетаемости конституентов рассматриваемого поля такова: понижение уровня абстрактности значения элементов к периферии поля соответствует повышению степени специализированности партитивного контекста, выявляя обратно пропорциональную зависимость.
9. Семантические процессы в лексико-семантическом поле партитивной лексики указывает на диалектичность связей между посредствующими фрагментами языка, а также позволяет прогнозировать возможные семантические инновации.
Глава 3. Концептуализация категории партитивности в русском и английском языках: динамический аспект
В третьей главе, как и во второй, решаются две взаимосвязанные задачи: первая состоит в выявлении когнитивно-семантической структуры языковой категории партитивности в ее динамическом компоненте, на базе которой решается вторая задача.
Вторая заключается в исследовании манифестации квантитативных смыслов партитивности в сопоставляемых языках в её динамической составляющей (на материале категории глагола), а точнее, глагольных предикатов* партитивной семантики. В целом проводится концептуализация категории партитивности в сопоставляемых языках (фрагмент процессуально-событийной картины мира).
3.1. Введение в проблему
Осмысление мира есть творческий процесс, и проявляется он не только в переживании реальных ситуаций, но и в построении возможных перспектив. Мы соглашаемся с утверждением В.А. Барабанщикова, который пишет, что восприятие порождает новые образы и, тем самым, «высвобождается от непосредственного влияния действительности» [Барабанщиков 2002: 19]. Таким образом, для отношения часть - целое очень важную роль играет прогностическая функция восприятия. Накопленный опыт позволяет человеку совершать ментальные манипуляции, предвосхищая возможные результаты физического воздействия на объект: деление, ломание, отрывание и т.п. Такое предвидение ситуации с вычленением частей от целого, которое превращается в домысливание вероятного результата при воздействии субъекта на объект - есть сложная когнитивная операция осмысления любого объекта действительности. Ограничение: исследуются только глагольные предикаты
Принцип внутреннего членения целого на части имеет важное значение, как для осмысления целого, так и для понимания роли части для целого.
Предикаты партитивной семантики являются языковым отражением важнейших философских категорий «части» и «целого». Они уже рассматривались в работах Э.В. Алексеева, В.М. Алпатова, В.Г. Афанасьева, Р.П. Афанасьевой, A.JI. Баудера, А. Вежбицкой, В.В. Гончаренко, З.А. Макушева, М.В. Никитина, Б.А. Серебренникова, А.Е. Супруна, Р. Якобсона, И. Нагеля, П. Шахтера. Несмотря на то, что отношения часть-целое играют важнейшую роль в мире, сознании и языке, охватывая вещи и явления всех уровней сложности, исследованы они недостаточно, что и позволяет говорить о нерешённой проблеме соотношения части и целого в семантике глагольного слова.
Научных работ, связанных с изучением части и целого в глагольной лексике в разных аспектах сравнительно немного (Аристотель, А.В. Бон-дарко, А.И. Варшавская, P.M. Гайсина, В.Г. Гак, М.В. Никитин, В.П. Тугаринов, Дж. Лакофф, Ч. Пирс, Э. Шредер).
При работе над предикатами партитивной семантики мы опирались на следующие положения семантического синтаксиса.
Глубинная семантика предложений исследуется преимущественно на стыке лексики и синтаксиса. Г.А. Золотова, рассуждая о взаимодействии лексики и грамматики, пришла к выводу, что «зависимость правил построения синтаксических конструкций от лексико-семантических характеристик их компонентов стала очевидностью, уже не требующей доказательств, но требующей систематизации материала» [Золотова 1982: 4].
Лексико-семантические характеристики компонентов высказывания являются условием существования семантических моделей. Ряд исследователей за основу описания семантической модели предложения избирают денотативный аспект семантики предложения, точнее, соотнесенность семантической структуры предложения и структуры изображаемой экстралингвистической ситуации (Апресян 1996; Богданов
1977; Володина 1991; Попова 1996; Сильницкий 1973). Предложение при этом рассматривается как средство выражения знаний о целостной денотативной ситуации. Считается, что каждый класс ситуаций отображается определенным семантическим классом предложений, имеющих общее инвариантное значение, соответствующее структуре ситуации и служащее для выражения знаний о нем.
Главный компонент семантической модели, соотносимый с ситуацией, как мы уже указывали, - предикат. Как утверждает В.В. Богданов, «предикат - это наиважнейшее имя для номинируемой ситуации» [Богданов 1985: 21]. Важно подчеркнуть, что предикат является носителем не только главной идеи, типа ситуации, но и её существенных проявлений. Этому аспекту анализа семантики предложения и места в ней предиката, носителя информации об отражаемой ситуации, уделяет большое внимание Г.И. Володина. Она подчеркивает, что в предикате заложена информация не только о составе и функциях участников называемого им положения дел, но и о более индивидуальных признаках отражаемого предложением события; в предикате сконцентрирована информация о всех релевантных признаках ситуации [Володина 1991: 9]. В связи с этим Г.И. Володина, признавая первичным в предложении его объективное содержание, замечает, что «классификацию предложений следует осуществлять с опорой на содержательные дифференциальные признаки» [Володина 1991: 6], что, по её мнению, предполагает в качестве первого шага выявление основных типов (классов) ситуаций: «. задача выделения классов ситуаций и определение содержательной сущности каждого из них получает решение как задача выделения семантических классов предложений и определения инвариантного значения каждого класса» [Володина 1991: 6].
С позиции семантико-коммуникативного синтаксиса глаголы -предикаты объединяются в качественно новые группировки с учетом их семантико-синтаксических функций, их семантической специализации (Богданов 1982: 32-33). Э.В. Кузнецова отмечает двустороннюю связь глагола и актантов: «Связь глагола с его типовым окружением во фразе представляет собой обоюдную зависимость: глагол определяет свое окружение и определяется им. Имея в виду определенный глагол - нетрудно представить круг его возможных «актантов», имея определенное «окружение» — нетрудно восстановить по нему круг возможных глаголов» [Кузнецова 1985: 23].
Теоретическое обоснование функционального анализа семантических моделей глагольных предложений имеется в трудах Э.В. Кузнецовой. Идея обусловленности семантической модели семантикой глагола-сказуемого дополняется требованием учитывать реальное функционирование фраз, отображающих одну ситуацию, так как для характеристики предикатов определенной группы только формул мало, следует принимать во внимание также степень обязательности отдельных позиций и особенно — типичность «наполнения» этих позиций.
Логика функционального анализа семантических моделей такова: от фраз, отражающих одну ситуацию, через типовой контекст - к выявлению семантической модели. Это позволяет рассмотреть реальное множество предложений, реализующих семантические модели различными способами (Бабенко 1980; Дубровская 1974; Золотова 1982, Кретов 1981; и др.)
Закон парадигматического описания предполагает выделение внутри множества парадигматически связанных единиц эталонного прото-типического образца и его регулярного варьирования. Иерархия внутри парадигмы определяется семной структурой глагола-предиката и степенью соответствия его лексической семантики типовой семантике исходной базовой когнитивной модели.
Таким образом, глагол есть поверхностная форма предиката [Степанов 1980: 3], а предикат — ядро пропозитивной структуры, назначение которой — «отображать некоторое событие или ситуацию действительности» [Касевич, Храковский 1983: 312]. Как очень точно и выразительно подметил Ф.С. Бацевич, глагол «обладает двойным модусом своего существования: он является одновременно струтурно-номинативной единицей и предикатом с изначальной количественной и качественной определенностью сочетающихся с ним членов» [Касевич 1992: 7].
Именно такой подход (исследование не глагольных лексем, а предикатов, выраженных глаголами) позволяет установить концептуальный актуализированный смысл партитивных предикатов; прототипические образцы - «образцовые представители категории» [Бочкарев 2007: 123] опираясь на общеязыковой дискурс, манифестированные в национальных корпусах анализируемых языков.
Наиболее значительной и получившей более широкое распространение теорией фреймов является теория М. Минского [Минский 1979, 1988]. По определению автора, фрейм - это иерархическая структура для представления в мозгу человека знаний об определенной стереотипной ситуации. Под ситуацией М. Минский понимает некоторый обобщенный фрагмент действительности, типичное положение дел, в котором связаны участники, их действия и необходимые при этом предметы. Фрейм представляет собой не одну конкретную ситуацию, а наиболее характерные, основные моменты ряда близких ситуаций, принадлежащих одному классу.
Фреймы представляют собой определенным образом структурированные ментальные подсистемы с номинативным оснащением и выступают как способ структурирования знания в сознании человека.
Полагаем, что это дает нам возможность получить научные результаты высокой степени достоверности, поскольку "в лингвистическом отношении намного эффективнее устанавливать значение чего непосредственно в употреблении (подчеркнуто нами — А.Д.), а искомые признаки идентифицировать по типовым контекстам, (подчеркнуто нами - А.Д.), [или] по корпусу текстов ." [Бочкарев 2007: 141].
3.1.2. Методика выделения предикатов партитивной семантики
В качестве предикатов партитивной семантики (1111С) рассматриваются такие слова, в дефинициях которых содержатся семы 'часть' и 'целое' в их эксплицитном и имплицитном выражениях. Их конкретизация и соотношение помогают отличить один глагол от другого. Это послужило основанием построения семантических классификаций партитивного отношения.
Процедура отбора осуществлялась по толковым словарям и словарям синонимов с применением методики компонентного анализа семантики существительных в его дефиниционной разновидности анализа. Метод дистрибутивного анализа выявил валентные особенности глаголов, так как через контекст раскрывается семантическая структура слова. Лексикографическое описание предикатов партитивной семантики является предпосылкой их семасиологического анализа.
Итак, в огромном поле предикатов партитивной семантики выделяется группа глаголов и глагольных сочетаний, в семантике которых партитивное отношение части и целого может быть представлено в виде дефиниций гиперсемы либо part или её вариантами an element, a component, а member, a fraction, a subdivision, a section, и семы 'целое', выраженной словом широкой семантики whole и её разновидностями a body, a number, а group, a thing и т.п.
На основе лексикографических данных по семантическому признаку — наличию холо-партитивных сем 'целое/whole' и 'часть/part' были выделены две семантические группы динамических предикатов партитивного отношения: группа ППС «Объединение», группа ППС «Разделение», показывающих партитивное отношение «части и целого», которые следует рассматривать как две оппозиционные группы. В первую категорию входят глагольные предикаты с общим смыслом "приобретения или образования целостности " (группа «Объединение»), а во вторую — глагольные предикаты с основным смыслом "лишения или устранения целостности" (группа
Разделение»). Это разграничение определяет особенности семантики данных глаголов. Исследуемые глагольные предикаты организованы попарно: «Объединение» (to constitute, to compose, to comprise, to compound, to connect, to form, to fuse, to make up, to marry, to mix, to mingle, to join, to link, to glue, to organize, to tie, to unite, etc.) / «Разделение» (to divide, to break, to part, to cut, to separate, to split (up), to divorce, to share, to tear (apart), to class, to segment, to segregate etc. Объединение имплицирует включение части в целое, а разделение имплицирует разрушение целого.
Основным, базовым 111 1С, ядром исследуемых динамических групп первой категории «Объединение», является смысл "объединиться в целое " в русском языке и "to become a whole/part of/united или to acquire integrity" в английском языке, а для второй категории группы «Разделение», -"разделить на части" в русском и "to become separated into parts" или "to lose integrity", в английском языке, которые квалифицируются для всех лексико-семантических групп предикатов части и целого как их глубинные идентификаторы, т.е. диагностирующие конструкции, с помощью которых может быть выведено значение любого предиката указанных групп [Киселёва, 2006: 64-65].
Эти идентификаторы можно считать содержательными ядрами двух оппозиций (становление партитивных отношений и их исчезновение), которые закладывают основу регулярной полисемии. Именно они являются источником развития других значений слова (все деривационные значения реализуются в виде регулярной полисемии).
Прототипический концептуальный смысл: предикатов партитивной семантики разделения "разделять (разделить) что-либо целое, цельное, целостное, совокупность кого-чего-либо на отдельные части, составляющие".
Прототипический концептуальный смысл предикатов партитивной семантики объединения: "соединять кого-л. с кем-либо, что-либо с чем-либо".
Это два основных прототипических смыслов, задающих две основные концептуальные области, организованные во фреймы.
Анализ предикатов отношения «целое<=>часть», показывает, что нередко в них аргумент «часть» получает дополнительную экспликацию во фразах типа: разламывать на куски, разобрать по кирпичику, собрать по кирпичику, перераспределить по стадиям, раскладывать по полочкам to separate into pa?'ts, to break into pieces, to sever into chunks, to divide into branches, to subdivide into categories, to subdivide society into strata. (148) Хорош строитель, который разбирает по кирпичику созданное им здание, чтобы из этого же материала воздвигнуть где-то другое. (Анатолий Алексин. Действующие лица и исполнители (1975)).
Также при объединении объектов в указанное целое аргумент «целое» получает дополнительную экспликацию: склеивать вместе, соединять в систему, связать воедино, слить в единство, слились в одно to join in a group, to assemble into a whole, to unite or be united into a relationship, to connect or fasten things together, to come together and become connected.
В ходе нашего исследования нами выделено 107 предикатов партитивной семантики фрейма «Разделения» в русском языке и 102 в английском языке. Они приведены в приложениях 3 и 4, соответственно.
Репертуар предикатов партитивной семантики фрейма «Объединение» в русском языке составляет 86, а в английском - 101. Рассматриваемые предикаты представлены в приложениях 5 и 6, соответственно.
Завершая общую характеристику глагольных предикатов, подчеркнём, что количественный признак части или частей разделённого целого может быть определённым или неопределенным. Определенный выражен наличием таких наречий, как посредине, попарно, по двое, парами, надвое, пополам, напополам, поровну, натрое, равно, пропорционально в русском языке и в английском — in the middle, into halves, in half, in two, in twain, equally, proportionally, evenly, pairwise, in pais, by pairs.
149) Эти поправки наделяют частные фонды и государство равными полномочиями, а значит, более 150 млрд. рублей ежегодных инвестиций придётся делить поровну. (Лиза Голикова. Вы старейте ~ вам зачтется // «Коммерсантъ-Власть», № 12, 2002).
150) She held up her axe to ward off a murderously diving spar, and split it in twain (The night mayor. Newman, Kim. Sevenoaks: New English Library, 1990). На лексическом уровне представлены глаголы с такими семами, в которых эксплицирована идея части, например: членить "делить на члены", подразделять - "делить на подразделения"; двоиться, дробить, раздваивать, сортировать в русском языке. В английском языке функционируют такие предикаты, как to halve "to divide into two approximately equal parts", to bifurcate, to fork, to bisect, to pair off
151) Predators and bad weather have helped to halve the number of British hares. (New Scientist. London: IPC Magazines Ltd, 1991).
152) But the party did have the sense to remove the figures from a policy commitment to halve the UK population. (Newspaper Publishing pic, 1989).
В данной же главе от характеристики предикатов партитивной семантики перейдем к последовательному рассмотрению полевой организации предикатов партитивной семантики в дискурсах.
3.2 Полевая организация предикатов партитивной семантики
3.2.1. Ядерная зона
Задачи этого раздела заключаются в следующем: во-первых, выявить в системе предикатов партитивной семантики основные когнитивно-семантические модели, различающиеся по семантике предикатов, а во-вторых, описать модификации этих моделей, дифференцирующиеся по набору глагольных актантных позиций.
Начнем анализ с ядерной зоны поля предикатов партитивной семантики, а именно с предикатов, которые дают имя концептуальным сферам предикатов партитивной семантики в сопоставляемых предикатах. Это объясняется высокой степенью абстрактности и частотности.
Рассмотрим степень когнитивной выделенности предикатов партитивной семантики в сопоставляемых языках.
Заключение
Как показало изучение научной литературы, категория партитивности является междисциплинарной универсальной, а исследование данной категории вносит вклад в разработку кардинальной проблемы лингвистики — категория и язык, которая, в свою очередь, входит в проблему соотношения я з ы к а и мышления.
Одним из основных научных результатов данной работы считается создание полипарадигмальной методологии исследования, которая объединяет:
1) концептуальный синтез теории понятийных и языковых категорий;
2) синтез ономасиологического и семасиологического подходов;
3) синтез функционально-семантического и когнитивно-дискурсивного направлений;
4) синтез двух аспектов анализа: системно-категориального и конкретно-смыслового, что позволило получить новые научные результаты.
• Определено, что вся роль в образовании языковых значений принадлежит языковой личности как партиципанту коммуникации, наблюдателю и носителю опыта и знаний. Опора на когнитивность способствует выявлению скрытых и имплицитно выраженных семантических компонентов исследуемых партитивных предикатов в контексте. Именно человек осознанно выбирает языковые средства выражения для дескрипции конкретной ситуации.
• Показано, что семантика партитивности в общеязыковом аспекте включает указание на 'количество', 'отдельность', 'определенность', 'неопределенность'. Партитивное значение часть - целое манифестируется в рассматриваемых языках по-разному, что обусловлено типологическими различиями в языках. Выявлены основные способы манифестации выделенных партитивных смыслов в сопоставляемых языках.
Установлено, что для партитивных существительных английского и русского языков, соотносимых по значению, не характерно полное соответствие объема значения и норм реализации. Концептуальные сферы партитивных существитель английского и русского языков, объединенные одним значением, не накладываются по содержанию друг на друга. Они характеризуются различным количеством и составом компонентов, которые по-разному распределяются в лексемах.
Показаны компоненты, которые влияют на выбор предикатов партитивной семантики: происхождение части, статус в составе целого, способ выделения части, обстоятельства выделения части, внутренняя характеристика части, функция части, размер части, местонахождение части и т.д.
Доказано, что важную роль в семантической структуре партитивных существительных предикатов партитивной семантики играют переносные значения (в том числе метафорические), возникающие на базе основного значения. Рассматриваемые значения демонстрируют действия когнитивных механизмов и представляют собой то, что в семантической структуре отдельно взятого партитивного предиката содержится в памяти говорящего не в своём полном объёме, а включает как знание прямого номинативного значения — и частично знание переносных значений, входящих в конвенциональное, и прочие значения, зафиксированные в лексикографии; они также оказывается более развёрнутой в актуальной речи говорящего за счёт когнитивных механизмов перехода от прямых значений к импликационным и переносным.
Выявлены основные когнитивные операции создания ментальной категории партитивности в сопоставляемых языках. Категоризация и концептуализация являются ключевыми среди них. Квантификация и материализация, являются господствующими когнитивными процессами создания партитивных смыслов в статике, а в динамике -фрагментация, генерализация, элиминация и метафорическое моделирование.
Отдаём себе отчёт в том, что исследование, выполненное в русле поставленных задач, не решает всех проблем, связанных с репрезентации категории партитивности в языках. Считаем, что перспектива в изучении данной категории широка: возможно привлечение к анализу других частей речи, других языков, родственных и неродственных, типологически близких и далеких, подъязыков и иных форм бытования языков.
Полагаем, что широкое изучение исследуемой категории, а также в целом категориальный подход к изучению языков вполне реальны, учитывая столь впечатляющие перспективы лингвистики XX века [Вяч. Вс. Иванов 2004], когда особым, пророческим смыслом наполняется древнеиндийское изречение Anataparam kila uabdauastram - "Не имеет предела наука о языке" [Алефиренко 2009: 400].
Список научной литературыДедюхина, Анна Сергеевна, диссертация по теме "Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание"
1. Алефиренко, Н.Ф. Современные проблемы науки и языке / Н.Ф. Алефиренко. -М. : Флинта, 2009. 416 с.
2. Алпатов, В.М. Об антропоцентрическом и семантикоцентрическом подходе к языку / В.М. Алпатов // Вопросы языкознания. 1993. -№3. - С. 15-26.
3. Амосов, Н.М. Моделирование мышления и психики / Н.М. Амосов. -Киев. : Наукова думка, 1965. 340 с.
4. Андерсон, Дою. Когнитивная психология / Дж. Андерсон. — 5-е изд. СПб. : Питер, 2002. 492 с.
5. Апресян, Ю.Д. Образ человека по данным языка: Попытка системного описания / Ю.Д. Апресян // Вопросы языкознания. — 1995. № 1. —1. С. 37-67.
6. Ардентов, Б. П. Общее языкознание. Язык и языковедение / Б.П. Ардентов. Кишинев : Карта, 1971. —Вып. 3 - 208 с.
7. Аристотель, Метафизика /Аристотель // Сочинения. Т.1. М. : Мысль, 1975.-550 с.
8. Арутюнова, Н.Д. Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. Введение. / Н.Д. Арутюнова. М. Наука, 1999. -С. 3-10.
9. Барабанщиков, В. А. Психология восприятия: Организация и развитие перцептивного процесса / В.А. Барабанщиков. М. : Когито-Центр. - 2006. - 240 с.
10. Баранов, А.Н. Постулаты когнитивной семантики / А.Н. Баранов, Д.О. Добросмыслов // Известия АН. Сер. лит-ры и языка. / А.Н. Баранов, Д.О. Добросмыслов. 1997.- Т.6.-№1.-С. 11-21.
11. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику / А.Н. Баранов. —2е изд., испр. и доп. М. : 2003. - 354 с.
12. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин, М. : Искусство, 1979.- 423 с.
13. Богуславский, В.М. Слово и понятие / В.М. Богуславский // Мышление и язык. М. -.Наука, 1957. С. 42-56.
14. Бодуэн де Куртенэ, И.А. Количественность в языке и мышлении / И.А. Бодуэн де Куртенэ // Избранные работы по языкознанию. Т.2. -М. : Изд-во Ан СССР, 1965. С. 311-324.
15. Болдырев, Н.Н. Категориальное значение глагола. Системный и функциональный аспекты / Н.Н. Болдырев СПб. : РГПУ, 1994. -171 с.
16. Болдырев, Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии / Н.Н. Болдырев. Тамбов: Изд-во Тамбов, гос. ун-та. — 2000. - 243 с.
17. Болдырев, Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики / Н.Н. Болдырев. // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. - № 1 .-С. 18-37.
18. Болдырев, Н.Н., Фуре Л.А. Репрезентация языковых и неязыковых знаний синтаксическими средствами // Филологические науки. 2004.-№3.-С. 67-74.
19. Болдырев, Н.Н. Языковые категории как формат знания / Н.Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. - №2 (008) . -С. 5-22.
20. Бондарко, А.В. Грамматические категории и контекст / А.В. Бондарко. Л. : Наука, 1971. - 420 с.
21. Бондарко, А.В. О некоторых аспектах функционального анализа грамматических явлений / А.В. Бондарко // Функциональный анализ грамматических категорий. JI. : Наука, 1973. — 280 с.
22. Бондарко, А.В. Понятийные категории и языковые семантические функции в грамматике // Универсалии и типологические исследования. М. : Наука, 1974.- С. 50-88.
23. Бондарко, А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии / А.В, Бондарко. JI. : Наука, 1983.- 208 с.
24. Бондарко, А.В. Функциональная грамматика / А.В. Бондарко. JI. : Наука, 1984.- 136 с.
25. Бондарко, А.В. Введение. Основания функциональной грамматики / А.В. Бондарко. // Теория функциональной грамматики. JI. : 1987. -340 с.
26. Бондарко, А.В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка / А.В. Бондарко. М. : Языки славянской культуры, 2002. - 186 с.
27. Бочкарев, А.Е. Эпистемологические аспекты значения / А.Е. Бочкарев. Н. Новгород : Деком, 2007. - 224 с.
28. Бугорская, Н.В. Проблемы философии науки. XX века // Проблема термина и терминологические проблемы / Н.В. Бугорская ; Алтайск. гос. ун-т. Барнаул, 2007. - С. 60-119.
29. Вардулъ, И.В. Об изучении семантического аспекта языка / И.В. Вардуль // Вопросы языкознания. 1973. - № 6. - С. 9-23.
30. Варшавская, А.И. Смысловые отношения в структуре языка / А.И. Варшавская. JI. : Наука, 1984. - 530 с.
31. Васильев, JI.M. Современная лингвистическая семантика / JI.M. Васильев. М. : Высшая школа. — 1990. — 176 с.
32. Вежбицкая, А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / пер. с англ. А .Д. Шмелев. М. : Языки славянской культуры, 2001. - 272 с.
33. Виноградов, В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике / В.В. Виноградов. -М. : Наука, 1975. 600 с.
34. Витгенштейн, Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн // Новое в зарубежной лингвистике. М. : Прогресс, 1985. - Вып 16. — С. 79-128.
35. Воркачев, С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт. Становление антропоцентрической парадигмы в языкознании / С.Г. Воркачев // Филологические науки. 2001. - №1. — С. 64-72.
36. Всеволодова, М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса / М.В. Всеволодова. М. : Наука, 2002. - 326 с.
37. Всеволодова, М.В. Поля, категории и концепты в грамматической системе языка / М.В. Всеволодова // Вопросы языкознания. 2009. -№ 3. - С. 76-99.
38. Гейнзберг, В. Физика и философия. Часть и целое / В. Гейнзберг. пер. с нем. М. : Наука, 1989. - 400 с.
39. Глаголы в современном русском языке. / под ред. A.M. Чеписовой — М. : Флинта: Наука, 2008. 207 с.
40. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. -М. : Искусство, 1984. 364 с.
41. Гухман, М.М. Понятийные категории, языковые универсалии и типология / М.М. Гухман // Вопросы языкознания. —1985. №3.1. С. 3-13.
42. Демъянков, В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода / В.З. Демьянков // Вопросы языкознания. 1994. - № 4. - С. 17-34.
43. Дмитриев, Ю.Я. Категория качества, количества и меры в историко-философском процессе. Закономерности развития. Функции. / отв. ред. И.И. Головин. М. : Наука, 1995. - 159 с.
44. Добровольский, Д. О. Идиоматика в тезаурусе языковой личности / Д. О. Добровольский, О.Н. Караулов // Вопросы языкознания. 1993 -№2.-С. 5-15.
45. Есперсен, О. Философия грамматики / О. Есперсен. М. : Наука, 1958.-320 с.
46. Ефимов, В.И. Определение качества и количества как системы дефиниций / В.И. Ефимов ; Ростов, гос. ун-т. Ростов-на-Дону. -1973.-96 с.
47. Жирмунский, В.М. Об аналитических конструкциях / В.М. Жирмунский // Аналитические конструкции в языках различных типов. М. ;JI., 1965. - С. 44-70.
48. Звегшщев, В.А. Язык и знание / В.А. Звегинцев // Вопросы филологии. 1982. - №1. - С. 56-90.
49. Золотова, Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / Г.А. Золотова. М. : Наука, 1973. 540 с.
50. Золотова, Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Г.А. Золотова. М. : Наука, 1982. - 368 с.
51. Иванов, Влч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия: вопросы к будущему / Вяч. Вс. Иванов. М. : Языки Славянской культуры. -2004. 208 с.
52. Ильин, В,В. Онтологические и гносеологические функции качества и количества / В.В. Ильин . М. : Высшая школа, 1972. - 216 с.
53. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. Волгоград : Перемена, 2002. - 477 с.
54. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов ; Академия наук СССР, Отделение литературы и языка ; отв. ред. Д. Н. Шмелев. М. : Наука, 1976. - 261 с.
55. Карцевский, С.О. Об ассиметричном дуализме лингвистического знака / С.О. Карцевский. В кн.: История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. 4.2. М. : Наука, 1965. - 412 с.
56. Касевич, В.Б. Языковые и текстовые знания / P.M. Фрумкина, А.Н. Звонкин, О.И. Ларичев, В.Б. Касевич. Представление знаний как проблема // Вопросы языкознания 1990. №6. - С. 85-102.
57. Категория количества в современных европейских языках / отв. ред. В.В. Акуленко. Киев : Наук думка, 1990. — 283 с.
58. Кацнелъсон, С.Д. Речемыслительные процессы / С.Д. Кацнельсон // Вопросы языкознания. 1984. — № 4. - С. 96-110.
59. Кацнельсон, С.Д. Общее и типологическое языкознание / С.Д. Кацнельсон. Л. : Наука, 1986. - 280 с.
60. Кибрик, А.Е. Константы и переменные языка / А.Е Кибрик. — СПб. : Алетейя, 2003.-720 с.
61. Кобрина, Н.А. Понятийные категории и их реализация в языке / Н.А. Кобрина // Понятийные категории и их языковая реализация. Л. : Наука, 1989.-С. 40-49.
62. Колшанский, Г.В. Объективная картина мира в познании и языке / Г.В. Колшанский . -М. : Наука, 1990. 108 с.
63. Комарова, З.И Лексико-семантическое пространство глаголов и их семантических дериватов в специальных областях знания // Русская глагольная лексика: пересекаемость парадигм / З.И. Комарова. -Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та. 1997. - С. 391-442.
64. Комарова, З.И. Ядерные служебные слова в русском подъязыке информатики: квантитативно-квалитативное исследование: монография / З.И. Комарова, С.В. Краев. Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2008. - 303 с.
65. Комарова, З.И., Хасаншина, Г.В. Латинизированный семантический метаязык в русском агрономическом подъязыке: монография. / З.И. Комарова, Г.В. Хасаншина. Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2009. - 334 с.
66. Комарова, З.И. Типы фразеологизмов в свете языковой и научной категоризации / З.И. Комарова, Г.Н. Плотникова // Фразеология икогнитивистика: материалы 2-ой Международной научной конференции. Белгород: Изд-во Белгород, гос. ун-та, 2010-а (в печати).
67. Комарова, З.И. Проблемы языка науки / З.И. Комарова // Актуальнее проблемы германистики, романистики и русистики: Материалы науч. конф. № 3. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2010-С. 57-72.
68. Комлев, Н.Г. Слово, денотация и картина мира / Н.Г. Комлев // Вопросы философии. -1981. № 11- С. 23-34.
69. Кравченко, А.В. Язык и восприятие: когнитивные аспекты языковой категоризации / А.В. Кравченко. — Иркутск, 1997. — 260 с.
70. Кубрякова, Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика психология - когнитивная наука / Е.С. Кубрякова // Вопросы языкознания. - 1994. - № 4. - С. 34-48.
71. Кубрякова, Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. М. : Наука, 2004. - 520 с.
72. Кубрякова, Е.С. В поисках сущности языка / Е.С. Кубрякова // Вопросы когнитивной лингвистики. — 2009. — № 1. — С. 5-13.
73. Кузнецова, Э.В. Два типа глагольных значений / Э.В. Кузнецова // Семантика и системность языковых единиц. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1985. - С. 27-37.
74. Лекторский, В.А. Эпистемология классическая и неклассическая / В.А. Лекторский. М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 256 с.
75. Лингвистическое моделирование: коллективная монография -Тюмень: Вектор Бух, 2009. 186 с.
76. Логический анализ языка. Квантификационный аспект языка / отв. ред. Н.Д. Арутюнова. М. : Индрик, 2005. - 672 с.
77. Ломов, Б.Ф. Вербальное кодирование в познавательных процессах: Анализ признаков слухового образа / Б.Ф. Ломов, А.В. Беляева, В.Н. Носуленко; отв. ред. Ю.М. Забродин. -М. : Наука, 1986. 128 с.
78. Маковский, М.М. Картина мира и миры образов (лингвокультурологические этюды) / М. М. Маковский // Вопросы языкознания. 1992. - №6. - С. 36-53.
79. Маковский, М.М. Символы жизни и жизнь символов / М.М. Маковский. М. : Наука, 1996.-215 с.
80. Манаенко, Г.Н. Дискурс в его отношении к речи, тексту и языку / Т.Н. Манаенко // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. — Вып. 12. Пермс. гос. ун-т. - Пермь, 2008. — С. 48-62.
81. Манакин, В.Н. Языковые картины мира в перспективах контрастивной лингвистики / В.Н. Манакин // Язык и культура. — Киев, 1993.-С. 49-72.
82. Манакин, ВН. Основы контрастивной лексикологии: близкородственные и родственные языки / В.Н. Манакин. — К.-К.-д.: Центрально-украинское издательство, 1994. — 264 с.
83. Маркарова, Т.С. Структура предложения со значением «часть — целое» в русском языке (на примере конструкции «X состоит из У») / Т.С. Маркарова // Филологические науки. 1986. - № 6. - С. 45-54.
84. Маркарова, Т.С. Конструкции с партитивными отношениями, выражающими неполный состав целого / Т.С. Маркарова // Филологические науки. 1991. - №6. - С. 106-111.
85. Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие. Минск: ТетраСистем, 2004 - 256 с.
86. Мещанинов, И.И. Понятийные категории в языке / И.И. Мещанинов // Тр. Военного института тюсгранныхязыков. 1945. - № 1. — С. 54-69.
87. Мещанинов, И.И. Типологические сопоставления и типология систем / И.И. Мещанинов // НДВШ. Филологические науки. 1958. -№ 3. -С. 43-67.
88. Мещанинов, И.И. Соотношение логических и грамматических категорий / И.И. Мещанинов // Язык и мышление. М. : Наука, 1960. -С. 71-96.
89. Мигирин, В.Н. Грамматика, логика, философия в их связях и взаимодействиях / В.Н. Мигирин. Кишинев : Инесса, 2002. — 256 с.
90. Налимов, В.В. Вероятностная модель языка: о соотношении естественных и искусственных языков / В.В. Налимов. Томск - М. : Водолей Publishers, 2003. - 368 с.
91. Никитин, М.В. Основы лингвистической теории значения / М.В. Никитин. М. : Высшая школа, 1988. - 168 с.
92. Никитин, М.В. Основания когнитивной семантики : учеб. пособие / MB. Никитин ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. СПб., 2003. -277 с.
93. Никитина, С. Е. Семантический анализ языка науки: На материале лингвистики /С.Е. Никитина // отв. ред. Н.А. Союсарева. 2-е изд., испр. и доп. М. : Либроком, 2010.- 146 с.
94. Никитина, Л.Б. Образ homo-sapiens в русской языковой картине мира: монография/ Л.Б. Никитина; Гос. пед. ун-т. Омск, 2003. - 188 с.103 .Падучева, Е.В. О семантике синтаксиса / Е.В. Падучева. М. : Школа «Языки русской культуры», 1974. - 354 с.
95. Панфилов, В.З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания / В.З. Панфилов. М. : Наука, 1982. 357 с.
96. Паршин, П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике ХХв. / П.Б. Паршин // Вопросы языкознания. -1996— №2.-С. 19-42.
97. Петровская, С.А. Принципы полевого подхода к категории модальности / С.А. Петровская // Понятийные категории и их языковая реализация. Л. : ЛГПИ, 1989. - С. 65-72.
98. Пешковский, A.M. Русский синтаксис в научном освещении / A.M. Пешковский. М. : Учледгиз, 1956. - 511 с.
99. Пиотровский, Р.Г. Инженерная лингвистика и теория языка / Р.Г. Пиотровский. — JI. : Наука. Ленинградское отделение, 1979. 112 с.
100. Плотников, Б.А. О форме и содержании в языке / Б.А. Плотников. -Минск : Вышэйиг. Шк, 1989. 252 с.
101. Плотникова, A.M. Многозначность русского глагола: когнитивное моделирование (на материале глаголов социальных действий и отношений): Монография. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2006. - 206 с.
102. Плунгян, В. А. Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках современной корпусной лингвистики / В.А. Плунгян // Русский язык в научной освещении. — 2008. — № 2 (16). С. 7—20.
103. Полевые структуры в системе языка / под ред. И.А. Стернин ; Воронеж, гос. ун-т. Воронеж, 1989. - 200 с.
104. S.Попова, З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова И.А. Стернин 3-е изд. - Воронеж : Истоки, 2002. - 60 с.
105. Попова, З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д. Попова И.А. Стернин. Воронеж : Истоки, 2003. - 246 с.
106. Попова, З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка (внутренняя организация, категориальный аппарат и приемы изучения) Учебное пособие. Воронеж, гос. ун-т. — Воронеж, 1984. - 148 с.
107. Попова, З.Д., Стернин, И.А. Когнитивная лингвистика: монография / З.Д. Попова, И.А. Стернин. М. : ACT; Восток - Запад, 2007. - 314 с.
108. Попова, Т.В. Способы глагольного действия в толково-идеографическом словаре русских глаголов / Т.В. Попова // Глагол и имя в русской лексикографии: Теория и практика. Екатеринбург, 1996.-С. 63-67.
109. Попова, Т.Г. Языковое сознание и языковая личность / Т.Г. Попова // Реальность, язык и сознание : международ, межвуз. сборник науч. тр. Вып.2. Тамбов, 2002. - 453с. - С. 412-415.
110. Потебня, А. А. Собрание трудов. Мысль и язык / А. А. Потебня . -М. : Лабиринт, 1999. 269 с.
111. Почепцов, О.Г. Языковая ментальность: способ представления мира / О. Г. Почепцов // Вопросы языкознания 1990. -№ 6. - С. 110-123.
112. Прерывное и непрерывное / под ред. М.Д. Ахудов. Киев: Наукова Дума, 1983.-312 с.
113. Психологические проблемы семантики / А.А. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов, P.M. Фрумкина и др.; отв. ред. А.А. Леоньев, A.M. Шахнарович /. -М. : Наука, 1983. 285 с.
114. Рахилина, Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость / Е.В. Рахилини. — М. : Русские словари, 2004. 416 с.
115. Руденко, Д.И. Имя в парадигмах «философии языка» / Д.И. Руденко-Харьков: Основа, 1990. -299 с.
116. Русская глагольная лексика: пересекаемость парадигм: Памяти Эры Васильевны Кузнецовой / под ред. Л.Г. Бабенко ; Урал. гос. ун-т. — Екатеринбург, 1997. 520 с.
117. Рылов, Ю.А. Определенность / неопределенность Ю.А. Рылов // Аспекты языковой картины мира: итальянский и русский языки. -М.: Гиозис, 2006. С. 7-34.
118. Рябцева, Н. К. Язык и естественный интеллект / Н.К. Рябцева. -Москва : Academia : Российская академия наук, Институт языкознания, 2005. 639 с.
119. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Пер. с англ. под ред. А. Е. Кибрика. 2-е изд., -М. : Прогресс, 2001. -655 с.
120. Серебренников, Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление / Б.А. Серебренников. — М. : Наука, 1988. 378 с.
121. Серп, Дж. Открывая сознание заново / Дж. Серл: перевод с англ. А.Ф. Грязнова. М. : Идея - Пресс, 2002. - 256 с. ^
122. Силин, А.А. Онтология целого в аспекте систематизации наук /А.А. Силин // Системный подход в современно науке. М. : Прогресс -традиция, 2004. - С. 366 - 385.
123. Ситникова, Н.Э. К вопросу об идентификации существительных-партитивов в современном английском языке / И.Э. Ситникова // Язык как структура и социальная практика. — Хабаровск, 2001. -Вып. 2.-С. 110-116.
124. Скворцов, О.Г. Дискурс Интернета: монография / О.Г. Скворцов, Э.А. Лазарева, Е.В. Горина. Екатеринбург: Институт международных связей, 2009. - 177 с.
125. Средства выражения количества в русском языке / отв. ред. М.М. Копыленко. Алма-Ата : Евразия, 1993. 230 с.
126. Степанов, Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. — М. : Языки русской культуры, 2001. 784 с.
127. Стернин, И.А. Лексическое значение слова и речи / И.А. Стернин. -Воронеж, гос. ун-т. Воронеж, 1985. - 260 с.
128. Стернин, И.А. Когнитивная интерпретация в лингвокогнитивных исследованиях // З.Д. Попова, И.А. Стернин, В.И. Карасик и др. Введение в когнитивную лингвистику. Кемерово: Графика, 2004. -С. 45-52.
129. Существительные в современном русском языке. — М. : Флинта : Наука, 2008.- 193 с.
130. Телия, В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. М. : Наука, 1986. - 268 с.
131. Телия, В.Н. Русская фразеология. Семантический, пригматический и лингвокульторологический аспекты. М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. - 288 с.
132. Теория функциональной грамматики. Т.5. Качественность. Количественность / Отв. ред. А.В. Бондарко. — СПб. 1996. 264 с.
133. Тимофеев, И.С. Категория «качество» и «количество» в познании / И.С. Тимофеев. М., 2002. - 248 с.
134. Типы знания и их репрезентация в языке. — Тамбов : Изд-во Тамб. Гос. ун-та, 2008.-311 с.
135. Тураева, З.Я. Некоторые особенности категории количества (на материале английского языка) / 3. Я. Тураева, Я. Г. Биренбаум // Вопросы языкознания. 1985. - № 4. - С. 122-130.
136. Урысон, Е.В. Фундаментальная способность человека и наивная анатомия / Е.В. Урысон // Вопросы языкознания. 1995 - №3- С. 3-16.
137. Урысон, Е.В. Языковая картина мира и лексические заимствования Е.В. Урысон // Вопросы языкознания. 1999 - №6. - С. 79-82.
138. Успенский, Б.А. Часть и целое в русской грамматике / Б.А. Успенский. -М. : Языки славянской культуры, 2004. 128 с.
139. Уфимцева, А. А. Лексическое значение: Принцип семиологического описания лексики / под ред. Ю.С. Степанова. 2-е изд., стереотип.1. М. : УРСС , 2002. 240 с.
140. Филлмор, Ч. Основные проблемы лексической семантики / Ч. Филлмор // Новое в зарубежной лингвистике М. : Радуга, 1983. -Вып. 12.-С. 74-123.
141. Холодович, А.А. Категория множества в японском в свете теории множества в языке / А.А. Холодович // Проблемы грамматической теории. Л. : Наука, 1979.-С. 176-194.
142. Храковский, B.C. Типы грамматических описаний и некоторые особенности функциональной грамматики / B.C. Храковский // Проблемы функциональной грамматики. — М. : Русский язык, 1985. — С. 56-68.
143. Хроленко, А.Т., Бондалетов, В. Д. Перспективные маршруты лингвистического поиска / А.Т. Хроленко, В.Д. Бондалетов // Теория языка: учебное пособие. М. : Флинта : Наука, 2006. - С. 480-494.
144. Худяков, А.А. Отношение категории числа существительного к понятийной категории количественности и к количеству / А.А. Худяков // Коммуникативный аспект языка: процессы и единицы. Л. : Наука, 1991.-242 с.
145. Черемисина, Н.В. Языковые картины мира и их семантическое , взаимодействие в художественном тексте / Н.В. Черемисина //
146. Человек. Язык. Искусство (памяти проф. Н.В. Черемисиной): Материалы Междунар. науч.-практ. конф. М. : МГПУ, 2002. 363 с.
147. Чеснокова, Л.Д. Выражение категории количества глагольными формами в современном русском языке / Л.Д. Чеснокова // Вопросы языкознания. 1983. - №6 - С. 82-90.
148. Чеснокова, Л.Д. Категория количества и способы её выражения в современном русском языке / Л.Д. Чеснокова. Таганрог, 1992. - 340 с.
149. Чеханова, Н.В. К вопросу о проявлении антропоцентричности на лексическом уровне / Н.В. Чеханова // Единство системного и функционального анализа языковых единиц: мат-лы регион, науч. конф. Вып. 7: в 2-х ч. Ч. 2. Белгород, 2003. — 228 с.
150. Число-язык-тексты: Сб. статей. -Мн. : Бепгосунивеситет. 1998. -303 с.
151. Чудинов, А.П. Регулярная многозначность. Регулярное речевое варьирование глагольной семантики / А.П. Чудинов //
152. Многозначность в лексике современного русского языка: монография / под ред. А.П. Чудинов; Урал.гос. пед.ун-т. Екатеринбург, 1999. - 140 с.
153. Шмелев, А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю / А.Д. Шмелев. М. : Языки славянской культуры, 2002. - 224 с.1\.Шмелев, А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность / А.Д. Шмелев. М .: Языки славянской культуры, 2002. 423 с.
154. Щур, Г.С. Теория поля в лингвистике / Г.С. Щур. 2-е изд. испр и доп. - М. : Изд-во ЛКИ, 2007. - 264 с.
155. Яковлева, Е.С. Фрагмент русской языковой картины времени / Е.С. Яковлева // Вопросы языкознания. 1994. - 5. - С. 73-89.
156. Яновская, С.А. Определение количества. Об экстенсивном и интенсивном количестве // На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: Философии и мировоззрение / Сост. П.В. Алексеев. М.: Политиздат, 1990. - С. 467^84.
157. Ярцева, В.Н. Контрастивная лингвистика / В.Н. Ярцева —М. : Наука, 1981.-236 с.
158. Aitchison, J. Words in mind. An introduction to the mental lexicon: 2nd ed. Blackwell; Oxford, 1994. 290 p.
159. Ml.Artale, A, Franconi E, Guarino N, Pazzi L. Part-Whole Relations in Object-Centered Systems: an Overview. Data and Knowledge Engineering, 1996, 20 (3): P. 347-383.
160. Beyer, Th.G. The cognitive basis for linguistic structures // Cognition and the Development of Language. Annual Series. №4. N. - Y., 1970. -P. 279-362.
161. Bochman, A. Mereology as a theory of part-whole // Lotigue et Analyse 1990.- 130 p.
162. Borg, E. semantic category and surface form / E. Borg // Analysis. -Oxford, 1998. Vol. 58, # 3. - P. 232-238.181 .Bunt, Harry, Mass terms and model-theoretic semantics. Cambridge Univ. Press. 1985.-213 p.
163. Cognitive linguistics: Foundations scope and methodology/ Ed. By T. Janson, G. Redeker. Berlin; N.Y., 1999. 315 p.
164. Friedman, S. L., Rlivington K.A., Peterson R. W. The Brain, Cognition, and Education. Orlando : Academia Press, INC. 1986. 386 p.
165. Goddard, Cliff; Weirzbicka Anna Meaning and Universal Grammar. Theory and empirical findings. Volume 1 Amsterdam: John Benjamins 2002. 350 p.
166. Gruber, J.S. Lexical and conceptual semantic categories / J.S. Gruber // Proceedings of the Xlllth International congress of linguists, August 29 -September 4, 1982, Tokyo. Tokyo, 1983. - P. 528-533.
167. Halliday, M.A.K. Lexicology and Corpus Linguistics: an introduction Text. / M.A.K. Halliday, W. Teubert, C. Yallop, A. Cermakova // Continuum: London-New York, 2005. 185 p.
168. Jespersen, Otto The Philosophy of Grammar. With a new Introduction and Index by James D. McCawley. 1992. 372 p.
169. Lakoff ,G. Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind. L.: Univ. of Chicago Press, 1987. 615 p.
170. Langacker, R.W. Concept, image and symbol: The cognitive basis of grammar. Berlin: Mouton de Gruyter, 1990. 381 p.
171. Moltmann, F. Parts and Wholes in Semantics. Oxford University Press 1997.-272 p.
172. Mimn Norman, L. Psychology : The Fundamentals of Human Adjustment Second Edition. Boston : Houghton Mifflin Company, 1946. 624 p.
173. Partee, B.H., A.G.B. ter Meulen & R.E. Wall, Mathematical Methods in Linguistics. Kluwer, Dordrecht, 1990.-412 p.
174. Parts and Wholes in Language. In: "Parts and Wholes". (Ed. By D. Lerner). New York - London, 1971, - P. 280-284.
175. Pete, I. Семантические типы количественных отношений // Die Welt der Slawen. Munchen, 1981. P. 338-345.
176. Reitman, W.R. Cognition and Thought : An Informative Approach.- New York London - Sydney : John Wiley & Sons, Inc. 1999. - 312 p.
177. Rosch, E. Cognitive Representations of Semantic Categories // Journal of Experimental Phychology. 1975.-P. 192-233.
178. Sapir, E. Totality Language, Vol. 6, No. 3, Language Monograph No. 6: Totality. 1930-P. 7-28.
179. Sinclair, J., Corpus, Collocation, Concordance Oxford University Press, Oxford, 1991.-213 p.
180. Smith, B. Mereotopology: A theory of parts and boundaries. Data and knowledge engineering, 1996. 287-303.
181. Tognini-Bonelli, E. Corpus Linguistics at work John Benjamins: Amsterdam, 2001.- 180 p.
182. Ulman, S. The principles of Semantics / Glasgow Oxford, 1959. - 460 p.
183. Ungerer, F., Schmid H.J. An introduction to cognitive linguistic. L.; N.Y., 1996.-306 p.
184. Varzi, А. С. Parts, wholes, and part-whole relations: The prospects of mereotopology.// Data and Knowledge Engineering 1996. -P. 259-286.
185. Weirzbicka, A Semantics. Culture. Cognition. Universal Human Concepts in Culture Specific configurations. Oxford University Press. -1992. — 496 p.
186. Willem, Robert van Hage, Hap Kolb, and Guus Schreiber. A Method of Learning Part-Whole Relations. 1998. 412 p.
187. Winston, Morton E,. Roger Chaffin, and Douglass Herrman. A Taxonomy of Part-Whole Relations. Cognitive Science, 1997. P. 417^444.
188. Woodworth, R. S. Experimental Psychology. New York : Holt, 1938. 223 p.1. Словари и справочники
189. Большой толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы. Английские эквиваленты / под ред. проф. Л.Г. Бабенко. -М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. 576 с.
190. Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы / Под ред. Л.Г. Бабенко. 2-е изд., стер. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. - 864 с.
191. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, в 4-х т. / Владимир Даль. — М. : Русский язык, 1981.
192. Зализняк, А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение / А.А. Зализняк М.: Русский язык, 1977. - 880 с.
193. Золотова, Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса/Г. А. Золотова.-М: Наука, 1988.-440 с.
194. Ивии, А.А. Словарь по логике / А.А. Ивин, A.JI. Никифоров. М.: Владос, 1998.-384 с.
195. Канке, В.А. Философия науки: краткий энциклопедический словарь/ В.А. Канке. М. : Омега - Л, 2008. - 328 с.
196. Кондратов, В. А. Новейший философский словарь / В. А. Кондратов, Д. А. Чекалов, В. Н. Копорулина ; под общ. ред. А. П. Ярещенко. -Ростов н/Д : Феникс, 2005. 668 с.
197. Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е.С. Кубряковой. М. : Филол. ф-т МГУ, 1996. - 197 с. (сокр. КСКТ).
198. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.В. Ярцева. 2-е изд., дополненное. - М.: Большая российская энциклопедия, 2002. - 685 с. (далее сокращ. - ЛЭС).
199. Новый частотный словарь русской лексики: www.dict.ruslang.ru
200. Объяснительный словарь русского языка: Структурные слова. — М.: изд-во ACT, 2002. 432 с.
201. Русский язык: Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. - 704 с.
202. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований; под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. - М. : рус.яз., Полиграфресурсы, 1999.
203. Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов, М.: Ридерз Дайджест, 2004.-960с.
204. Философский энциклопедический словарь. М. : ИНФРА - М, 1999. -576 с.
205. Шарков, Ф.И. Коммуникология: энциклопедический словарь — справочник. -М. : Дашков и К°, 2009. 768 с.
206. Шаров, А.С. Частотный словарь русского языка, 2002 / А.С. Шаров: http: // www.artint.ru/projects/fglist.asp.
207. Частотный словарь русского языка / под ред. JI.H. Засориной. — М. : Русский язык, 1977. 936 с.
208. A comprehensive Etymological Dictionary of the English Language by Dr. Ernest Klein. Unabridged, one-volume edition. Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York. 1974. 844 p.
209. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press 1999.- 1774 p.
210. Collins Concise Dictionary and Thesaurus. Harper Collins Publishers. 1993.- 1139 p.
211. David, C. The Cambridge Encyclopedia of The English Language. / C. David. — Cambridge University Press 2001 - 490 p.
212. Kirsten, M. The Linguistic Encyclopedia, Second edition / M. Kirstin. London and New York : Routledge, 2002. 646 c.
213. Lingvo Essential // ABBY LINGVO 12.0
214. Longman: Dictionary of contemporary English. Third edition. Pearson Education Limited. 2001. 1668 p.
215. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. International Student Edition. Macmillan Publishers Limited. 2006. 1692 p.
216. New Webster's Dictionary of the English Language. College Edition. Surjeet Publications. Fourth Reprint. USA. 1988. 1824 p.
217. Online Plain Text English Dictionary. электронный ресурс
218. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford. New York. Oxford University Press. 1997. 410 p.
219. Sole R. Dictionary of English Synonyms and Synonymous Expressions. -Boston, 1959.-1204 p.
220. The American Heritage Dictionary of the English Language. — электронный ресурс.
221. The Encyclopaedia Britannica. Micropeadia. Chicago, 1994. Fifteenth edition, v.2. 984 p.
222. The World Book Dictionary. World Book, Inc. 1996. 2340 p.