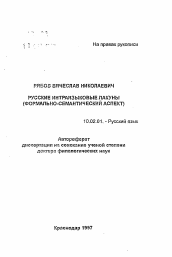автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.01
диссертация на тему: Русские интраязыковые лакуны (формально-семантический аспект)
Полный текст автореферата диссертации по теме "Русские интраязыковые лакуны (формально-семантический аспект)"
- —. г\ ^
< п .- - На правах рукописи
РЯБОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
РУССКИЕ ИНТРАЯЗЫКОВЫЕ ЛАКУНЫ (ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
10.02.01. - Русский язык
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук
Краснодар 1997
Диссертация выполнена на кафедре общего и славянорусского языкознания Кубанского государственного университета
Научный консультант - доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент МАН ВШ Немец Г.П.
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор Белянин В.П. доктор филологических наук, профессор Каде Т.Х. доктор филологических наук, профессор Тихонов А.Н.
Ведущая организация - Ростовский государственный
педагогический университет
Защита состоится Ш ^1998 года в 9 часов утра на заседании специализированного совета Д 063.73.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук в Кубанском государственном университете по адресу: 350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149, ауд. 231.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Кубанского госуниверситета.
Автореферат разослан & 9 ^^^^ 199/года
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филологических наук . ^
доцент Факторович А.Л.
В последние сорок лет, т.е. с тех пор, как слово лакуна вошло в лингвистический обиход, проблема описания незаполненных клеток в системе языка стала привлекать все более пристальное внимание исследователей. Правда, языковые явления, обозначаемые этим словом, достаточно давно известны, и для их описания использовались такие термины, как недостаточность нормы, инвариант, потенциальное слово и т.д. Однако эти термины не в полном объеме отражают семантику слова лакуна, вливаясь своим семантическим наполнением или целиком, или частично в структуру его словарной статьи.
Слова лакуна с пометой "филологическое" начало появляться в толковых словарях русского языка только с середины 80-х годов 20 в., а как лингвистическое явление отмечено и того позже (грамматическая лакуна -отсутствие тех или иных грамматических форм слова) - в вышедшем в 1993 г. в Москве "Немецко-русском и русско-немецком словаре лингвистических терминов (с английскими элементами)" А.Н.Баранова и Д.О. Добровольского. Предложенное в нем толкование позволяет использовать понятие лакуна не только при сопоставлении языков, но и в одноязычной ситуации. Предметом же нашего исследования являются именно интраязыковые лакуны.
Вслед за Д.Н.Ушаковым, С.И.Карцевским, Н.С.Поспеловым, А.И.Смирницким, В.Г.Адмони, Ю.С.Степановым, Р.А.Маркарян, Л.А.Леоновой, В.Л.Муравьевым, В.И.-Жельвис, за ГА.Антипобым, О.А.Донских, И.Ю.Маркови-ной, Ю.А.Сорокиным, авторами книги 'Текст как явление культуры" (Новосибирск, 1989), основными признаками того, что попадает под определение лакун, считаем следующие: непонятность, непривычность, уникальность, экзотичность, чуждость, удивительность, незнакомосггь, неожиданность и даже ошибочность или неточность. Лакуны - это то, чего хотя и нет, но потребность в чем очевидна и может быть удовлетворена. Таким образом, определение лакун как некоторых образований представляется
нам обоснованным: они прогнозируемы, а зачастую и планируемы. Значимые отсутствия - это самые разнородные структуры, типизирующие самые разнородные стороны речевой коммуникации, а потому мы и воспринимаем их в системе как структуры, потенциально готовые к реализации в речи. С этих позиций, лакуны - интересный материал не только для спецкурсов и спецсеминаров у студентов-филологов, но и для ординарных учебных дисциплин. Структуры материально выраженные являются фоном, на котором проявляется вещественное отсутствие слова или формы слова. Но это с одной стороны. С другой стороны, языковые отсутствия помогают глубже познать образования материально выраженные, выявить степень их самодостаточности, содержат в себе информацию, позволяющую спроецировать пути и способы их элиминирования в текстах самой разной стилистической принадлежности. Развернутое исследование означенных проблем пока не осуществлялось, чем и определяется актуальность данной работы.
Несмотря на постоянное и пристальное внимание лингеистов к проблемам значимых нулей, они еще не решены с достаточной степенью полноты и конкретности. Отсутствие строго описанной системы незаполненных клеток в системе языка на разных ярусах его развития (морфологическом, словообразовательном и т.п.) не способствует утверждению их в качестве равноправных членов той или иной парадигмы. Научная новизна работы состоит в определении статуса интраязыковых лакун с точки зрения их места в составе внутрисловной или межсловной парадигмы, в выяснении их роли в выявлении действительных соотношений между унифицирующей и дифференцирующей тенденциями языка в объеме их и реальных, и потенциальных характеристик.
Объектом исследования служат формы числа существительных, краткие формы и сравнительная степень прилагательных, безличные формы личных глаголов,
словообразовательно значимые слова как способы элиминирования интраязыковых лакун в художественных текстах. Основной целью работы является рассмотрение того, каков механизм элиминирования лакун в художественном тексте, каким образом его автор как личность проявляется в такой ситуации. В связи с этим ставятся конкретные задач« диссертационного исследования: 1) определение статуса интраязыковых лакун в составе тех или иных (морфологических, словообразовательных и т.п.) языковых парадигм; 2) определение места элиминированных морфологических и словообразовательных лакун в общей системе русской лексики; 3) выявление текстообразующего потенциала элиминированных лакун; 4) анализ содействий и противодействий элиминированию морфологических и словообразовательных лакун; 5) анализ причин эволюции интраязыковых лакун в текстах русских писателей различных эпох; 6) анализ системных свойств значений интраязыковых лакун, их места в системе лексических и грамматических значений и условий реализации; 7) рассмотрение факторов, влияющих на характер формально-семантической структуры интраязыковых лакун; 8) показ специфики интраязыковых лакун, анализ особенностей их функционирования в художественных текстах; 9) выявление приемов представления интраязыковых лакун в толковых словарях.
Решением этих задач определяется научно-практическое значение работы, состоящее в том, что результаты ее могут быть использованы: 1) в вузовском преподавании морфологии и словообразования русского языка, в т.ч. в спецкурсах и спецсеминарах по вопросам сис-темности-асистемности в языке; 2) в лексикографической практике при разработке типов толкований слов с неполной, ущербной парадигмой; 3) при составлении словаря интраязыковых лакун, т.е. слов с затруднительным образованием от них форм слов или самостоятельных слов; 4) при проведении занятий по лингвистическому
комментированию художественного текста как в русской, так и в нерусской, особенно иностранной аудитории. Положения диссертации используются при чтении спецкурса на филологическом и факультете романо-германской филологии Кубанского госуниверситета, а также при разработке тематики курсовых и дипломных работ.
Материалом для исследования послужили существительные, образование от которых форм мн. ч. носит предположительный, затруднительный характер, прилагательные, испытывающие противодействия при образовании от них кратких форм и сравнительной степени, личные глаголы в безличном значении, необычные именно этим своим свойством, производные слова, являющиеся частью ущербных словообразовательных парадигм. Для анализа отбирались слова, элиминированные лакуны которых мы могли наблюдать в художественных текстах русской литературы 19-20 веков. Большинство текстов относятся к тем, которые принято квалифицировать как произведения классической литературы.
С учетом основной цели исследования были избраны источники фактического материала. Это, в первую очередь "Грамматический словарь русского языка. Словоизменение" А.А.Зализняка (М., 1977) и "Обратный словарь русского языка" (М., 1974), которые вобрали в себя данные четырех основных толковых словарей времени, предшествующего их выходу. Кроме того, использовались данные словарей Ожегова 85, 90, MAC - 84, "Словаря современного русского литературного языка" в 20-ти томах (М., 1991-1994, т. 1-6), "Морфемно-орфографичес-кого словаря" А.Н.Тихонова (М., 1996), многочисленных словарных материалов "Новое в русской лексике" (М., 1980, 1984, 1986 и т.д.) и др. с тем, чтобы по возможности проследить судьбу слов, отмеченных в "Грамматическом..." и "Обратном..." словарях русского языка. Для подтверждения правильности выводов исследования или обоснования собственной точки зрения привлекалась
информация прежде всего "Орфоэпического словаря русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы" (М., 1993), "Словообразовательного словаря русского языка" А.Н.Тихонова в 2-х томах (М., 1985), "Частотного словаря русского языка" (М., 1977), а также "Краткого словаря трудностей русского языка", "Словаря устойчивых сравнений русского языка" Л.А.Лебедевой (Краснодар, 1994), "Школьного словообразовательного словаря" (М., 1964) и учебного словаря для зарубежных школ "Строение русского слова" ЗЛ.Потихи (М., 1981). Выборка части необходимых для анализа слов производилась из газет и журналов.
Основным методом исследования избран описательно-сопоставительный метод синхронного анализа лингвистических единиц. На разных этапах работы использовались разновидности этого метода и другие приемы, в ряду которых главным был метод системного морфологического и морфемно-словообразовательнбго анализа. интраязыковых лакун. Приемы лингвистического наблюдения применялись при отборе для исследования слов с затруднительным образованием от них тех или иных форм слова или самостоятельных слов, приемы контекстуального анализа - при установлении формально-семантической значимости составляющих художественного текста, в т.ч. слов, ставших средством элиминирования лакун, приемы классификации и систематики - при выяснении характера произошедшего с лакуной видоизменения, степени его семантического или структурного преобразования, приемы компонентного анализа - при выявлении дифференцирующих признаков лакун, приемы статистической характеристики - при установлении путей и способов заполнения пустых клеток в системе языка, при выявлении типов представления слов с неполной парадигмой в толковых и др. словарях.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Интраязыковые лакуны - это образования, реально не существующие в языке, но потенциально готовые к реализации в речи. Как составляющие межсловных или внутрисловных парадигм именно они определяют их ущербный статус. Интраязыковые лакуны выделяются на основании соотнесения слов или форм слов, материально выраженных, со словами или формами слов, не имеющими материального выражения в языке, но обладающими способностью обрести его в речи. Выявляемое таким образом вещественное отсутствие языковых единиц способствует прояснению их потенциальных характеристик, становится мерой их перспективности. Отношения между словамй или формами слов, составляющими ущербную парадигму, как и в обычных ситуациях, носят непременно взаимный характер. Структуры, материально выраженные, являются фоном, на котором проявляется вещественное отсутствие слова или формы слова, языковые же отсутствия способствуют выявлению степени самодостаточности образований, материально выраженных.
2. Системность художественного текста строится комплексом языковых и экстралингвистических образований, в т.ч. значимых "нулей", наблюдаемых на разных ярусах развития языка. Интраязыковые морфологические и словообразовательные лакуны как лексический элемент реализуют семантические установки текста, соотносятся с сознанием автора и возможных читателей, являются результатом личностных предпочтений писателя. Художественный текст рассматриваем как контекст интраязыковой лакуны, позволяющий отразить ее значимость, потребность в элиминировании в наиболее престижном варианте. Изучение интраязыковых лакун предпочтительно вести не от формы к значению, а от значе-
ния в его контекстуальной интерпретации к форме, что позволяет наблюдать их не только в статике, но и в реально замечаемых динамических проявлениях. Художественный текст - своеобразная лакмусовая бумажка, на которой проявляются достоинства и недостатки потенциальных образований, мастерство их лингвистического представления.
3. Значения числа являются важной составляющей семантики существительных, однако не всегда приводят к формированию в языке числовых противопоставлений. В речи же противодействия образованию форм мн.ч. не имеют решающей силы. Таким образом, количество существительных, не имеющих во всех падежных формах форм мн.ч., исчисляется, в основном, несклоняемыми словами, да и то, если не считать их в ед. и во мн.ч. разными формами одного слова. Даже в косвенных падежах числовые противопоставления заканчиваются элиминированием лакун. Заполнение лакун существительных ед. ч. Формами мн. имеет целью не только представить во множестве предметы или явления, но и подчеркнуть, что это множество членимо на составляющие. Оценка числовых форм происходит в языковом сознании и писателя и читателя художественного текста, т.е. очень многие формы мн. ч. обладают особой интерпретацией объекта. Такие существительные служат составляющей творческой манеры многих писателей (М.Е.Салтыков-Щедрин, М.А.Булгаков, А.Белый, И.А.Ильф и Е.П.Петров и др.), определяют специфику их художественных произведений.
4. Степени сравнения и краткие формы прилагательных - явления сложные и многообразные и образуют нередко не четкие группы классификаций, а школу, отражающую постепенное уменьшение одних свойств и нарастание других. Эти слова имеют такие характеристи-
ки, которые побуждают нас видеть в них самостоятельные слова, и такие, которые оставляют их все-таки в ряду форм прилагательных. Очень жесткой зависимости между образованием кратких форм и сравнительной степени нет. Образование сравнительной степени требует соблюдения большего количества условий, чем при образовании кратких форм, ведь здесь образующим средством является не флексия, а суффикс. Прилагательных, у ко--Горых нет сравнительной степени, значительно больше, чем тех, от которых нельзя образовывать краткие формы. Образование компаративов и кратких форм допустимо не только от качественных, но и от относительных прилагательных, тем более, что границы между ними, как правило, весьма условны.
5. В отличие от глаголов 3-его лица, выражающих отнесенность действия к лицу, которое не является ни говорящим, ни собеседником, те же, но уже безличные (т.е. личные в безличном значении) глаголы в определенном контекстном окружении отнесенность действия к участникам речевого акта могут выражать достаточно заметно, представляя субъект в некоторой зависимости по отношению к самому, себе. Морфологический аспект элиминирования лакун личными глаголами в безличном значении является определяющим, не выводя семантические характеристики потенциальных безличных глаголов в разряд решающих. Употребления личных глаголов в значении безличных рассматриваются в ряду частотных способов элиминирования морфолого-словообразова-тельных лакун в произведениях русских писателей особенно декадентских направлений. Специфика таких глаголов в их ориентированности именно на художественный текст; способности своим появлением эмоционально "оживить" его.
'6, Устойчивые сравнения, состоящие из союза как, семантически опорного существительного и в пре- или
постпозиции по отношению к нему прилагательного, находятся в зоне континуума, охватываемого пространством между бесспорной фразеологичностью и бесспорной нефразеологичностью, то приближаясь, то удаляясь по отношению к каждому из этих полюсов. Устойчивые сравнения структурно не консервативны и допускают замену компонентов, их перестановку, эллиптирование, контаминацию и другие модификации своего структурно-грамматического облика. Изменение формы семантически опорного существительного таких сравнений невозможно без замены слов из их обязательного лексического окружения, хотя существительное и выступает по отношению к ним в позиции зависимого члена. Наличие или отсутствие запятых - не просто структурный признак сравнений: отсутствие их подчеркивает близость оборотов к устойчивым сравнениям, наличие - к свободным. Автор текста, выделяя или не выделяя на письме запятыми сравнения, специально или неспециально, но дает им характеристики сточки зрения устойчивости - неустойчивости. Приоритет формы И.п. для существительных, выступающих в качестве семантически опорного слова устойчивых сравнений, очевиден, однако И.п. допускает употребление семантически опорных слов и в формах косвенных падежей. Если же семантически опорное слово в качестве наиболее приемлемого для сравнения предъявлено в форме какого-либо конкретного косвенного падежа, то в других падежных формах оно уже, за редким исключением, в составе этого сравнения не употребляется. Устойчивые сравнения с семантически опорным словом в форме И.п. -это образец, через соотнесение с которым выводятся семантические характеристики потенциальных свободных сравнений, т.е. сравнений с семантически опорным словом в косвенных падежах, имеющих перспективы стать средством элиминирования лакун. Только особый контекст может трансформировать устойчивый сравнительный оборот в союзный сравни-
тельный, и относиться к нему следует как к образованию исключительно индивидуально-авторскому.
7. Характер отношений неологизма с мотивирующими словами, пусть и не непосредственных, определяет его перспективы быть отмеченным в словарях, подсказывает правомерность или неправомерность заполнения им словообразовательной лакуны, способствует выяснению степени частотности такого новообразования в возможных художественных текстах вообще и конкретного автора в частности. Словообразовательная парадигма является достаточно открытой системой, способной к пополнению за счет новообразований самого разного рода. Формально - смысловые потенции корней, суффиксов, префиксов, флексий и т.д. - это тот указатель, по которому ориентируется окказионалист, созидая слово, вводя его в контекст. Слово - это определенным образом организованная система, являющаяся частью общей словообразовательной системы русского языка, и именно этим обусловлен его текстовый потенциал, возможность быть базой для новообразований, элиминирующих лакуны. Словообразование - это выполнение заказа на новое слово, т.е. заменаходной структуры другой, даже если такими структурами являются их отсутствия. Словообразовательные отношения между членами словообразовательной пары типизируют пути и способы функционирования таких слов в контекстах, являются базой, определяющей схемы, по которым могут строиться неологизмы, по которым могут заполняться словообразовательные лакуны. Зависимость формально-семантического устройства и сочетаемостиых перспектив лакун выводится от того, насколько соотносимы они в голове субъекта со словами, их мотивирующими, насколько предсказуемы они семантикой всего текста. Социальные потрясения или даже просто изменения могут вносить свои коррективы в судьбу слова, выводя его из разряда необыч-
ных в разряд легко узнаваемых, не шокирующих читателя свой необычностью.
Структура работы определяется ее исследовательскими задачами. Диссертация состоит из введения, шести глав (сгруппированных в два раздела), заключения, словников существительных с затруднительным образованием от них форм множественного числа и прилагательных, с затруднительным образованием от них сравнительной степени и кратких форм и библиографии.
Содержание работы
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и научная новизна, определяется объект, предмет и задачи исследования, устанавливаются исходные теоретические позиции, дается краткий обзор научных позиций лингвистов, определяющих современные подходы к изучению интраязыковых лакун и путей и способов их элиминирования в художественных текстах.
Раздел первый "Интраязыковые лакуны в русской морфологической системе", включающий главы "Интраязыковые лакуны имен существительных", "Интраязыковые лакуны имен прилагательных", "Интраязыковые лакуны сравнительных оборотов", "Безличные формы личных глаголов как средство элиминирования интраязыко-вых лакун", посвящен рассмотрению основных положений теории интраязыковых лакун вообще и морфологических в частности, в нем выявляются универсальные и присущие только интраязыковым морфологическим лакунам признаки, устанавливаются сходства и отличия в характере и способах элиминирования интраязыковых морфологических лакун в художественных произведениях русских писателей разных эпох.
Виды структурной организации грамматических единиц являются не последними по значимости составляющими системы построения русского, как, впрочем, и лю-
бого другого языка. Раз парадигма - это система, то грамматические лакуны - это некоторые образования, которые: 1) принципиально возможны, но на уровне языковой нормы языком не затребованы, а потому и существуют только как узуальные образования с перспективой обрести нормативный статус; 2) реально существуют, однако по тем или иным причинам малоупотребительны, а то и уникальны; 3) принципиально невозможны в силу противодействий, носящих запретительный характер, но могут быть представлены синонимами или иными структурами этого же толка. Парадигмы, в состав которых входят такие единицы, следует оценивать как ущербные и даже неполные, ибо малоупотребительность или отсутствие того или иного слова или формы слова - это именно недостаток их системной организации, затрудняющий языковое общение. Значимые отсутствия всехтрех групп -образования потенциальные, представляющие один из способов элиминирования лакун. Третий способ универсален в том смысле, что может быть применен при удалении лакун первой и второй групп.
Существительные как единственного, так и соотносительные с ними множественного числа являются обозначениями лиц, названиями предметов или явлений действительности. Разница только в том, что первые позволяют нам воспринимать их раздельно, а вторые во множестве, легко делимом на составляющие. Если же в какой-то из падежных форм такие противопоставления отсутствуют, то речь должна идти уже о неполных парадигмах. Значения числа, хотя и являются важной составляющей семантики существительных, далеко не всегда ведут к формированию числовых противопоставлений. В других случаях числовые сопоставления, обретая формальные выражения, испытывают самые разнообразные противодействия, подвигая составителей грамматичес-ких'да и иных словарей подчеркивать их эту особенность.
В "Грамматике русского языка" (М., 1953) в разделе
"Имя существительное", написанном Н.С.Поспеловым, предложено ровно 200 примеров существительных, употребляемых только в ед. ч. По 64 слова иллюстрируют здесь особенности существительных (всего 128) собирательных и вещественных и 72 - отвлеченных. Примечательно, что эта особенность примеров из первой группы в "Грамматическом словаре" А.А.Зализняка подтверждена только в 15 случаях (голытьба, листва, детвора, беднота, белье, мусор и т.д.). От остальных 49 слов (дичь, молодежь, родня, профессура, отрепье, хлам и т.д.) образование форм мн.ч. словарем допускается. Таким образом, словарь А.А.Зализняка не просто элиминирует лакуны по общем правилам формообразования, но и предъявляет элиминированные лакуны как образования нормативные. Правда, собственно удаление лакун происходит не в словаре, а в контексте, который конструирует исследователь, работая со словарем.
Из существительных второй группы не обрели форм мн.ч. в словаре всего 8 слов (пух, сахар, золото, молоко, сено, халва, просо, серебро), или чуть более 12%. От основной же их массы (изюм, рис, хворост, шоколад, земляника, ртуть и т.д.) формы мн.ч. образуются в соответствии с требованиями кодифицированных норм, т.е. про-тиводейстия их образованию, с точки зрения словаря, если и обнаруживаются, то не имеют решающей силы, не несут характер запретов. Из существительных отвлеченных подтвердили в словаре свой статус образований, не имеющих форм мн.ч. 16 слов (голод, косьба, слепота, тишина, хвастовство, горе и т.д.). Что касается остальных (звон, испуг, холод, инструктаж, бессонница, вмешательство и т.д.), то им словарь не отказывает в формах мн.ч., даже не оговаривая необходимость конкретизации значений. Следовательно, традиция не накладывать запрет на образование форм числа по общим правилам русского формообразования определяюща и в современном формообразовании. Художественная литера-
тура - главный проводник таких настроений.
Особой интерпретацией объекта обладают очень многие формы мн.ч. существительных рыбы, полдни, климаты, клеветы, пропаганды, лжи, дани, правды и т.д., встречаемые в книге "Сказок" М.Е.Салтыкова-Щедрина, итоговом произведении писателя, написанном через 25 лет после выхода в свет "Исторической грамматики русского языка Ф.И.Буслаева (М., 1863), где эти и подобные им слова описываются с иных, зачастую более жестких позиций. Сетуя, что слова картофель у Н.М.Карамзина и шиповник у В.А.Жуковского употреблены в формах мн.ч., Ф.И.Буслаев даже существительным на -ени}-, -ани}-отказывает в таких формах, которых в "Сказках" М.Е.Салтыкова-Щедрина более чем достаточно {одоления, движения, стремления, трепетания, раздражения, рассмотрения, посрамления, уподобления и т.п.). В современных словарях формы типа стремления представлены уже собственно не как элиминированные лакуны, а как вполне нормативные, законные образования.
Большинство грамматических единиц опирается на противопоставление как на предпосылку своего существования. Лакуны в числовой парадигме существительных -результат таких противопоставлений, та особенность, которая может проявляться не только в заявочной форме И.п., но и в других падежных формах. Если И.п. проецирует развитие ситуации и на все остальные падежи, то и косвенные падежи представляют не только самих себя. В "Грамматическом словаре" А.А.Зализняка отмечено 13существительныхж.р. (мзда, мгла, пенька, треска, майя, райя и т.д.), не имеющих во мн.ч. только формы Р.п. Сфера употребления таких слов ограничена, хотя значение множественности у них не может быть выражено в Р.п. не в силу семантических противодействий, а мор-фонологических и фонетических, поэтому удаление лакун в таких случаях предпочтительней проводить описательно.
От ряда существительных (айва, балда, иго, кума, мольба, тетива и т.д.) образование формы мн.ч. в Р.п. носит хотя и допустимый, однако заметно затруднительный характер. Объясняется это тем, что употребление их в Р.п., единственном из всех падежей, ведет к уменьшению количества слогов в и так немногосложных словах, доводя их число зачастую и до одного, что не способствует вовлечению их в активный речевой (как устный, так и письменный) процесс. Кроме того, эти существительные не являются словами частотными. Так, только слово иго отмечено в "Частотном словаре" с частотой 12 употреблений. Частота употреблений остальных существительных не превышает 10: у слова мольба она равняется 8, кума -3, айва -1, слова же балда и тетива в словаре вообще не отмечены.
Что касается трех существительных дровец, дрожжей,, щец, вся парадигма которых представлена только одной этой формой, то соотносимы они непосредственно не со словами дрова, дрожжи, щи, а с их проявлениями в Р.п. - словами дров, дрожжей, щей. Раз слово щец -самостоятельное образование (именно так оно предъявлено в словаре А.А.Зализняка), то речь следует вести не о противодействиях образованию других членов его парадигмы, а о препятствиях, не помешавших образованию самого этого существительного щец. Возникает искушение квалифицировать слова типа щец как нечто избыточное, тем более, что в толковых словарях они представлены в словарных статьях существительных типа щи, хотя, конечно, и с особым статусом. Если парадигма несклоняемых существительных (кашне, визави, пальто, кенгуру) представлена во всем объеме своих форм одним и тем же словом, то форма Р.п. мн.ч. типа щец репрезентирует только самое себя и сама она может быть названа ущербной с большим основанием, чем какая бы то ни было другая.
Характер социолингвистических влияний при элими-
нировании писателем интраязыковых лакун находится в зависимости не только от целевых установок текста, но и от творческой манеры его автора. В трилогии А.Белого "Москва" много слов в форме мн.ч., необычных с точки зрения сегодняшнего дня. Суть основной их массы в том, чтобы выразить специфику романа как сатиры-шаржа. Нарочитая нелепость многих из таких слов органично переплетается с абсурдностью той ситуации, которую переживала Россия в 10-20-е годы нынешнего века и которая была описана в трилогии. В нашем списке 14 существительных, которые в романе встречаются в формах мн.ч. (белиберда, бред, быт, воздух, грусть, еда, жар, жара, мясо, пух, пыль, свет, темнота), но в "Грамматическом словаре" А.А,Зализняка представлены как такие, у которых множественное число почти никогда не употребляется, т.е. существует лишь в качестве потенциальных образований.
А.Белый совершенно естественно делит воздух, окружающий героев трилогии, на воздухи, в зависимости от влияния, которое он на них оказывает (вольготные), в зависимости от запаха (солоноватые) и цвета (черно-лиловые, синие). Так же по цвету различаются пыли (белые, серые, сияющие светом) и даже мусоры (розовые, серо-синявые). Словосочетание человеческие быты, исходя из логики романа, предполагает существование еще и каких-то иных, обязательно не человеческих. Особый статус в романе у слова свет. Это существительное в И.п. мн.ч. представлено в двух через пять страниц одна от другой формах: света (разлетелись) и светы (прорезались). А.Белому важно подчеркнуть, что эти формы не являются тождественными образованиями, а уж решать, в какой мере - отдано на откуп читателю. Время написания трилогии "Москва" - это время сосуществования форм на -а(-я) и -и(-ы), когда приоритет первых над вторыми не становится еще заметным.
Предмет отображения действительности, обозначен-
ный в романе словом паутина, состоит из множества паутин, делимых на составляющие, -паутины. Таким образом, слово паутина выступает здесь в двух значениях: 1) паутина как множество паутин; 2) паутина как составляющая паутин, а значит, и всей паутины в целом. Для того, чтобы слово паутина могло быть представлено во мн.ч., переосмысления его семантики не потребовалось. Только от 2-х существительных из 90 контекст трилогии потребовал в необычной для них форме мн.ч. одновременно и переосмысления семантики. Представляя одного из многочисленных персонажей романа швеца Вишнякова, тщедушного уродца, "который словами строчит, точно шапкой двоих накрывает", А. Белый пишет, что к нему "нельзя подойти со словесными едамсГ, имея в виду, что нельзя Вишнякова ни обмануть, ни перехитрить, ни убедить в том, во что он верить не хочет. Существительное еда*таким образом, во мн.ч. и в сочетании с прилагательным словесные приобрело значение некоторого набора слов, не несущего серьезной смысловой нагрузки, но призванного тем не менее заставить собеседника поверить в то, во что верить не следует. Процесс вхождения этого существительного в текст романа был взаимообусловленным: текст учел особенности слова, а слово учло требования текста.
Одно дело - образовывать необычные формы мн.ч. от реально существующих существительных ед.ч., другое, когда встреченная в романе форма мн.ч. не имеет в современном русском языке опоры на форму ед.ч. Имеются в виду случаи, когда и формо-, и словообразование свершаются одновременно (вкусный - вкусности), хотя понятно, что без поддержки потенциального слова вкусность формы вкусности не получилось бы. Правда, не появись у А.Белого потребности в слове вкусности, не было бы разговора и о слове вкусность, пути образования которого нужно просматривать в дух направлениях от прилагательного вкусный и от существительного вкус-
ности.
В романе И.А.Ильфа и Е.П.Петрова "Золотой теленок" нами отмечено более 20-ти существительных во мн.ч. обычно в этой форме не употребляющихся, т.е. встречающихся лишь в форме ед.ч. Почти все они (глубины, эволюции, пульсы, сукна, румянцы, горизонты, референции, ямбы, ложа, селедки и т.д.) извлечены из авторской речи, и только некоторые (триумфы, проволоки, мании) из речи персонажей. Еще больше необычных существительных в форме мн.ч. (мебеля, кипения, юпитера, проволоки, погоды, организмы и т.д.) в другом романе писателей -"Двенадцать стульев". Студентам-первокурсникам, не читавшим роман, было предложено дать характеристику людям, которые могли бы эти слова произнести. Студенты восприняли эти слова как образования, не нарушающие законов формопроизводства, как интерес к рискованному словотворчеству, как игру в слова и даже как некий курьез, а себя предложили в качестве основных любителей таких новообразований. В романах все необычные слова в формах мн.ч. не случайны, их необычность органично переплетается с уникальностью ситуаций, в которые попадают их герои. Любопытно, однако, что не все писатели, любившие удивлять, а то и шокировать читателя искусно закрученным сюжетом, любили прибегать и к рискованному словотворчеству. Так, с сборнике рассказов В.М.Шукшина "Охота жить", объемом в более чем 200 страниц (Казань, 1978), нами обнаружено всего одно необычное формой мн.ч. существительное дымы. У М.А.Булгакова в романе "Мастер и Маргарита" таких или подобных слов также немного, однако именно они определяют стилистику художественного текста. Писатель слова бессонница, блистание, сукно, талия, солнце, луна, таинственность и т.д. облекает в форму мн. ч., переводя тем самым их из стилистически нейтральных в разряд письменно-книжных, проецируя схему, по которой может строиться их восприятие читателям ро-
мана.
О неполноте морфологической парадигмы прилагательного можно говорить в том случае, если квалифицировать образуемую от него сравнительную степень как форму, а не как самостоятельное слово. Слова в простой сравнительной степени - это образования, находящиеся в зоне некоторого континуума, охватываемого пространством между такими свойствами, которые позволяют относить их и к бесспорно прилагательным, и к бесспорно наречиям, то приближаясь, то удаляясь по отношению к каждому их этих полюсов. В "Грамматическом словаре" А.А.Зализняка зафиксировано 3877 прилагательных (притяжательные прилагательные не являются предметом нашего исследования), от которых нельзя образовать простую сравнительную степень. Прилагательных, у которых одновременно отсутствуют и краткие формы (КФ), во всем русском языке, по-видимому, всего одно - слово господний. Отсутствие их - это как бы некий запрет на какие бы то ни было эксперименты с этим словом, вызванный его особой смысловой значимостью.
Не следует ждать, когда процесс накопления качественных сем относительными прилагательными завершится в той мере, чтобы иметь возможность их вычленять и описывать, до тех пор отказывая себе в возможности образовывать от них краткие формы и сравнительную степень, противодействия образованию которых в подавляющем большинстве случаев носят не семантический характер, а если все-таки и возникают, то не являются определяющими. Способ удаления лакун говорящий или пишущий выбирает в зависимости от возможностей создаваемого им текста, в зависимости от потенций слова, обретающего перспективы стать его составляющей. Текст должен быть достаточно специфичен, чтобы ком-паративы и краткие формы от так называемых относительных прилагательных появились в нем, должен быть достаточно подготовлен, чтобы они могли в нем употре-
биться. Статус пустых клеток в системе языка, требующих заполнения структурами определенной направленности, потенциальные образования приобретают тогда, когда автор текста чувствует, что без них его текст не будет таким, каким бы он хотел его видеть. Количество противодействий образованию слова или формы слова напрямую связано с частотностью их употребления: чем больше запретов на образование слова или формы слова, тем выше частотность их употребления, т.е. в употреблениях слова проявляются особенности противодействий его образованию и тех причин, которые определяют его частотность. Творческая манера писателя может подсказать, где элиминирование лакуны может случиться, в каких художественных текстах мы может искомые слова найти, а в каких их искать бесполезно.
Жесткую зависимость между отсутствием или затруднительным образованием КФ и кооперативов выводить не следует. В нашей картотеке 3433 примера, когда при отсутствии сравнительной степени у прилагательных тем не менее имеются КФ. В подавляющем большинстве случаев это так называемые относительные прилагательные, отличающиеся от собственно качественных не более чем насыщенностью качественными семами, признаком, внутренне присущим прилагательным. Основу прилагательных, не имеющих сравнительную степень, но имеющих при этом КФ, составляют прилагательные на -ский (3203 единицы). КФ от таких слов в художественных текстах встречаются не часто, однако и не являются они чем-то из ряда вон выходящим. Конечно, текст должен быть достаточно специфичен для того, чтобы КФ от прилагательных на -ский появились в нем, должен быть подготовлен к "встрече" с ними. Употребление же в речи таких прилагательных в сравнительной степени, несмотря на заметную в них семантическую потребность, - грубейшая ошибка, ибо морфонологические препятствия, т.е. нежелание коверкать язык, исключают их из числа допу-
стимых.
Специфика КФ в их ориентированности на художественный тест, они для него находка: для текста важно то, что используемое в нем слово -именно КФ, а не то, от какого прилагательного (качественного или относительного) она образована. Дефектность парадигмы прилагательных заезжий, бритвенный, биржевой, главный, и т.п. в том, что у них не может быть КФ, раз они по определению относительные, и в том, что КФ от них в принципе все-таки могут быть образованы. С этой точки зрения, такие КФ целесообразно оценивать как способы элиминирования лакун, как формы, образованию которых нет принципиальных противодействий. В романе М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" прилагательное лыс удивляет тем, что оно было использовано как характеристика покойника Берлиоза, а не его полная форма. Берлиоз был не лысый, а именно лыс, т.е. если человек лыс, то не в той мере лысый, как просто лысый человек. Любой лысый человек в каких-то ситуациях может быть только лыс, восприниматься таковым, однако если человек лыс, то он совсем не обязательно должен быть лысым. Был ли лысым покойник Берлиоз, М.А.Булгаков ответа не дает, подсказками не балует, предоставляя читателю догадываться об этом самому, вернее, рисовать в этом смысле тот образ героя, который кажется ему наиболее удачным, т.е. не нарушающим живую ткань романа.
Итак, только 1071 прилагательное из "Грамматического словаря" А.А.Зализняка может быть квалифицировано как не имеющее краткой формы и только в одном из своих проявлений - мужском роде. Это прилагательные верхний, суягный, бурлескный, гротескный, водо-пускный и прилагательные на -ой, почти все содержащие отрезки -ое- -ее, -н-, -ск-, -т- в качестве суффиксальных морфем. От всех остальных прилагательных образование КФ допустимо, хотя в ряде случаев может носить достаточно затруднительный характер, предъявляя но-
вообразования в качестве структур потенциальных, готовых к реализации в речи. Тенденция, определяемая влиянием отсутствия сравнительной степени у прилагательных на характер образования от них КФ значительно более устойчива, чем та, где такое влияние не имеет определяющей силы. Отсутствие сравнительной степени - своеобразное обозначение того, что и КФ становятся уже принадлежностью не реального, а потенциального словаря носителей русского языка. У слов, не имеющих сравнительной степени, парадигма КФ, пусть и в ущербном варианте, но, как правило, есть. Однако обратное неверно: далеко не у всех прилагательных (слова на -ской: колдовской, воровской, внутригородской и т.п.), даже не просто не имеющих КФ вообще, а лишь только в каком-либо одном своем проявлении, имеется сравнительная степень.
Описание и свойств, а не одних лишь качеств или признаков предмета или лица возможно с помощью слов в сравнительной степени. Это нужно понимать таким образом, что сравнительная степень от относительных прилагательных - явление вполне закономерное. Как понимание таких их особенностей оцениваем мы сравнительную степень от прилагательного фонематичный, слова (фонематичнеё), встреченного на стр. 292 книги А.А.Реформатского "Введение в языкознание" (М., 1955), и от прилагательных личностный и национальный, слов (лич-ностнее и национапьнее), употребленных одно за другим Е.И.Дибровой в докладе "Коммуникативно-когнитивная модель текстопорождения" на 5-ой международной конференции "Семантика языковых единиц! (т.2, М., 1966. С.131).
Из "Грамматического словаря" А.А.Зализняка нами выписано 1516 так называемых относительных прилагательных, образование от которых сравнительной степени в принципе допустимо. От ряда из них (227 единиц) затруднительно образование всех кратких форм (заезжий,
минувший, младший), от других (214), только краткой формы мужского рода (новогодний, летний, бритвенный), от третьих (1071) эту форму вообще образовать невозможно (темно-голубой, биржевой, звуковой, накидной) при затруднительном образовании всех остальных. Четырьмя примерами (правый, левый, главный, южный) оцениваются случаи затруднительного образования краткой формы женского рода. Недостаток качественных сем в семантике компаративов, образованных от относительных прилагательных, компенсируется с помощью суффикса -еЬ который у них вначале слово- и только потом формообразующее средство, т.е. в результате словообразования насыщение качественными семами доводится до того предела, чтобы иметь возможность образовывать при посредстве этой же морфемы уже собственно сравнительную степень. Наполнение качественными семами относительных прилагательных - процесс не бесконечный и длится до тех пор, пока наши представления об относительных прилагательных в целом и о каждом из них в отдельности как о динамической системе не подвигнут нас рассматривать их, к примеру, краткие формы не как потенциальные, а как реально существующие языковые единицы.
Потребность в каких-либо словах или формах слов может быть настолько значимой, что автор художественного текста выдумывает их, сознательно идя на нарушение норм словопроизводства. В "Истории одного города" М.Е.Салтыкова-Щедрина сравнительная степень от прилагательного гордый представлена словом гордее, исходя же из корреляции твердый - тверже (д+/'=ж) она должна бы выглядеть иначе. По-видимому, боязнь омофонии потенциального слова (горже) со словом горше (от прилагательного горький) оказалась столь довлею-ще весомой, что писатель предпочел ему ненормативное образование гордее. Кроме того, далеко не каждый носитель русского языка легко и быстро соотнесет сло-
во, от которого М.Е.Салтыков-Щелдрин отказался, с прилагательным гордый, которое, что интересно, в "Грамматическом словаре" А.А.Зализняка предъявлено как образование, вообще не имеющее сравнительной степени.
Непредельность как свойство собственно прилагательных и как свойство слов в сравнительной степени совсем не одно и то же. Семантика слов в сравнительной степени направлена не на просто фиксацию, обозначение этого свойства, а на выяснение степени его проявления. По этой причине обстоятельственная функция является для них не менее обычной, чем функция предиката, хотя функция предиката остается знаком принадлежности компаративов к именам прилагательным. Обстоятельственную же функцию целесообразно рассматривать как тенденцию в семантическом развития слов в сравнительной степени, как подтверждение их частеречной специфики.
Статус фразеологизированных сравнений несколько иной, чем устойчивых и тем более чем собственно фразеологизмов. Трансформации формально-семантической структуры таких образований - явление обычное и рас-с?учатриваются в работах по фразеологии в качестве их особой приметы. Из "Словаря устойчивых сравнений русского языка" Л.А.Лебедевой (Краснодар, 1994) нами выбраны для анализа обороты с союзом как, которые образованы сочетанием существительного и слова, выступающего по отношению к нему в функции согласованного определения (как базарная баба, как с хрустальной вазой, как верста коломенская и т.п.). Таким взглядом на характер спаянности их компонентов определяется особый статус этих образований: они уже не свободные, но еще и не связанные в той мара, чтобы выводить их в разряд собственно фразеологизмов. Лексикализация и грам-матизация свободных словосочетаний происходит достаточно одновременно, т.е. одно их этих действ обязательно влечет за собой другое, предполагает его, что в
конечном счете и приводит к ощущению свободных словосочетаний в качестве словосочетаний несвободных, выступающих в предложениях в качестве одного-единствен-ного члена предложения.
В семантическом плане оборот обособленный и оборот необособленный не суть одно и то же. В необосабли-ваемых образованиях нет акцента на семантическую значимость их составляющих, а уж коль скоро он проявляется, то и оценивать это надо как характеристику их особого статуса, как лакуну, заполнение которой может состояться, т.е. как свидетельство возможности такие обороты обосабливать. Отсутствие запятых - это и авторский знак, утверждающий неразложимость сравнения на составляющие, и рекомендация рассматривать его в ряду образований устойчивых. К примеру, любить, как родного сына - это не только значит не сына любить именно как сына, да еще родного (оборот обособлен), но и просто любить его горячо, искренне, от всего сердца. Последние значения, хотя и выражены сравнением свободным, а значит и обосабливаемым, по сути являются значениями оборота устойчивого, необосабливаемого. Контекстное окружение помогает этим значениям проявляться в той мере, в какой это задумано автором текста.
В ряду описываемых сравнений основным является порядок слов, при котором вслед за союзом как идет зависимое слово (105 образований), а уж потом семантически опорное существительное. Всего 13 образованиями (как манны небесной, как пугало огородное, как шут гороховый) представлены в нашем списке структуры с обратным порядком слов. Рассматривать их в качестве производных от структур с прямым порядком слов, даже если в каких-то контекстах и обнаруживаются такие образования, не следует, ибо они сами с достаточными основаниями могут рассматриваться как производные от конструкций с обратным порядком слов. Образования с прямым порядком слов появляются в тех случаях, когда
возникает необходимость в выражении значения, достигаемого перестановкой слов. Конструируя такие сравнения, мы выводим их в зависимость от структур с обратным порядком слов, так или иначе, но заполняем их лакуны.
Взаимоотношения устойчивых сравнений с контекстом такие же, как и у слов. Как и слова, они формируют семантику текста, т.е. вступают в него со своими строго обозначенными значениями, смыслами, оттенками смыслов и т.п. И только потом уже контекст добавляет или убавляет, или каким еще другим способом трансформирует семантику формирующих его структур. Процесс таких взаимопроникновений вполне планируем автором текста, практически бесконечен, и именно он обеспечивает стилистику текста, индивидуальность восприятия его читателем. Именно в контексте происходит выбор того или иного способа удаления лакун, а потому контекст должен быть специфичен в той же мере, в какой специфична сама лакуна.
В нашей картотеке семантически опорные существительные сравнений чаще всего (75 образований) представлены в форме И.п. (пьет как бездонная бочка, тупой как сибирский валенок, беден как церковная крыса и т.д.). Такая форма опорного слова как бы фиксирует его отношения, в другой терминологии, его двойную, равноправную зависимость и от конкретного сказуемого, и от легко при необходимости конструируемого подлежащего. Небольшими списками отмечены у нас примеры употребления в сравнениях семантически опорных слов в формах В.п. без предлога (8 образований), В.п. с предлогом на (5), Р.п. (3), Тв.п. (4) и П.п. (2). Сравнений с семантически опорным словом в форме Д.п. в нашем словнике нет вообще. Сравнительные обороты в означенных формах менее всего разложимы на составляющие, а значит, носяТ более устойчивый характер, чем эти же образования, но с семантически опорным словом в других падеж-
ных формах. Понятно, что к тем же самым мы такие сравнения относим с известной долей условности, ибо изменение формы семантически опорного существительного невозможно без замены слов из их обязательного лексического окружения.
Поясним на примерах. Так, как базарная баба можно кричать, шуметь или орать, т.е. набор слов из обязательного лексического окружения этого сравнения невелик. Набор слов из его лексического окружения станет иным, а потому и не принципиально обязательным, если семантически опорное слово будет представлено в косвенных падежах. В самом деле, но как от базарной бабы скорее всего можно отойти или отбежать, как базарной бабы бояться, как к базарной бабе относиться, как базарной бабе не доверять, как на базарную бабу смотреть, как базарную бабу презирать, как с базарной бабой разговаривать, как о базарной бабе вспоминать и т.п. В форме же И.п. заключена суть такого явления, каковым является семантика падежных форм, и именно на ее фоне проявляются значения косвенных падежей. Устойчивое сравнение с семантически опорным существительным в форме И.п. по отношению к свободным сравнениям с семантически опорным существительным в возможно остальных падежных формах - это примерно то же, что исходное склоняемое слово в толковых словарях, слово, через соотнесение с которым познается семантика других падежных форм. Сравнения с семантически опорным словом в косвенных падежах статичны, трансформации их формально-семантической структуры и в художественных, и даже в газетных текстах встречаются крайне редко. Степень структурной и семантической спаянности компонентов у них выше, чем у сравнений с семантически опорным словом в форме И.п., т.е. они достаточно фразеологизированы, чтобы не выводить их значение из суммы значений их составляющих. Отступления от кодифицированных правил без обоснован-
ных разъяснений, вызванные употреблением их семантически опорных слов в иных, чем означено, формах, хотя и могут рассматриваться в ряду элиминированных лакун, должны оцениваться как показатель недостаточной языковой культуры их составителей.
Способность выражать действие, не отнесенное ни к лицу, ни к предмету, рассматривается в работе как основная семантическая характеристика безличных образований. Если для заполнения лакун, имеющих значение, несовместимое с представлением о производителе действия, выбирается все-таки глагол, то глагол этот либо безличный, либо личный в безличном значении. Глаголы - неологизмы ползается, мрется, лжется, кричится, гадится, звонится, смерзается (всего 7), встреченные в трилогии А.Белйго "Москва", не изменяются по лицам, а как бы застыли лишь в форме 3 л. ед.ч.
"Кричится мне, папочка", - жалуется заболевшая дочь Надя своему отцу, профессору математики Коробкину, на нестерпимые боли. Необходимость выразить реакцию дочери на сильные боли в жалобе отцу вызвала появление неологизма кричится, т.е. таким образом была элиминирована семантическая лакуна. С помощью этого же самого слова была заполнена и лакуна морфологическая, т.е. обозначена независимость действия, исходящего от девушки, от ее собственной воли, от ее желаний. Морфологический аспект элиминирования лакуны выходит здесь на первый план, не выводя семантические характеристики глагола кричится в разряд решающих.
В других предложениях ("как-то мне мрется", "все во мне лжется", "гадится мне") активность субъекта в осуществлении действия почти сведена на нет, ведь не так много слов и словосочетаний в русском языке, направленных на осмысленное причинение ущерба самому себе и обозначающих такое действие в динамике, как процесс. Неологизмы мрется, лжется, гадится не столько семантически значимы сами по себе, сколько контекстуально
обусловлены. Примечательно, что студенты-филологи достаточно легко создавали ситуации, в которых означенные глаголы могли прозвучать. Просьба же составить вопрос, на который можно можно было бы ответить "Как-то мне мрется", и вовсе не вызывала затруднений, сверх того, их вопрос почти всегда повторял тот в романе, на который же и давался в романе такой ответ. "Как-то мне мрется", - так отвечает Лизаша, одна из героинь трилогии, на вопрос сверстницы Харитовой "Ну? Как здоровьице", отвечает, имея в виду свое меланхолическое настроение. Слово мрется существует в романе в переносном значении, не имея опоры на прямое значение, а если и имея, то на такое, которое существует как нереализованная потенция, как неэлиминированная лакуна, но о котором мы тем не менее безусловно догадываемся. Лизе именно мрется, а не болеется, нездоровится, неможется и т.п., неологизм мрется выбран А.Белым как единственно возможный для заполнения возникшей лакуны.
В отличие от глаголов 3-го лица, выражающих отнесенность действия к лицу, которое не является ни говорящим, ни собеседником (Он улыбается), те же, но уже безличные (т.е. личные в безличном значении) глаголы в определенном контекстном окружении отнесенность действия к участникам речевого акта могут выражать заметно определенно, (ср.: Мне сегодня целый день улыбается и Я сегодня целый день улыбаюсь). В безличном предложении в отличие от личного отнесенность действия к 1-му лицу просматривается не очень отчетливо и проявляется в том, что субъект поставлен в некоторую зависимость по отношению к самому себе. Во фразе "Мне сегодня улыбается" заложена информация о говорящем как производителе действия, т.е. толковать ее нужно следующим образом: "Я сегодня постоянно улыбаюсь, потому что сегодня у меня достаточно причин делать это". Итак, если лексическое значение глаголов в форме 3 л. несовместимо с представлением о производителе дей-
ствия, являющимся либо говорящим, либо собеседником, то лексическое значение таких глаголов в безличном употреблении такие представления допускает. Употребления личных глаголов в значении безличных целесообразно рассматривать в ряду частотных способов элиминирования морфолого-словообразовательных лакун.
Раздел второй "Интраязыковые лакуны в русской словообразовательной системе" посвящен анализу новых слов как средству элиминирования словообразовательных лакун, исследованию типовых контекстуальных условий, в которых собственно удаление лакун и происходит.
В первой главе "Словообразовательная пара как способ элиминирования интраязыковых словообразовательных лакун" отмечается, что словообразовательная пара - это слова словообразовательного гнезда, которые могут быть членами одной словообразовательной цепочки, а могут и являться частями в разных словообразовательных цепочках. Не любые два слова словообразовательного гнезда могут быть рассмотрены в качестве словообразовательной пары, а именно те, у которых формальная соотнесенность подкрепляется смысловой, что позволяет вводить в их состав значительный пласт потенциальных образований в качестве мотивированного слова, тем самым представляя такие неологизмы, как элиминированные лакуны слов мотивирующих. Именно слова словообразовательной пары являются объектом исследования при морфемном и словообразовательном анализе, т.е. просто умение подбирать однокоренные слова (без возможности воспринимать их в качестве членов словообразовательной пары) не способствует в достаточной мере ощущению значимости совпадающих в сопоставляемых словах морфем.
Среди русских писателей, особенно декадентских направлений, трудно найти таких, кто отказывал бы себе в удовольствии образовывать новое слово и тем самым
привлечь внимание читателей к своим произведениям. В трилогии А.Белого "Москва" новообразованиями в большей или меньшей степени, но охвачены практически все части речи. Однако традиционно приоритетными в этом смысле остаются имена существительные.
Неологизмы А.Белого - это, как правило, слова, созданные нэ по продуктивным моделям словообразования (например, существительные на -ыш: гаденыш, жиз-неныш, дворыш,заплевыш, малышеныш, гладыш, обмерыш и т.п.). Все они естественны для того настроения, с каким писатель описывает жизнь русской столицы, ее обитателей. Слова нейтральные и с положительной семантикой писателю неинтересны, а потому и неологизмов среди них немного. Новых слов с отрицательной семантикой не просто больше - именно они формируют семантику и стилистику текста трилогии.
Не всегда удается читателю с ходу, без соответствующего настроя, со всей определенностью вывести значение встреченных и романе неологизмов, даже если у них сохранились живые связи с их мотивирующими. Семантическая связь существительного задирыш с глаголом задираться (порвавшись, надорвавшись, загнуться кверху) достаточно отчетлива, чтобы оценивать неологизм как элиминированную лакуну глагола, а следовательно, и как его словообразовательную пару. Однако никто из опрошенных студентов-филологов на просьбу определить значение этого слова и ввести его в свой контекст, заранее оговорив, что это существительное неодушевленное, не ответил так же, как это было задумано писателем. Значение этого слова определялось ими или как огрызок карандаша, или как заусеница, или даже как начало какой-нибудь очень важной работы. А.Белый же обозначил словом задирыш обрывок листа бумаги, не до конца сгоревшей в пепельнице, но имеющей ценность остатком той информации, которая на ней сохранилась и которую один из героев трилогии силится прочесть.
О значении существительного раздутыш мы догадываемся, опираясь в основном на его сочетаемостные характеристики. Достаточно значимым для понимания семантики этого слова становится именно его ближайшее контекстное окружение, а важность иной, т.е. дополнительной информации о нем отходит на второй план, не являясь задействованной текстом романа. У А.Белого слово раздутыш встречено как составляющая сочетания слов "показавши оранжево-красный раздутыш дубины", как обозначение той части дубины, которая собственно и делает из нее дубину. И по форме, и по значению существительное раздутыш легко соотносится с прилагательным раздутый (наиболее раздутая, массивная часть дубины), что позволяет квалифицировать отрезок -ыш как суффикс, утверждая за прилагательным статус словообразовательной пары, а за самим существительным - его элиминированной лакуны. Необычные, нелепые слова в трилогии не столько эпатаж, сколько попытка ее автора угадать, в какой мере потрясения станут характеристикой жизни будущих поколений России.
Во второй главе "Элиминированная словообразовательная лакуна как составляющая словообразовательных парадигм" подчеркивается особый статус элиминированных словообразовательных лакун в общей системе производных слов, рассматриваются наиболее предпочтительные пути заполнения словообразовательных лакун неологизмами в художественных текстах того или иного автора, выясняются причины такой предпочтительности.
Обоснование предпочтительности в колебаниях при выборе автором художественного текста новообразований, построенных по тем, а не иным словообразовательным моделям, помогает уяснить причины появления в русском языке значительного числа одних из них и почти полного отсутствия других. Кроме того, это дает возможность увидеть перспективы употребления таких слов в
русском языке, изучить потребности в словах подобного типа, позволяет ощутить в производном неологизме гораздо больше значений (как реальных, так и потенциальных), чем это может быть представлено при кодификации. Лексикографам при составлении толковых словарей необходимо вводить в толкование производного слова непосредственно или хотя бы опосредованно формально и семантически соотносимые с ним слова. Для понимания глубинной семантики слова, а значит, и правильного введения его в речь, для исчисления направлений, в рамках которых возможно заполнение его словообразовательных лакун, такая информация в словаре крайне необходима.
Значимость словообразовательного значения префиксов и суффиксов, грамматического - флексий, лексического - корня в организации семантического устройства слова не одинакова, и это нужно упитывать при конструировании неологизмов, при заполнении ими словообразовательных лакун. Наличие однокоренных синонимов в одних и тех же толковых словарях (ср.: вузовец - вузец, штабник - штабист) свидетельствует, что вытеснение одного из них другим совсем не аксиома, если не являются они в семантическом плане абсолютно тождественными образованиями, что наполненность аффиксальных морфем таких синонимов своей особой семантикой достаточно высока, чтобы не вести разговор об избыточности и их самих, и слов, в состав которых они входят. Нельзя отказывать потенциальному слову, какой бы необычной структуры оно ни было, быть средством заполнения словообразовательных лакун. Наличие у элементов слова таких возможных значений, как, к примеру, быть ненужным, быть пока ненужным или мешать слову (с разной степенью активности, конечно) организовывать свою семантику, подчеркивает, что и они могут стимулировать развитие как различных функций Есего слова, так и реально значимых его частей.
Словообразовательные отношения между членами словообразовательной пары, как составляющей словообразовательного гнезда, очень часто носят взаимный характер. Мотивирующее, объясняя мотивированное, информирует и о себе. В свою очередь, мотивированное слово, подвергаясь мотивировке, объясняет и мотивирующее. Такие объяснения ограничены рамками значений соотносимых слов, тем не менее именно они определяют возможности функционирования слов в контекстах, что важно учитывать при элиминировании словообразовательных лакун неологизмами, при конструировании их, особенно в тех случаях, когда такие образования являются словами со связанными корнями, т.е. членимыми, но непроизводными.
Отсутствие строгой корреляции между формой и значением в слове присуще многим русским производным словам. Образования, мотивирующиеся прилагательными, нельзя назвать одноструктурными по отношению к образованиям, например, мотивирующимся глаголами, а образования, мотивирующиеся глаголами, не будут одноструктурными по отношению к образованиям, мотивирующимся существительными. Словообразовательные значения суффикса -ист при разных толкованиях существительного скандалист (через прилагательное, существительное, глагол) не совсем тождественны: скандальный человек, по-видимому, более скандалист, чем тот, кто любит скандалить, или тот, кто любит устраивать скандалы. У суффикса -ист, таким образом, в существительном скандалист, мотивирующемся прилагательным, значение активного деятеля, а у суффикса -ист в существительном скандалист, мотивирующемся непроизводным существительным или глаголом, - менее активного. Понимание же таких особенностей неологизма помогает увидеть необычное производное слово в самых разных контекстах, осознать степень его новизны, понять, почему именно оно стало средством элиминирования
словообразовательной лакуны, и, наконец, спрогнозировать перспективы его закрепления в литературном языке.
В известном смысле, каждое непроизводное слово лишь относительно непроизводно, а каждое производное -относительно производно, и наличие производящего -вовсе не главный показатель производности слова. Характер взаимоотношений между словами, составляющими словообразовательную парадигму, позволяет говорить о производнссти слова в двух направлениях - к нему и от него. В конечном счете, в качестве средства элиминирования словообразовательных лакун может выступить в тексте, особенно художественном, и непроизводное слово, семантически трансформированное его отношениями с составляющими словообразовательную парадигму.
Мотивированное и мотивирующее слова редко соотносятся во всем объеме своих значений, что также регулирует характер их возможных употреблений в тексте. Утрата соотносительности между однокоренными словами может стать средством наделения их такими значениями, которые позволяют говорить об этой утрате в еще большей степени. Наделение производного слова тем или иным количеством значений попадает в результате в зависимость от того, какое слово способно выполнять мотивирующую функцию. Возникающие ассоциации получают возможность быть использованными в качестве схемы при конструировании неологизмов, при удалении с их помощью словообразовательных лакун.
В Заключении формулируются общие выводы и итоги исследования, намечены некоторые перспективы его дальнейшего развития. Отмечается, что интраязыковая лакуна, как лингвистическая категория, трактуемая в универсально-семантическом плане, оказывается средоточием асистемных явлений в языке, отражением перспектив его развития.
Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты исследования были представлены на VII (Москва, 1990) Международном конгрессе преподавателей русского языка и литературы; на IV Международном симпозиуме по лингвострановедению (Москва, 1994); на Международной конференции "Социолингвистические проблемы в разных регионах мира" (Москва, 1996); на Международной научно-методической конференции в МГУ (Москва, 1996) "Текст; проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного"; на V Международной конференции "Семантика языковых единиц" (Москва, 1996); на юбилейной конференции, посвященной 30-летию МАПРЯЛ (Москва, 1997); на Международной конференции "Актуальные проблемы русистики", посвященной 70-летию Э.В.Кузнецовой (Екатеринбург, 1997); на Международном коллоквиуме по лингвистике (Сочи, 1996); на Международной научно-теоретической конференции "Взаимодействие языковых уровней в сфере фразеологии" (Волгоград, 1996); на Iii общесоюзной конференции "Семантика в преподавании русского языка как иностранного" (Харьков, 1990); на Всероссийской научной конференции "Лингвистика текста" (Пятигорск, 1995); на ряде других научно-теоретических и научно-практических конференциях: "Проблемы современной науки. Лингвистика" (Орел, 1996); "Теория и практика преподавания русского языка иностранцам на курсах различной интенсивности и подготовки" (Екатеринбург, 1996), "Актуальные проблемы теории и практики обучения русскому и иностранным языкам" (Краснодар, 1993); "Новое в содержании и формах обучения русскому языку иностранных учащихся-нефилологов" (Тула, 1994); "Лексикология и фразеология: новый взгляд" (Москва, 1990); "Проблемы учебной лексикографии: состояние и перспективы развития" (Симферополь, 1991); "Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм" (Харьков, 1991); "Теоретическая и приклад-
ная семантика. Парадигматика и синтагматика языковых единиц" (Краснодар, 1996); "Использование наследия забытых и возвращенных деятелей науки и культуры в учебном процессе вуза и школы" (Ровно, 1991).
Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях:
1. Русские интраязыковые лакуны (формально-семантический аспект). Краснодар: КубГУ, 1998. (7 п.л.).
2. Семантический аспект элиминирования интраязыковых лакун русских прилагательных //Семантика языковых единиц. Доклады V Международной конференции. Т.1. Морфологическая семантика. М.: МГОПУ, 1995. С.251-254. (0,5 п.л.).
3. Формы мн. ч. как способ элиминирования интраязыковых лакун существительных (на материале романа А. Белого "Москва") // Филология - РЫ1о1од1са. Научный и образовательный журнал. Краснодар: КубГУ, 1997. С. 12-14. (0,5 п.л.).
4. Отношения производности в русском языке (Методические рекомендации). Краснодар: Изд-во КубГУ, 1994.-17 с.(1,12 п.л.)
5. Интраязыковые лакуны русских имен прилагательных I /Гуманитарные науки на границе тысячелетий. Научно-учебное издание. Посвящается 75-летию со дня рождения В.В.Казмина и 60-летию со дня рождения В.Б.Остроумова. 4.1. Краснодар: КубГУ, 1997. С.3-14. (в соавт, с Немцем Г.П.). (0,5 п.л.)
6. Семантический аспект функционирования фразеологизмов в газетно-публицистических текстах. //Теоретическая и прикладная семантика. Парадигматика и синтагматика языковых единиц. Краснодар: КубГУ, 1997. С.76-82 (В соавт. с Молдова-новой Л.И.). (0,5 п.л.).
7. Расширение значения слова в художественном тексте как процесс элиминирования семантико-стипистических лакун //Теоретическая и прикладная семантика. Парадигматика и синтагматика языковых единиц. Краснодар: КубГУ, 1997. С.85-91 (в соавт. с Кондрашовой О.В.). (0,5 п.л.).
8. Об элиминировании интраязыковых лакун имен в аспекте их семантических характеристик //Теоретическая и прикладная семантика. Парадигматика и синтагматика языковых единиц. Краснодар: КубГУ, 1996. С.27-29. (0,2 п.л.).
9. Полифоничность возвращенной прозы как объект филологического изучения (на материале семантических расши-
рений в текстах М.Булгакова). //Використання спадщини под-вернутих i забутих дтч1в науки та культури. В навчальному процеа педагопчного вузу та школи. Ровно: Ровеньский дер-жавний педагогична ¡нститут ¡м. Д.Э.MaHyiльського, 1991. С.24. (в соавт. с Факгоровичем А.Л.). (0,1 п.л.).
10. Лингвострановедческий аспект элиминированния инт-раязыковых лакун русских прилагательных (опыт анализа романа М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" в иностранной филологической аудитории). //Теория и практика русистики в мировом контексте. Тез. докладов международной конференции, посвященной 30-летию МАПРЯЛ. Лингвострановедческий (куль-туроведческий) аспект в.изучении и преподавании русского языка. М.: Ин-т русского языка им. А.С.Пушкина, 1997. С. 153-154. (в соавт. с Немцем Г.П.). (0,2 п.л.).
11. Об учете взаимодействий словообразования и синтаксиса в семантическом поле контраста при изучении русской лексики в группах Иностранных студентов-филологов //Русский язык и литература в общении народов мира: проблемы функционирования и преподавания. Тез. докладов и сообщений VII Международного конгресса преподавателей русского языка и литературы. М., 1990. Секция 2. Т.1. С.219-220! (в соавт. с Фак-торовичем А.Л.). (0,1 п.л.).
12. О семантическом преобразовании в языке прозы'М.А.-Булгакова //Актуальные проблемы лингвистики и лингводидак-тики. 1. Теория. Краснодар: КубГУ, 1995. С.94-95. (в соавт. с Факторовичем А.Л.). (0,1 п.л.).
13. Формы мн.ч. как способ элиминирования интраязыко-вых лакун русских существительных в художественных текстах //Филология на рубеже тысячелетий. Посвящается 75-летию А.Г.Лыкова. Краснодар: КубГУ, 1996. С.42-44. (0,3 п.л.).
14. Грамматический аспект элиминирования интраязыко-вых лакун русских устойчивых сравнений //Взаимодействие языковых уровней в сфере фразеологии. Тез. докладов Международной научно-теоретической конференции. Волгоград: Волгоградский пед. ун-т, 1996. С. 113-115. (0,2 п.л).
15. Инверсия как способ элиминирования интраязыковых лакун русских фразеологизированных сравнений //Взаимодействие языковых уровней в сфере фразеологии. Тез. докладов Международной научно-теоретической конференции. Волгоград:'Волгоградский пед. ун-т, 1996. С.-118-120. (В соавт. с Шлыком М.А.). (0,2 п.л.).
16. Формы множественного числа русских существитель-
ных как способ элиминирования интраязыковых лакун //Язык и коммуникация: деятельность человека и построение лингвистических ценностей. Мат-лы Сочинского Международного коллоквиума по лингвистике. Сочи-Краснодар: Сочинский ин-т курортного дела и туризма, 1996. С.51-52 (0,1 п.л).
17. О лакунах в русском языке //Актуальные проблемы теории и практики обучения русскому и иностранным языкам/ Мат-лы 2-ой региональной научной конференции. Ч.З. Краснодар: КубГУ, 1993. С. 57-58. (0,2 п.л).
18. Формы числа имен существительных как способ элиминирования интраязыковых лакун //Проблемы современной науки. Лингвистика. Мат-лы межвузовской областной конференции молодых ученых. Орел: Орловский гос. пед. ун-т, 1996. С. 43-45. (0,3 п.л.).
19. Интраязыковые лакуны в ряду русских сравнений как текстообразующее средство //Лингвистика текста. Тез. докладов Всероссийской научной конференции. Пятигорск: Пятигорский гос. лингвистический ун-т, 1995. С. 156-158. (0,4 п.л.).
20.0 смысловом поле контраста и о его деривационных и синтаксических элементах. Ст. деп. В ИНИОН АН СССР от 18.12.1990. N43. (а соавт. с Факторовичем А.Л.).
21. О семантизации русской производной лексики //Семантика в преподавании русского языка как иностранного. Вып. 3. 4.2. Харьков: Харьковский ин-т механизации и электрификации сельского хозяйства, 1990. С. 291-292. (в соавт. с Родиной Е.И.). (0,1 п.л.).
22. О связанности с морфемным окружением свободных корней (основ) слов. //Русская словообразовательная синтагматика и парадигматика. Краснодар: Кубанский ун-т, 1991, С. 106-110. (0,4 п.л.).
23. Деривационно-текстовые соотношения и их методический потенциал //Актуальные проблемы теории и практики преподавания русского и иностранных языков. Краснодар: Куб-ГУ, 1991, С.35-36. (в соавт. с Факторовичем А.Л.). (0,1 п.л.).
24. Проблема ошибок в лингвистическом и лингводидак-тическом аспектах //Актуальные проблемы теории и практики обучения русскому и иностранным языкам. Мат-лы 2-ой региональной научной конференции. 4.2. Краснодар: КубГУ, 1992, С. 109-110. (в соавт. с Факторовичем А.Л.). (о,1 п.л.).
25. Парадокс в языке публицистики: проявление принципа журнализма //Двести лет американской литературы и журналистики. Краснодар: КубГУ, 1993, С. 76-77. (в соавт. С Факторовичем А.Л.). (о,1 п.л.).
26. О связующих линиях в парадигмах исследования ошибок //Лингвистика: взаимодействие концепций и парадигм. Вып. 1.4.2. Харьков: Харьковский ин-т механизации и электрификации сельского хозяйства, 1991, С.304-305. (всоавт. С Факторовичем А.Л.). (о,1 п.л.).
27. Фразеологизмы как средство формирования газетно-журнальных текстов //Лексикология и фразеология: новый взгляд. Раздел "Фразеология". Тез. 2-ой Межвузовской научной конференции. М.: Московский заочный гос. пед. ин-т, 1990, С.61-63. (в соавт. С Молдовановой Л.И.), (о,2 п.л.).
28. О лексикографической обработке предикативов (слов категории состояния) //Проблемы учебной лексикографии: состояние и перспективы развития. Тез. общесоюзной научно-методической конференции. Симферополь: Симферопольский ун-т, 1991. (в соавт. С Факторовичем А.Л.). (о,1 п.л.).
29. Об элиминировании интраязыковых лакун относительных прилагательных в аудитории иностранных студентов-филологов (текстообразующий аспект). Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного. Тез. Международной научно-методической конференции. М.: МГУ, 1996. (о,2 п.л.).
30. Об учете словообразующих особенностей флексий при изучении русской лексики в группах кубинских студентов-филологов //Вопросы совершенствования обучения иностранному языку как средству межнационального общения. Мзт-лы республиканской научно-методической конференции. 4.1. Харьков: Харьковский ин-т механизации и электрификации сельского хозяйства, 1991, С. 77-79. (о,2 п.л.).
31. Acerca de la interrelacion de los niveles de la lengva en la expression del contraste // Boletín ISPLE. Cuba. Навапа, 1992. (в соавт. С Факторовичем А.Л.). (о,5 п.л.).
32. Лингвострановедческий аспект на занятиях по стилистике со студентами из США //IV Международный симпозиум по лингвострановедению. Тез. Докладов и сообщений. М.: Российский фонд мира, 1994, С. 185-187. (в соавт. С Факторовичем А.Л.). (о,2 п.л.).
33. Компаративы и краткие формы как способ элиминирования интраязыковых лакун русских прилагательных //Актуальные проблемы русистики (посвящается 70-летию Э.В.Кузнецовой); Тез. докладов Международной научно-теоретической конференции. Екатеринбург: Институт русского языка РАН: 1997. (о,2 п.л.).