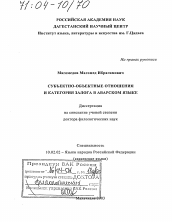автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.02
диссертация на тему: Субъектно-объектные отношения и категория залога в аварском языке
Полный текст автореферата диссертации по теме "Субъектно-объектные отношения и категория залога в аварском языке"
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ
На правах рукописи
Магомедов Магомед Ибрагимович
' СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1 И КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
I [
Автореферат
диссертации на соискание учёной степени доктора филологических наук
I
Специальность 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (кавказские языки)
Москва - 2003
Работа выполнена в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор С.Н. Кузнецов доктор филологических наук, профессор Б.Б. Талибов доктор филологических наук, профессор Э.М. Шейхов
Ведущая организация -
кафедра общего и дагестанского языкознания Дагестанского государственного педагогического университета
Защита состоится "_"_2003 г. на заседании диссертационного совета Д 002.006.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при Институте языкознания РАН по адресу: 103009, Москва, Большой Кисловский пер., 1/12.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института языкознания РАН
Автореферат разослан "_"_2003 г.
Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.006.01 доктор филологических наук
А.А. Чеченов
2ooj-A
15^7
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
В настоящей работе предлагается опыт исследования способов выражения субъектно-объектных отношений в аварском языке и той роли, которую играет в специфике их отражения в структуре предложения категория залога. Выбор подобной темы неслучаен: проблематика субъектно-объектных отношений всегда относилась к основным направлениям лингвистических исследований. Достаточно вспомнить известное высказывание крупнейшего американского лингвиста XX столетия Э. Сепира об универсальности выражения субъектно-объектных отношений: "Ни один из известных нам языков не может от этого увернуться, равно, как он не может выразить что-либо, не прибегая к символам для конкретных понятий" [Сепир 1934: 73]. Подобное исследование базируется на основе современной теории эргативности — составной части кон-тенсивной типологии, в рамках которой представляется характеристика структурных компонентов предложения и синтаксических связей между ними.
Актуальность темы исследования. Типологические особенности строения простого предложения в нахско-дагестанских языках постоянно привлекают внимание исследователей — специалистов в области общего, типологического и сравнительно-исторического языкознания. В работах, посвященных исследованию синтаксического строя этих языков, ставятся и находят свое решение такие важнейшие проблемы синтаксиса простого предложения, как сущность и определение предложения как основной синтаксической единицы, выделение основных типов предложения в соответствии с их коммуникативными целеустановками, выработка критериев определения членов предложения, детальный анализ особенностей синтаксической связи между компонентами предложения, структурная характеристика конструкций предложения и др., что имеет огромное научное значение не только для нахско-дагестанского языкознания, но и предлагает пути решения многих общелингвистических, в частности типологических проблем.
В то же время специфика выражения субъектно-объектных отношений в структуре нахско-дагестанского предложения до настоящего времени остается слабо изученной стороной синтаксических явлений, что обусловлено, с одной стороны, отсутствием комплексного анализа используемого в работах по данной проблематике материала и, с другой стороны, сложностью самого объекта исследования, требующего вовлекать в орбиту изучения данные нескольких языковых уровней.
Конечно, в последнее время синтаксические исследования дагестанских языков все более выдвигаются на передний план, причем существенно расширяется методика и теоретически?
дований. Довольно большое количество про и
менее удовлетворительное решение, еще большее число их поставлено и продолжает обсуждаться, а к решению некоторых синтаксических вопросов, ответы на которые необходимы для адекватного описания синтаксиса дагестанских языков, мы еще не приступили.
На сегодняшний день мы можем назвать целый ряд монографий, диссертаций и специальных статей, посвященных актуальным проблемам синтаксиса отдельных дагестанских языков, в их числе работы A.A. Бокарева, М.М. Гаджиева, М.-С.Д. Саидова, Г.Б. Муркелинского, У.А. Мейлановой, З.Г. Абдуллаева, Б.Г.-К. Ханмагомедова, А.Е. Кибрика, С.К. Сулеймановой, М.-Ш.А. Исаева, С.М. Махмудовой, П.А. Су-леймановой и др. К сожалению, до сих пор нет какой-либо обобщающей работы по синтаксису лакского языка. Кроме того, практически не разработаны проблемы синтаксиса ни по одному из дагестанских бесписьменных языков (исключение составляет цезский синтаксис, которому посвящена монография Р.Н. Раджабова). Да и по другим языкам многие синтаксические положения нуждаются в уточнении и в дальнейшей разработке.
Дагестанская лингвистика может гордиться таким капитальным трудом по исследованию синтаксиса аварского языка, как монография A.A. Бокарева [Бокарев 1949]. Несмотря на то, что со времени ее выхода прошло свыше пятидесяти лет, она, на наш взгляд, до сих пор не потеряла своей ценности. Правда, задача этой книги состояла прежде всего в описании общего синтаксического строя, уточненном и углубленном последующими поколениями дагестанских синтаксистов (М.М. Гаджиев, З.Г. Абдуллаев, Б.Г.-К. Ханмагомедов и др.). Синтаксическая концепция A.A. Бокарева, сильно повлиявшая на дагестанское языкознание, заслуживает надлежащего внимания и в наши дни.
Разные научные направления и концепции дают разные перечни синтаксических объектов. Наиболее очевидными и бесспорными являются следующие: словосочетание, простое предложение и сложное предложение. Остановимся на каждом из них в отдельности.
Изучению словосочетания в дагестанских языках посвящен ряд диссертаций, статей и монографий (см. работы Б.Г.-К. Ханмагомедова, С.К. Сулеймановой,.М.-Ш.А. Исаева, С.М. Махмудовой, П.А. Сулеймановой, М.И. Магомедова, Р.Н. Раджабова и др.). Вместе с тем каждый автор рассматривает какой-нибудь один класс словосочетаний (в основном именные или глагольные). Неисследованными остались адъективные, наречные, субстантивно-глагольные, наречно-глагольные, глаголь-но-инфинитивные и другие типы словосочетаний.
Система словосочетаний в дагестанских языках очень обширна и сложно устроена. Задача исследователя - в описании и систематизации всех типов словосочетаний.
Простое предложение представляет собой центральный объект синтаксиса во всех современных синтаксических концепциях. Проблемам простого предложения посвящены работы М.М. Гаджиева, Б.Г.-К. Ханмагомедова, З.Г. Абдуллаева. Сравнительному исследованию структуры простого предложения аварского и английского языков посвящена кандидатская диссертация У.А. Исламовой. Между тем и в синтаксисе простого предложения дагестанских языков остается много нерешенных проблем.
Первая проблема. Дифференциальным признаком, на основе которого члены предложения традиционно делятся на главные и второстепенные, является вхождение или невхождение в предикативную основу предложения.
В дагестанских языках к главным членам традиционно относят подлежащее, сказуемое, и прямое дополнение (объект). Однако в предикативную основу двусоставного предложения (непереходная конструкция) входят только подлежащее и сказуемое как взаимно предполагающие друг друга. В предложениях переходной конструкции три члена предложения составляют конструктивное ядро предложения. Можно ли рассматривать здесь все члены предложения как главные? Анализ дагестанских языков показывает, что не все члены предложения имеют в данной конструкции равный статус главных членов: подлежащим выступает имя в номинативе, которое находит классно-числовое и личное отражение в глаголе-сказуемом (в тех языках, где эти категории представлены). Например, в аварском языке имя в номинативе (подлежащее) находится не в односторонней зависимости от глагола-сказуемого, а во взаимосвязи с ним: оно не только зависит от глагола-сказуемого, которое диктует ему его форму (номинатив), но и определяет форму глагола-сказуемого применительно к категориям числа и класса. Глагол-сказуемое получает оформление по этим категориям, отражая в своей форме соответствующие свойства подлежащего. Отнесение подлежатцего-имени в номинативе, находящегося во взаимосвязи с глаголом-сказуемым, к главным членам оправдано именно тем, что подлежащее участвует в оформлении предикативной основы предложения. Что же касается третьего члена трехсоставного предложения переходной конструкции, то он не находит отражения в глаголе-сказуемом и, следовательно, не может рассматриваться как подлежащее. Имена в эргативе, дативе и др. восполняют и конкретизируют семантически неполноценные или неопределенные по своей грамматической семантике главные члены - подлежащее и сказуемое.
Вторая проблема касается соотношения понятий "подлежащее" и "субъект". В дагестанских языках существуют противоречивые точки зрения относительно дефиниций терминов "подлежащее" и "субъект".
Например, И.И. Мещанинов различает в аварском языке пять разных падежей подлежащего - номинатив, эргатив, датив, посессив и локатив, исходя из того, что падеж подлежащего зависит от заложенного в глагол содержания. Такого же принципа определения подлежащего придерживаются также A.A. Бокарев, М.М. Гаджиев, М.-С.Д. Саидов, Г. Шара-шидзе, К. Эбелинг и др. Все указанные выше падежи являются субъектными, так как не подлежащее стоит в эргативе, дативе, посессиве и др., а носитель или производитель действия, т.е. субъект.
Подлежащее и субъект относятся к разным уровням предложения, следовательно, их нельзя отождествлять. Таким образом, формой выражения подлежащего является только имя в номинативе, с которым координируются классно-числовые показатели глагола-сказуемого. В дагестанских языках главная из специфических черт подлежащего - в задаваемой им необходимости координации с глаголом-сказуемым. Даже в потенции этой способностью не наделен ни один из выразителей субъекта - факт несомненно интересный и заслуживающий дальнейшего изучения. Это формальное своеобразие глубоко симптоматично и в семантическом отношении, так как координация всегда указывает на отнесенность признака к его непосредственному носителю. Следовательно, подлежащее как компонент предложения противопоставлено другим выразителям субъекта и по грамматическому значению, и по роли в структурной организации предложения.
Третья проблема. В дагестанских языках еще окончательно не исследованы особенности сложного предложения во многих его аспектах, несмотря на работы A.A. Бокарева, М.М. Гаджиева, З.Г. Абдуллаева, Б.Г-К. Ханмагомедова, а также Д.С. Самедова, исследовавшего сложное предложение в аварском языке в сопоставлении с русским. Конкретно не определен статус причастных, деепричастных, масдарных конструкций и их функции в составе сложного предложения. До сих пор нет обобщающей работы по синтаксису сложного предложения дагестанских языков.
Четвертая проблема. Продолжает оставаться актуальной теория эр-гативности. Понятие "эргативный строй языка" говорит о том, что вся система языка характеризуется определенными признаками эргативно-сти. Однако вопрос о том, что же из себя представляет эргативный строй языка, остается нерешенным по целому ряду уровней.
На наш взгляд, эргативность представляет собой один из структурных элементов языка. Эргативность может быть выражена лишь фактами двух языковых уровней - морфологического (словоизменительная структура) и синтаксического (структура словосочетания и предложения).
Когда речь идет о функциях эргатнва, должны быть, вероятно, четко разграничены семантический и синтаксический аспекты его функционирования. Без разграничения названных аспектов невозможно установить подлинную природу данного падежа, так как по ряду признаков, в частности по характеру связи с глагольным процессом, не всякий субъект эр-гатива может быть квалифицирован как подлежащее. Это обстоятельство приходится подчеркивать в связи с развивающейся в теории эргатив-ности тенденции квалифицировать всякий субъект эргатива в качестве подлежащего, отождествления "субъекта эргатива" и "подлежащего эргатива". Кроме того, в качестве подлежащего квалифицируется не только всякий субъект эргатива, но и всякий субъект косвенных падежей -датива, генитива, локатива и т.д.
Пятая проблема. Речь идет о категории залога в системе эргативно-сти. Как известно, в теории эргативности большинством специалистов принята версия о залоговой нейтральности эргативной конструкции, хотя указанной версии предшествовали или сопутствовали разного рода теории о пассивности или активности этой же конструкции.
Изучая чеченский и аварский языки с классным спряжением глагола, П.К. Услар впервые выдвинул версию об отсутствии в данных языках глаголов действительного залога. По мнению П.К. Услара, глаголы здесь носят характер страдательного или среднего залога. В последующих исследованиях эта мысль была предана забвению. Классный глагол в этих языках относится в структуре предложения к имени в номинативе. Косвенные падежи, в их числе и эргатив, не могут отразить в глаголе свою категориальную субстанцию. Такие косвенные падежи, которые не имеют в глаголе отражения своей категориальной субстанции, синтаксически могут быть квалифицированы только как второстепенные члены.
Подлежащим в названных языках может быть лишь номинатив. Однако номинативность эргативных языков существенно отличается от номинативности номинативных языков.
Таким образом, ни классный, ни классно-личный глагол в принципе не может быть нейтральным в залоговом отношении.
Шестая проблема. Синтаксис диалектов и их роль в формировании синтаксической структуры литературных языков.
Недостаточная изученность синтаксиса диалектов относительно других уровней языка неоднократно отмечалась в лингвистической литературе. По-видимому, это не случайно. Очевидно, кроме субъективных факторов (малой изученности), есть и чисто объективные причины: изменения в синтаксисе происходят гораздо медленнее, чем на других уровнях языка. Отсюда - и меньше черт различий в синтаксисе диалек-
тов. Элементы, общие для всех диалектов, значительно преобладают над частными, различительными. Однако, совпадая в своих основных чертах, синтаксические структуры диалектов дагестанских языков имеют также существенные различия. Так, наблюдаются тенденции утраты диалектных черт под воздействием литературного языка, а также в результате влияния русского языка, в других диалектах сохранились архаичные синтаксические конструкции. Кроме того, произошли определенные изменения в ходе развития языка. Задача выявления общих и частных закономерностей междиалектных взаимодействий представляет собой необходимый этап в изучении синтаксиса диалектов дагестанских языков.
Кроме перечисленных выше, в теоретическом и практическом плане представляются очень значимыми следующие проблемы по синтаксису дагестанских языков:
1. Порядок слов в предложении и интонация.
2. Актуальное членение предложения.
3. Отсутствие теоретических работ в области синтаксиса, что способствует отставанию исследования данного раздела языка.
4. Имеющиеся некоторые научные работы, учебники и учебные пособия по синтаксису не отражают в достаточной степени своеобразия синтаксиса дагестанских языков, следуя, как правило, традициям исследования индоевропейских языков.
Безусловно, в синтаксисе дагестанских языков значительно больше синтаксических проблем, чем здесь названо. Надеемся, что будущие исследования по синтаксису будут эффективными и внесут свой вклад в развитие дагестанских языков.
Основной целью настоящего исследования является изучение структуры простого предложения аварского языка и взаимоотношений его компонентов в связи со способами выражения субъектно-объектных отношений, его основных конструкций в аспекте проявления категории залога. При достижении этой цели решались следующие задачи:
1. Исследование сущности простого предложения в аварском языке, выделение его дифференциальных признаков в сопоставлении со смежными структурами.
2. Определение границ минимальной предикативной основы простого предложения.
3. Рассмотрение конструкций простого предложения в типологическом аспекте в связи с проявлением категории залога.
4. Установление критериев иерархии членов предложения, в особенности в аспекте оппозиции его главных и второстепенных членов; определение подлежащего и дополнения.
5. Классификация способов синтаксической связи и синтаксических отношений между компонентами и членами простого предложения.
Научная новизна работы заключается прежде всего в выборе аспекта исследования субъектно-объектных отношений: комплексное изучение этой проблемы в работе предлагается с точки зрения функционирования в аварском языке категории залога, до сих пор не выделявшейся на материале аварского языка, хотя отдельные фрагментарные суждения по данному вопросу в литературе по аварскому языку имеются. Таким образом, в настоящей работе впервые в исследовании синтаксиса аварского языка всесторонне изучены структурные и коммуникативные способы выражения субъектно-объектных отношений, предложена их классификация, подробно проанализированы условия реализации каждого из рассмотренных способов.
Теоретическая и практическая значимость данной диссертационной работы вытекает из того, что в теоретическом отношении анализ строения способов выражения субъектно-объектных отношений в рамках простого предложения вносит определенный вклад в первую очередь в сопоставительное и типологическое изучение синтаксиса кавказских языков, в определение специфики их синтаксического строя, которая исследовалась до настоящего времени без учета функционирования в этих языках категории залога. Проведенный в диссертации комплексный анализ проблем, связанных с конструктивными особенностями различных способов выражения субъектно-объектных отношений (отчасти с сопоставлениями аналогичных средств в языках различного строя), тесно связан с особенностями выражения главных членов предложения, своеобразием выражения в к»гх синтаксических отношений и связей комхюненюв предложения, предполагает восполнение имеющегося до настоящего времени пробела в исследовании синтаксиса аварского и в некоторой степени других нахско-дагестанских языков, обогащает методику типологического и сопоставительного синтаксиса результатами, полученными на основе применения новых концепций.
Результаты исследования могут послужить основой для типологического обобщения итогов изучения синтаксиса простого предложения родственных и иных языков Северного Кавказа. На наш взгляд, существенное значение эти результаты могут иметь для такой сравнительно новой области лингвистики, как функциональная типология.
Практическое применение результаты анализа субъектно-объектных отношений в аварском синтаксисе найдут как при составлении научных, вузовских и школьных грамматик и программ (особенно в той части, которая касается синтаксиса простого предложения), так и в качестве вспомогательного материала для учителей современного аварского языка, для работников национальных средств массовой информации, в т.ч. редакторов, журналистов и др.
В качестве анализируемого материала исследования в работе использована современная аварская художественная литература, произведения устного народного творчества, периодическая печать и живая разговорная речь. Хотя исследование синтаксического строя различных жанров фольклора считается одним из важнейших направлений исследования языка устного поэтического творчества, паремиологический фонд аварского языка до настоящего времени не был исследован в этом аспекте.
Приемы и методы исследования, используемые в работе, обусловлены спецификой исследуемого материала. В работе использовались классификационный метод, оппозитивный метод, метод моделирования и другие методики.
Следует особо выделить используемые в данном исследовании типологические методы, особенно эффективные в тех случаях, когда предлагаемый анализ касается материала иных языков различной генетической принадлежности. В меру необходимости в работе используются приемы и способы анализа, применяемые в работах по контрастивной лингвистике. Сопоставительный метод опирается в настоящей работе как на схему "от формы к содержанию", так и на схему "от содержания к форме".
Апробация и публикации. Диссертационная работа обсуждена и рекомендована к защите в отделе грамматических исследований дагестанских языков Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН и на кафедре русского языка с курсом подготовительного отделения Дагестанской государственной медицинской академии. Основные положения работы отражены в монографии автора "Субъектно-объектные отношения и категория залога в аварском языке". — М., 2003 (14,5 п.л.). Вышло из печати более 50 публикаций по теме исследования. Результаты исследования были изложены в докладах на различных научно-практических конференциях по проблемам иберийско-кавказских языков в Москве, Тбилиси, Махачкале и др.
Структура и объем работы. Диссертация представляет собою рукопись из 302 страниц машинописи, которая включает в себя оглавление, введение, четыре главы, заключение, список использованной литературы и список сокращений.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи, методы и приемы работы, отмечается ее научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность, дается обзор специальной литературы по данной проблематике.
Глава 1.
ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДАГЕСТАНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
Хотя способы выражения субъектно-объектных отношений являются центральной проблемой в теории познания, логике и лингвистике, решение ее в каждой из указанных областей науки не имеет однозначного решения. Специальные типологические исследования дагестанских языков по существу еще только начинаются [см. Климов, Алексеев 1980; Кибрик 1979-1981 и нек. др.], в отличие от сравнительно-генетических, где уже сложилась определенная традиция. Между тем передача субъектно-объектных отношений обнаруживает яркую специфику, проявляющуюся при сопоставлении материала языков эргативного и номинативного строя.
Несмотря на то, что в науке о языке неоднократно подчеркивалась необходимость сопоставительного изучения эргативных и номинативных конструкций, все же заметных успехов в этой области мы не наблюдаем. Особенно это важно подчеркнуть в связи с тем, что "принятое ранее понятие "эргативный строй", предполагающее принципиальное синтаксическое подобие всех языков с эргативной конструкцией, не выдержало эмпирически проверки данными естественных языков" [Кибрик 2003]. Последнее замечание, в свою очередь, предполагает обращение более пристального внимания при разработке общих проблем эргатив-ности к каждому из представителей "эргативного строя". Как ни парадоксально, лишь в связи с теорией эргативности лингвисты осознали необходимость исчерпывающей характеристики и номинативного (или ак-кузативного) типа.
К числу нерешенных проблем, связанных с проявлением черт эргативности в нахско-дагестанских языках, можно отнести слабое описание лексико-грамматических классов глаголов, обусловливающих соответствующие модели предложения. Уже в последние годы и в этом направлении были сделаны известные шаги, в частности Э.М. Шейхов [1983] предложил подробную лексико-грамматическую классификацию глаголов в лезгинском языке, соотносимую с общими представлениями о роли глагольной лексемы в формировании структурного облика эргативной конструкции.
Исследования способов выражения субъектно-объектных отношений в дагестанских языках имеют давнюю историю. Уже в фундаментальных грамматиках П.К. Услара [1888; 1889; 1890; 1892; 1896; 1979] были сделаны первые попытки раскрыть специфические черты на-хско-дагестанской языковой структуры в том, что касается выражения субъектно-объектных отношений. Как известно, именно с работами П.К. Услара связано обоснование концепции пассивности эргативной конструкции (подробно об этом см. [Чикобава 1940; 1950; 1961; Магометов 1960; 1979; Абдуллаев З.Г. 1969 и др.]). Хотя у Услара мы находим довольно подробное описание особенностей эргативной конструкции предложения в нахско-дагестанских языках, собственно термин "эргативная конструкция" был введен в научный обиход гораздо позднее [Дирр 1928].
Следует заметить, что изучение проблем эргативности не только дагестанских, но и языков других семей примерно до 70-х гг. прошлого сюлетия ограничивалось лишь одним аспектом - эргативной конструкцией предложения (ср. хотя бы названия: "Эргативная конструкция предложения" [1950], "Эргативная конструкция предложения в языках различных типов" [1967]), хотя еще A.M. Дирр находил обоснование противопоставленных в дагестанских языках конструкций в наличии соответствующих лексических групп глаголов. Так, например, в грамматическом описании рутульского языка он предложил обоснование существования в этих языках трех лексических групп глаголов, обусловливающих наличие соответствующих конструкций предложения [Дирр 1911: 62]. Дальнейшие наблюдения в этой области он суммировал в обобщающем руководстве по изучению кавказских языков, где впервые предложил разграничивать эргативную, дативную (или аффективную) и номинативную конструкции предложения [Дирр 1928; 1950]. Мысль о том, что эргативная конструкция предложения является как бы следствием функционального обособления соответствующего глагольного класса, была развита A.C. Чикобава [1950].
Естественно, что подобные воззрения на проблемы эргативности находили свое отражение и в трудах по синтаксису дагестанских языков [см. Бокарев 1949; Гаджиев 1954; Ханмагомедов 1970; Абдуллаев 1971 и др.]. И.И. Мещанинов, в той или иной степени использовавший в своих исследованиях данные аварского, лакского, даргинского, удинского, лезгинского, агульского, чеченского, бацбийского и других языков, не отходил еще от традиционной точки зрения на проблему, но именно в его работах [Мещанинов 1936; 1940; 1967; 1984 и др.] были впервые сформулированы идеи о системном характере эргативности как лингвистического явления, что выразилось, во-первых, в функциональном отождествлении различных морфологических средств выражения эргативности
(падеж именных членов предложения, личные и классные показатели в глаголе) и, во-вторых, в комплексном подходе к дихотомии переходного (эргативная конструкция) и непереходного (абсолютная конструкция) предложений.
Идеи И.И. Мещанинова были развиты в концепции Г.А. Климова, центральным моментом которой является понимание эргативности как системы разноуровневых импликаций, включающей противопоставление "агентивных" и "фактитивных" глаголов (термины "агентивный" и "фактитивный" были предложены А.Е. Кибриком [1976] для обозначения семантических ролей, оформляемых в дагестанских языках соответственно эргативом и абсолютивом) на лексическом уровне, эргативной и абсолютной конструкций предложения на синтаксическом уровне и эр-гативного и абсолютного падежей, а также соответствующих им функционально личных и классных аффиксов в глаголе на морфологическом уровне [Климов 1973; 1977; 1981; 1983]. На основе этой концепции был проведен комплексный анализ типологии кавказских языков, в том числе нахско-дагестанских [Климов, Алексеев 1980 и др.].
Одновременно с концепцией Г.А. Климова, которая не без оснований может быть названа цельносистемной, в зарубежном языкознании формируется другой подход к проблеме, получивший название "парциальный" [см.: Андерсон 1974; Комри 1978; Диксон 1979 и др.], из отечественных исследований к этому направлению близки работы А.Е. Кибрика [1979-1981 и др.].
Казалось бы, цельносистемный и парциальный подходы довольно близки друг к другу, интерпретируя эргативность как явление, охватывающее практически все языковые уровни. Вместе с тем очевидно, что в первом случае между проявлениями эргативности на различных уровнях предполагается обязательная иерархическая связь, в то время как во втором случае каждое явление, на каком бы уровне оно ни было обнаружено, сохраняет свою автономность.
Более того, некоторые эргативные (с точки зрения парциального определения) черты обнаруживаются лишь в номинативных языках: имеется в виду пассивный залог. Аналогичным образом антипассив, примером которого может служить дарг. дурхЫ жузли уч1ули сай при эрг. dypxlmu жуз буч1ули сай "ребенок читает книгу" (об особенностях аналогичных конструкций в других языках см. [Хайдаков 1964; Магометов 1973; Гайдарова 1973; Кибрик 1975; Алексеев 1985 и др.]), является номинативной чертой, обнаруживаемой только в языках эргативного строя.
Можно ли каким-либо образом соединить оба подхода? Думается, полностью осуществить это не удастся, однако сблизить рассматриваемые подходы можно. Путь к этому сближению наметился в результате обнаружения определенных закономерностей в оформлении имен-
ных членов предложения аффиксами номинатива, аккузатива, эргатива и абсолютива (несмотря на критику последнего термина [Дешериева 1982; 1987], мы считаем его употребление в типологических исследованиях не только возможным, но и обязательным во избежание смешения его с субъектным падежом номинативных языков).
В последнее время в зарубежных исследованиях нередко обращают внимание на возможности функционирования эргативности на уровне текста, которая может быть определена как преимущественное употребление в качестве темы сообщения имени, выступающего в роли субъекта и объекта. По нашим материалам, дагестанские языки в этом отношении больше тяготеют к номинативности, что вполне укладывается в рамки упомянутых выше закономерностей. Приведем в качестве примера фрагмент текста на лезгинском языке: Къадим заманда... Къурбан mleap алай къуьзуь кас яшамиш жезвай. Адахъ... пуд хва авай. Кьуьзуь кас дуьнья акур... итим тир. Ад аз... са касдин мулкар галайдакай... хабар авай. Къурбана... веси авуна. "В старое время жил старый человек по имени Курбан (абс.). У него (лок.) три сына было. Старый человек (абс.) был человеком, повидавшим мир. Он (дат.) знал о существовании земель одного человека. Курбан (эрг.) написал завещание".
Как видим, тема сообщения ("старый человек по имени Курбан") оформляется различными падежами, но при этом все время выступает в роли субъекта, что является очевидным признаком номинативности.
Признание принципов структурной организации лексики ведущим началом для типологической характеристики языка в целом влечет за собой необходимость повышенного внимания к лексико-грамматической классификации глаголов, в основе которой, как принято считать, лежит противопоставление переходных и непереходных глаголов. Надо сказать, что особенности этой оппозиции, в том числе и характерные черты ее морфологического оформления получили определенное освещение в специальных статьях [см.: Быховская 1938; Муркелинский 1977; Бурчу-ладзе 1979; Шейхов 1980; 1983а; Керимов 1986 и др.]. В результате были установлены определенные колебания в структурном оформлении некоторых глагольных лексико-тематических групп с точки зрения переходности/непереходности, например, глаголов, выражающих внешнее воздействие, звукоподражательных глаголов, "соматических" глаголов типа качать (головой) и др. [см.: Тестелец 1987; Климов, Алексеев 1980: 180185]. К средствам формального выражения оппозиции переходности/непереходности, выявленным в различных дагестанских языках, можно отнести каузативирующие суффиксы в словах типа цез. кеца "лечь" - кецра "уложить", интранзитивирующие аффиксы типа авар. беццизе "косить" - вещаризе "заниматься косьбой", а также противопоставление видо-временных и модальных суффиксов, обусловленное оппо-
зицией по переходности/непереходности (типа чам. буцТ-бв "беги", но ч1ин-а "бей") и др.
Как видим, специфика выражения субъектно-объектных отношений в дагестанских языках проявляется практически на всех уровнях языковой структуры. Дальнейшие исследования в этом направлении, несмотря на значительную проделанную работу, еще выявят новые закономерности, которые могут быть использованы и в общей теории эргативности.
Хотя вопрос о главных членах предложения сравнительно хорошо изучен в русском языке, тем не менее и в нем существуют самые противоречивые точки зрения относительно подлежащего, способов его выражения, грамматических связей между ними. До сих пор в научном синтаксисе нет единого мнения, что считать подлежащим, чем оно отличается от субъекта, где оно совпадает с ним.
В традиционном синтаксисе русского языка подлежащим принято считать имя в форме именительного падежа, все остальное относится не к подлежащему. При таком подходе разграничиваются "глубинная" и "поверхностная" структуры предложения, выделяются реальный субъект, не всегда совпадающий с грамматическим подлежащим, и субъект, равный подлежащему.
Однако в связи с трудностями интерпретации некоторых синтаксических конструкций в последнее время со стороны отдельных лингвистов заметно стремление расширить рамки традиционного понимания подлежащего в русском языке. Так, в русском языке в качестве подлежащего рассматривают и имена в родительном падеже при количественном или отрицательном значении: народу много, грибов тьма, книг нет и т.п. Первый компонент в форме родительного падежа рассматривается ими как субъект-подлежащее. На этом основании все предложение рассматривается как двусоставное. Такое объяснение (родительный падеж - подлежащее), конечно, неприемлемо для синтаксиса русского языка: родительный падеж не может быть приравнен к именительному.
В имеющейся обширной лингвистической литературе эргативность определяется через такие фундаментальные термины, как переходность (транзитивность) и непереходность (интранзитивность), субъект и объект. Эргативный строй аварского языка, в отличие от русского, характеризуется как система, в которой субъект, соответствующий подлежащему, оформляется в переходных и непереходных конструкциях по-разному: в первых в форме специального эргативного падежа (сравнительно редко и в дат.п.), во вторых - в форме именительного падежа. Объект, соответствующий прямому дополнению, при переходных глаголах выражается тем же падежом, что и субъект-подлежащее при непереходном глаголе - именительным.
В эргативных языках принято разграничивать основные или грамматические падежи, передающие субъектно-объектные отношения, и локативные, передающие пространственные отношения денотатов.
В кавказоведении нет единства относительно обозначения самого падежа подлежащего при непереходных глаголах. Одни исследователи называют его абсолютным, другие — основным, третьи - неоформленным и т.д. [Дешериева 1985]. Абсолютным называют его, имея в виду то, что форма именительного падежа имени является исходной, основополагающей для остальных падежей. На самом же деле в дагестанских языках не всегда так: в них обычно от основы именительного падежа образуется форма эргативного падежа, которая в свою очередь становится производящей основой для большинства косвенных падежей. Так, местные падежи аварского языка образованы прибавлением к форме эргативного падежа соответствующих падежных окончаний, следовательно, эргативный падеж морфологически является исходной формой для косвенных падежей. Когда речь идет о типичных представителях языков эр-гагивного строя, какими являются западно-кавказские языки, следовало бы в соответствии с их типологической принадлежностью оперировать понятиями "эргативный падеж — абсолютный падеж", "эргативная конструкция - абсолютная конструкция" [Шухардт 1950].
Эргативный падеж, который по своему морфологическому оформлению образуется прибавлением соответствующего окончания к основе именительного падежа, также следует считать вторичным. Но с точки зрения синтаксической характеристики эргативный падеж в лезгинских языках является таким же прямым падежом, как и именительный. Таким образом, в лезгинских языках именительный падеж является морфологически производящей основой для эргативного падежа, который в свою очередь становится производящей для остальных косвенных падежей, но с точки зрения синтаксической оба указанных падежа являются прямыми, как именительный падеж в русском языке.
Именно грамматическая форма выражения подлежащего служит одним из средств разграничения сущности номинативных и эргативных конструкций разноструктурных языков, какими являются русский и дагестанские языки. В. переходных и непереходных синтаксических конструкциях русского языка грамматическое подлежащее выражается формой именительного падежа независимо от того, совпадает оно или не совпадает с семантическим субъектом иди объектом, в то время как в лезгинских языках в зависимости от способа выражения грамматического подлежащего разграничиваются переходные и непереходные конструкции: в первых подлежащее выражается эргативным падежом, прямое дополнение - именительным, во вторых прямое дополнение отсутствует, а подлежащее выражается именительным падежом. Причем в Дагестан-
ских языках, в отличие от русского, падежи семантического субъекта и грамматического подлежащего с одной стороны, семантического объекта и прямого дополнения, с другой, совпадают.
Таким образом, в дагестанских языках, за исключением удинского, с точки зрения синтаксической характеристики падежей подлежащего три. В тех случаях, когда сказуемое выражено переходным глаголом, семантический субъект и подлежащее выражаются формой эргативного падежа (если этот глагол-сказуемое не является аффективным), именительным падежом, если сказуемое выражено непереходным глаголом. А в так называемых аффективных конструкциях реальный субъект и грамматическое подлежащее принимают форму дательного падежа, а реальный объект и прямое дополнение - форму именительного падежа. Имена в форме других падежей выполняют синтаксическую функцию не подлежащего, а косвенного дополнения.
Именно эта многопадежность грамматического выражения подлежащего - именительным, эргативным, дательным падежами - в зависимости от принадлежности глагола-сказуемого к той или иной семантико-грамматической группе и составляет важнейшую отличительную особенность дагестанских языков по сравнению с русским, в котором единственной формой выражения подлежащего считается именительный падеж. Отрицание за лезгинскими языками этой особенности означало бы отрицание наличия в действительности языков эргативного и номинативного строя.
Как видно, абсолютное большинство исследователей дагестанских языков при объяснении проблемы эргативности, а также особенностей способов выражения субъектно-объектных отношений исходят в основном из морфологических (формальных) признаков компонентов структуры предложения в ущерб синтаксической сущности рассматриваемого явления. Естественным следствием этого явился, по мнению Г.А. Климова, "имеющийся морфологизм" [Климов 1973]. И как результат такого морфологизма в дагестанских языках, устанавливают три главных члена предложения - подлежащее, сказуемое и ближайший объект (прямое дополнение).
Глава 2.
СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АВАРСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ И В ЕГО ДИАЛЕКТАХ
В структурном отношении аварский язык и его диалекты представляют собой весьма сложное и многообразное явление. Основными элементами аварского языка являются литературный язык со своими письменной и устной формами и диалектные формы языка с многочисленными говорами.
В качестве критериев членения языкового ареала на диалекты учитываются, как правило, следующие факторы: во-первых, наличие или отсутствие взаимопонимания между носителями диалектной речи; во-вторых, наличие или отсутствие единой письменной литературной нормы или же наличие корней; в-третьих, наличие или отсутствие у носителей диалектов сознания этнического единства, которое выявляется в едином самосознании и самоназвании.
Аварский язык подразделяется на два больших наречия - северное и южное. В северное наречие входят диалекты: восточный, западный (или салатавский) и хунзахский. Южное наречие составляют следующие диалекты: закатальский, анцухский, карахский, андалальский и гидский. Особенности тех или иных диалектов образуют сложное переплетение изоглосс.
Современные достижения в области аварской диалектологии и в особенности лингвистической географии (см. работы Ш.И. Микаилова, М.-С.Д. Саидова и др.) позволяют определить, какой вклад в литературный язык внесли все диалекты в совокупности и какая часть этого вклада приходится на каждый отдельный диалект.
Если представители каждого наречия относительно свободно понимают друг друга, то взаимное понимание речи представителями северного и южного наречий в значительной степени затруднено некоторыми различиями этих наречий в области фонетики, морфологии и лексики. В географическом плане диалектные черты могут иметь определенную территорию распространения, за пределами которой их почти не отмечают. Тем не менее, развиваясь в тесном взаимодействии, при наличии объединяющего единого литературного языка аварские диалекты подвергаются изменениям, несмотря на значительные их расхождения.
Взаимоотношения между аварскими диалектами, степень их общности и различия определяются не одним признаком, а целым комплексом признаков. Такой подход дает возможность составить более цельное представление об аварских диалектах.
Все аварские диалекты оказывают определенное влияние друг на друга. Однако несмотря на взаимный характер контактирования этих диалектов, сильнее других на прочие диалекты влияет хунзахский диалект, который вобрал в себя наиболее общие черты других диалектов. Задача выявления общих и частных закономерностей междиалектных взаимодействий представляет собой необходимый этап в изучении аварских диалектов.
Развитие любого языка тесно связано с историей развития самого народа, с его культурно-экономическим статусом и социально-политической структурой общества. Для исследования истории аварского языка роль диалектологии становится еще более значимой, так как
диалектные данные являются для него единственным источником, компенсирующим отсутствие письменных памятников.
Языковые процессы в каждом ареале протекают не с одинаковой интенсивностью. Отсутствие письменных памятников затрудняет исследование исторического синтаксиса аварского языка, поэтому ограниченным источником для диахронического изучения остается диалектный материал, который служит незаменимым средством при исследовании процессов, определивших синтаксический строй аварского литературного языка.
Наиболее интересным источником изучения аварского языка в историческом аспекте могут служить говоры и диалекты, оторвавшиеся в историческом прошлом от основных диалектов. В этом отношении представляет большой интерес закатальский диалект, находящийся в окружении азербайджанского языка, говор с. Кусур, расположенный в окружении рутульского языка, а также речь аварцев, проживающих компактно в странах Ближнего Востока.
Известно, что диалекты и говоры, находящиеся в иноязычном окружении, сохраняют в большей степени архаические языковые черты. Для установления исторических изменений в тех или иных явлениях необходимо сравнение изолированных языковых единиц с формами литературного языка. Такое сопоставление дает материал для изучения различных уровней языка: фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики, обеспечивает возможность сопоставления различных диалектных данных, с помощью которых могут быть прослежены все оттенки значения и частотности употребления той или иной синтаксической конструкции.
Недостаточная изученность синтаксиса аварского языка относительно других уровней языка неоднократно отмечалась в лингвистической литературе. По-видимому, это не случайно. Очевидно, кроме субъективных факторов (малой изученности) есть и чисто объективные причины: изменения в структуре предложения (в синтаксисе) происходят гораздо медленнее, чем на других уровнях языка. Отсюда и меньше черт различий в синтаксисе диалектов. Элементы, общие для всех диалектов, значительно преобладают над частными, различительными. Более того, именно общие элементы всех диалектов определяют синтаксический строй аварского языка. К таковым относятся: типы словосочетаний, способы соединения слов между собой в составе словосочетаний и предложений, типы предложений и основные способы их построения и др. Однако, совпадая в своих основных чертах, синтаксические структуры диалектов имеют и некоторые различия. Так, в одних диалектах наблюдается тенденция утраты диалектных черт под воздействием литературного языка, а также в результате влияния русского языка, в других сохранились архаичные синтаксические конструкции, в третьих произошли оп-
ределенные изменения в ходе развития языка. Здесь мы рассматриваем различия, установившиеся в более или менее отдаленное время. Задача выявления общих и частных закономерностей междиалектных взаимодействий представляет собой необходимый этап в изучении аварских диалектов. Общая структура аварского предложения, его содержание, размеры и т.д. в процессе исторического развития, вероятно, претерпели определенные сдвиги и изменения.
Одна из причин малой разработанности синтаксических явлений в аварских диалектах заключается в том, что до сих пор отсутствуют обобщающие работы по данной проблеме, хотя бы и чисто описательного характера, ограничивающиеся синхронным планом, но вместе с тем с точным указанием границ распространения той или иной синтаксической конструкции. В такого рода работе должна быть указана полная характеристика синтаксических явлений диалектов с указанием черт, общих с литературным языком, а также особенностей, не свойственных литературному языку.
Отметим в связи с этим, что диалектологические исследования должны вестись в тесной связи с этнографией, фольклором, историей и другими науками. В аварской диалектологии отражаются все стороны жизни их носителей.
В нынешних условиях лексико-грамматическая норма аварского литературного языка складывается в стихии борьбы против иноязычных элементов и обращения к национальным, внутренним ресурсам. В связи с расширением общественных функций литературного языка и его возрастающим влиянием на диалекты и говоры происходит их нивелировка и сближение с нормами литературного языка. Что касается территориальных диалектов, то они входят во взаимоотношения с литературным языком, как правило, через общенародную разговорную речь. Свою функцию аварский литературный язык в полной мере выполняет потому, что он понятен широкому кругу людей и близок к общенародной речи.
История развития человеческого общества не знает случаев, когда бы языки развивались без взаимодействия с другими языками и не оказывали друг на друга влияние. Проблема взаимодействия аварского языка с другими языками и со своими диалектами продолжает оставаться актуальной.
Семантическая структура предложения складывается из набора определенных смысловых компонентов, называющих участников (субъект, объект) и обстоятельства (причина, место, время и т.д.), а также компонента, указывающего на характер связывающего их отношения (предикативный признак).
Рассмотрим предложение: Инсуда вихъана кагъат хъвалев вас "отец увидел сына, который писал письмо" (букв, "отец увидел письмо пишу-
щего сына"). Здесь субъект предложения представлен локативом I серии инсуда (от эмен "отец"), предикат - глаголом внешнего восприятия вихъ-ана "увидел", а словосочетание кагъат хъвалев вас "письмо пишущий сын" целиком выступает выразителем объекта предложения. В составе данного словосочетания представлены два объектных актанта в номинативе: кагъат "письмо" и вас "сын".
Различные конструкции предложений предопределяются, как правило, характером предикатов, а также сочетательными способностями различных лексико-семантических групп глаголов и имен. Учет этих особенностей позволяет системно описать группы предложений, организуемых классами предикатов одной семантики, а также выявить разнообразные их структуры. Например, в предложениях с глаголами речи в аварском языке возможно наличие четырех компонентов. Один компонент называет действие речи (для этого служат предикаты - глаголы речи) и три компонента соответствуют трем участникам речевого акта: субъекту, адресату и объекту речи. В структуре предложения Шудадаца лъималазе маргьаби рицана "дедушка рассказал детям сказки" каждый компонент занимает определенные позиции относительно предиката. Исходную позицию здесь занимает субъект действия (к!удадаца). Грамматически положение субъекта как исходного компонента проявляется в том, что он выражается в предложении формой эргативного падежа и глагол-сказуемое (рицана) не координируется с ним ни в классе, ни в числе. Объект (маргьаби) выражается именем в номинативе и находит свое отражение в префиксальном классно-числовом показателе р- глагола-сказуемого (рицана). Адресат же (лъималазе) оформлен именем в да-тиве.
В аварском литературном языке представлены своеобразные синтаксические черты, отсутствующие в диалектах. Так, в диалектах отсутствуют назывные предложения, которые встречаются в литературном языке. Например: Рокьи. Талих!. Лъимер. Щва [Гъ.Гъ.] "Любовь. Счастье. Дитя. Звезда"; Март. Гъут1би. Дурги дирги плащ [ Гъ. Гъ.] "Март. Деревья. Твой и мой плащ" и др. Односоставные предложения как особый семантико-структурный тип простого предложения с одним главным членом в качестве организующего центра высказывания, таким образом, являются новым явлением в синтаксисе аварского языка. Вероятно, этот тип предложений аварский язык заимствовал из русского языка.
Возможны ли предложения, в которых вовсе нет предикативности? Разумеется, да. Если в предложении нет сказуемого или другого аналогичного ему члена, то конечно, в нем нет и предикативности. Так, например, нет предикативности в назывных предложениях типа: Их. Т1угь-дул. Хинал къоял. "Весна. Цветы. Теплые дни".
Определенные различительные явления наблюдаются в структуре послеложных и беспослеложных конструкций. Например, послеложные конструкции карахского диалекта соотносительны с формой имени в локативе V серии литературного языка: гъут1ода ахакь (карах, диал.) -гъот1окь (лит. яз.) "под деревом"; чода ъад (карах, диал.) - мот!а (лит. яз.) "на коне", вегьзилъ циве (карах, диал.) - вачЫналде (лит. яз.) "прежде чем пришел" и т.д. Необходимо отметить, что в аварском литературном языке в равной степени употребительны как послеложные, так и беспо-слеложные конструкции указанных типов: гъот!окь - гъот1ода гъоркь "под деревом" и т.д.
К различительным явлениям, связанным со структурой предложения, относится также различие в оформлении вопросительных предложений. Характерным для карахского диалекта вопросительным предложениям типа Дуль ъэхь ц1алури? "ты книгу прочитал?" в литературном соответствуют предложения типа Дуца т1ехь ц1аланищ? с тем же значением. Особенность структуры вопросительного предложения в карах-ском диалекте заключается в том, что при оформлении вопросительного предложения выпадает элемент частицы —щ, обязательно присутствующий в литературном языке.
Характерным признаком вопросительных предложений является специальная вопросительная интонация. Посредством значительного повышения тона в вопросительном предложении обычно выделяется то слово, которое содержит вопросительную частицу, например: Рукьищ дуца босараб? "Дом ли ты построил?"
Иногда в начале предложений, которые произносятся с вопросительной интонацией, употребляются вопросительные слова (местоимения) щиб! (-в, -й, -л), кинабЧ (-в, -й, -л) и др., например: Щал жакъа дар-сиде кват1арап'}. "Кто сегодня опоздал на урок?"
В материалах устного народного творчества аварцев просматриваются особенности того или иного диалекта. Однако в силу большой распространенности и подвижности фольклорных сюжетов и текстов последние могут совмещать в себе весьма разнохарактерные лексические и синтаксические особенности многих диалектов, а не только лишь одного диалекта, где первоначально возникли эти произведения. Следовательно, любой фольклорный текст не является образцом какого-либо конкретного диалекта.
Так, в сказании "Гьудул ц1оралде индал", написанном, несомненно, на андалальском диалекте, параллельно употребляются формы как анда-лальского диалекта, так и литературного языка. Например: Их бач!араб, эбел, лъид бицун лъалеб? [М.Х.К.] "то, что весна наступила, от кого, мама, узнаем?", где лъид - форма эргатива андалальского диалекта, ср. в лит. яз.: лъица.
Берзуд ишан гьабун гьесда бич!ч1ич1о,
Кверзуд ишан гьабун гордые вач1ана [М.Х.К.]
"Глазами знак сделав, он не понял,
Руками знак сделав, он к окну подошел".
Здесь формы слов берзуд и кверзуд оформлены эргативным падежом множественного числа андалальского диалекта (ср. в лит. яз.: бераз, кве-раз), хотя все остальные слова в этих строках соответствуют нормам литературного языка.
Аварские диалекты несколько отличаются от литературного языка и с точки зрения существования антипассива ("биноминативной конструкции"), хотя основные принципы функционирования номинативной конструкции переходного предложения, характерные для последнего, сохраняются и здесь.
По мнению М.Е. Алексеева, смысловое противопоставление эрга-тивной и номинативной конструкций переходного предложения в чада-колобском говоре аварского языка заключается в выделении логически различных частей предложения, что характерно и для литературного языка. Например, фраза ваша казъат хъва воъа 'мальчик писал письмо' (номинативный вариант) может быть ответом на гипотетический вопрос «что делал (где был) мальчик?», эргативный вариант фразы вашас кагъ-ат хъва боъа — на вопрос «написано ли письмо?» или «что писал мальчик?». Для форм будущего времени характерно сохранение в эргативной конструкции исходного значения вспомогательного глагола - значения возможности: вашас кагъат хъва бегъина 'мальчик напишет письмо', но и 'мальчик может написать письмо'[Климов, Алексеев 1980].
Безусловно, аварские диалекты характеризуются значительно большим количеством синтаксических различий, чем здесь названо, однако этот круг явлений на диалектном материале до сих пор почти совершенно не изучен. Задача выявления общих и частных синтаксических закономерностей представляет собой необходимый этап в изучении аварских диалектов.
При этом представляется существенным не только проводить описание по контрастивному принципу, выявляющему частные отличия того или иного диалекта в сопоставлении с литературным языком, но и создавать целостные описания синтаксиса отдельных диалектов. Опытом такого описания, хотя и несколько фрагментарным, является очерк А.Е.Кибрика [2003].
Структура предложения определяется, как правило, совокупностью отношений зависимости между его компонентами. Семантическая и грамматическая организации предложения неразрывно связаны между собой: в основе семантической структуры предложения прежде всего лежит совокупность выражаемых им грамматических значений. Описа-
ние организации синтаксических структур и отношений в предложении дает наиболее полное представление о синтаксисе языка.
Следовательно, семантическая структура предложения представляет собой такую структуру, которая организуется в первую очередь грамматическими средствами. В речевой цепи предложения связаны между собой по смыслу. В структурном же отношении они остаются совершенно независимыми. При этом необходимо отметить, что семантическая структура конкретного предложения как отдельного речевого произведения не исчерпывается совокупностью передаваемых им грамматических значений. Показательны в этом отношении предложения, одинаковые с точки зрения общего набора грамматических значений и даже одинаковые по лексическому составу, но отнюдь не одинаковые с точки зрения передаваемого ими коммуникативного содержания. Например: Эмен вихъулев вас вуго букв, "отца видящий сын есть" и Вас вшьулев э.мен вуго букв, "сына видящий отец есть".
Содержательную сторону предложения можно рассматривать двояко: с точки зрения плана выражения (синтаксиса) и с точки зрения плана содержания (семантики).
Из примеров явствует, что семантическая организация предложения предопределяет лексическое наименование компонентов передаваемой ситуации. Кроме того, предполагается грамматическое обозначение того "места", которое занимает каждый компонент в выражаемой схеме коммуникативных связей.
Следует обратить особое внимание на смысловую организацию раз-нооформленных предложений, общее содержание которых обращено к обозначению одной и той же реальной ситуации. Например: 1) Рукь ч1о-бого буго "В доме пусто" - Ч1обогоябрукь "Пустой дом"; 2) Васас т1ехь ц1алулеб буго "Мальчик книгу читает" (букв. "Мальчиком книга читаемая есть") - Вас т/ехъ ц1алулев вуго "Мальчик книгу читает" (букв. "Мальчик книгу читающий есть").
В зависимости от количества грамматических составов в структуре предложения оно может быть двусоставным, имеющим два организующих центра, или односоставным, имеющим один организующий центр, например: Вас вач!ана "мальчик пришел" (двусоставное предложение) и Рии. Ралъад "Лето. Море" (односоставные предложения).
Односоставные предложения часто встречаются в аварских пословицах и поговорках, например: Бикъша — вакъила, вагьша — къела (Ки-ци) "Украдешь — проголодаешься, подерешься - проиграешь". Это бес-подлежащное предложение, где действие может быть отнесено к любому лицу, однако невозможно изменить число и грамматический класс. Интересно отметить, что почти все аварские поговорки и пословицы оформлены в классе мужчин, хотя их содержание относится и к классу
женщин. Полное значение односоставных предложений определяется, как правило, на основании контекста.
В аварском языке классный глагол относится в структуре предложения к имени в номинативе. Имя в эргативе не отражает в глаголе-сказуемом своей категориальной субстанции. Поэтому он может быть квалифицирован только как второстепенный член предложения. Подлежащим в аварском языке может быть лишь имя в номинативе, которое имеет свое отражение в классном глаголе-сказуемом. Приходится все время разграничивать понятия "подлежащее" и "субъект". К единицам семантики относятся субъект, объект, адресат и т.д., к единицам синтаксиса - подлежащее и дополнения. В семантике самым главным обычно считается субъект (агенс), далее менее весомым является объект, еще менее весомым - второй объект (адресат или иная единица). В синтаксисе самое главное в окружении глагола - подлежащее, за ним идет прямое дополнение, далее - косвенное дополнение.
Соотношение между семантическими категориями субъекта и объекта действия, с одной стороны, и категориями членов предложения (подлежащим и дополнением) - с другой, характеризуется тем, что в одном случае имеет место соответствие между именем субъекта и подлежащим, именем объекта и дополнением, в другом случае это соответствие нарушается. Мы отметили, что подлежащим в аварском языке может выступать только имя в номинативе. Субъектом же могут выступать имена в номинативе, дативе, эргативе, посессиве и локативе. Классная форма глагола не зависит от падежной формы имени в эргативе, т.е. классные показатели глагола и падежные формы субъектных актантов не координируются друг с другом.
С точки зрения изучения синтаксиса аварского языка, в особенности в аспекте взаимодействия литературного языка и диалектов, значительный интерес представляет исследование фольклорных текстов, нередко сохраняющих синтаксические нормы, утраченные литературным языком. Кроме того, в аварских сказках находят отражение реальные события и факты исторической, социально-экономической и духовной жизни аварского народа, его быта, обычаев, нравов, верований и традиций.
Простые предложения аварского языка характеризуются следующими параметрами: 1) по отношению к выражаемой в предложении действительности (утвердительные и отрицательные), 2) по цели высказывания (повествовательные, побудительные и вопросительные), 3) по наличию или отсутствию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные), 4) по наличию в предложении состава главных членов (односоставные и двусоставные).
Простые предложения в аварских сказках обычно чередуются со сложными, причем преобладают сложные предложения. Цепочку про-
стых предложений мы находим, как правило, только в самом начале повествования:
Цебего заманапда вук1аравша цо хан
Перед-З-НАР время-ЛОК 1-быть-ПРИЧ.ПРОШ-КВОТ один царь-НОМ
Гьесулги йик1анила ц!акь берцинайяс
Он-РОД-и 2-быть-ПРОШ-КВОТ очень красивый-2 дочь-НОМ
Гьей ясалъухъ рокьи ккун бук1анша сипат ва гьунар т1ок1ав вехьасул
Этот-2 дочь-ЛОК любовь-НОМ стать-ДЕЕПР.ПРОШ 3-быть-ПРОШ-КВОТ лицо и талант лишний-1 чабан-РОД
Давным-давно жил-был один царь. У него была очень красивая дочь. В эту дочь влюбился красивый и умелый чабан.
Глагол-сказуемое ставится на передний план в тех случаях, когда этот глагол входит в устоявшийся зачин сказки или тогда, когда необходимо выделить его в речи. Повторение глагола является одним из способов постановки логического ударения, благодаря чему подчеркивается длительность действия.
Заметное место в сказках занимают неполные предложения, которые широко употребляются в живой разговорной речи.
Неопределенно-личные предложения можно в известной степени сблизить с неполными предложениями, поскольку в неопределенно-личных предложениях отсутствует подлежащее. Наиболее широко употребляются неопределенно-личные предложения для указания на какую-то неопределенную группу лиц. Вторая группа неопределенно-личных предложений, имеющих обобщенный характер, заняла видное место в пословицах и поговорках. Например: бикьша - вакьила "украдешь -проголодаешься" и др.
Характерным признаком аварских сказок является употребление глагола, оканчивающегося на - ила (вместо формы прошедшего времени) в качестве предиката. Например: йик1анша (ср. йик1ана) "была" и т.д. Глагол-сказуемое является структурно-семантическим ядром предложения. Он не только определяет формальное строение, но и выражает общие семантические свойства предложения.
В аварских сказках именные члены предложения эллиптируются, поскольку они легко могут быть восстановлены из контекста. В фольклорных текстах процент предложений с эллиптированным подлежащим повышается, поскольку повествование часто идет об одном герое, упомянутом только в начале.
При передаче информации центральную роль играет повествовательная речь, и повествовательное предложение полнее всего отражает структурные свойства аварского предложения как синтаксической единицы.
Порядок слов - определенное расположение компонентов предложения относительно друг друга - играет значительную роль в формировании структуры предложения. Нормы расположения слов в предложении определяются синтаксическим строением предложения и его актуальным членением.
В лингвистической литературе встречаются утверждения о том, что порядок слов в аварском языке свободный ("сравнительно свободный", "относительно свободный"). Порядок слов в простом предложении на-хско-дагестанских языков считается относительно свободным. Как отмечал С.М. Хайдаков, в лакском языке предложение типа на чагъар чич-лай ура 'я письмо пишу' с аналитической формой сказуемого может быть трансформировано в структуру с любым порядком следования компонентов. По его же наблюдениям, в арчинском языке возможны три варианта словопорядка: зон (1) кагъара (2) шибарши (3) ви (4) 'я письмо пишу', а также 1423 и 2314, в цахурском в аналогичных предложениях засвидетельствовано пять вариантов: 1234, 1423, 3412, 2134, 2413, в аварском отмеченными оказываются три варианта: 1234, 1423,2341 [см.: Хайдаков 1977: 238-240]. Несколько иные данные, однако также свидетельствующие о свободном порядке слов, приводятся в работе [Хайдаков 1975].
Мнение о "свободе" аварского словопорядка основано на том, что за членами предложения не закреплены определенные места. В силу развитой падежной системы члены предложения могут занимать различные места без изменения своей синтаксической функции. Любым может быть положение и взаимоположение главных членов: подлежащее в одних случаях предшествует сказуемому, в других - следует за ним. Например, одинаково употребительны следующие предложения:
1. дица т1ехь босана "я книгу взял";
2. дица босана т1ехь "я взял книгу";
3. босана дица т1ехь "взял я книгу";
4. босана т1ехь дица "взял книгу я";
5. т!ехь босана дица "книгу взял я";
6. т1ехь дица босана "книгу я взял".
Во всех этих предложениях подлежащим остается актант т/ехь "книга", косвенным дополнением субъектной семантики - дица "я", сказуемым - глагол босана "взял", независимо от того, какую позицию в предложении они занимают. Как члены предложения эти слова определяются их синтаксическими взаимоотношениями между собой: глагол-сказуемое босана своим префиксальным классно-числовым показателем б- координируется с подлежащим т!ехь, косвенное дополнение же дица не находит координации в глаголе-сказуемом босана.
То же самое можно сказать и о второстепенных членах предложения. Обстоятельственные слова могут и начинать предложение, и завершать его, и находиться в середине. Ср.:
А мм а гъениб г1умру жиндирго чвахиялдаунеб бук1ана [Г1.Р.]
Но там-3 жизнь-НОМ свой течь-ЛОК идти-ПРИЧ.НАСТ-3 3-быть-ПРОШ
Но там жизнь своим чередом (букв, течением) проходила.
В этом предложении обстоятельство места занимает начальную позицию в предложении (после союза), а обстоятельство образа действия -между подлежащим и сказуемым.
Однако эта кажущаяся свобода изменения порядка слов в аварском языке не является безразличной для смысла предложений. С помощью изменения обычного порядка слов достигается изменение оттенков мысли, выраженной в предложении. Поэтому аварский порядок слов правильнее было бы определить как несвязанный, нефиксированный, подвижный, а изменение порядка слов в аварском простом предложении является стилистическим приемом, которым следует умело пользоваться.
Таким образом, обычным порядком слов в повествовательном предложении аварского языка является следующий:
. 1) в непереходном нераспространенном предложении: подлежащее — сказуемое. Например: Вас вач1ана "мальчик пришел". Пазу бана "снег пошел " и т.д.
2) в переходном нераспространенном предложении: косвенное дополнение - подлежащее - сказуемое. Например: Вацас кагъат хъвана "Брат письмо написал" и т.д.
При наличии в предложении второстепенных членов последние располагаются между главными членами предложения так, чтобы слово, на которое падает логическое ударение, стояло перед сказуемым.
Определение всегда ставится перед определяемым. Если определений два, чо притяжательное ставится перед качественным. Например:
Дос инсул ч1ег1ераб хъабарча рет1ана
Он-ЭРГ отец-РОД черный-3 шуба-НОМ надеть-ПРОШ.
Он надел папину черную шубу.
При наличии относительного и качественного определений относительное предшествует качественному, а последнее ставится перед определяемым словом.
Порядок слов внутри адъективно-субстантивного словосочетания соответствует модели "адъектив + субстантив": борхатаб гьвет1 "высокое дерево", гьит1инай яц "младшая сестра" и т.д.
При включении адъективно-субстантивного словосочетания в предложение нередко используется инверсия:
Къуват ц!ик1араб бук1анипа нартасул
Сила-НОМ болыной-З 3-быть-ПРОШ-КВОТ нарт-РОД.
Сила большая была у нарта.
Нумеративно-субстантивное словосочетание характеризуется устойчивым порядком следования компонентов "имя числительное + имя существительное": цо чи "один человек", лъабго вац "три брата" и т.д. В предложении такой порядок расположения компонентов словосочетания сохраняется. Однако речевая ситуация допускает изменение данного порядка: элементы конструкции могут меняться местами, например: дир эбел цо йиго, ват1ан цо буго "у меня мать одна (есть), родина одна (есть)".
В прономинально-субстантивном словосочетании местоимение, как правило, находится в препозиции, на втором месте -— определяемое им имя: дов вас "тот мальчик", лъол муг1рул "те горы". В предложении сохраняется установленный порядок следования компонентов: Васас ц1алана доб т1ехь "Мальчик прочитал ту книгу". Данный порядок иногда нарушается: местоименный компонент находится в постпозиции, например: Ч1ужу досул росулъа йиго "Жена его из селения (есть)".
Дополнение ставится перед объектом, обстоятельства могут быть расположены как после подлежащего, так и перед ним.
Прямой порядок слов является стилистически нейтральным порядком слов. Для выделения более значимого компонента внутри словосочетания используется инверсия, т.е. имя в генитиве оказывается в постпозиции: росулъ рукъ вацаеул буго "в селении дом брата (есть)". Инверсированный порядок слов является семантически и стилистически значимым порядком слов; он экспрессивно окрашен. Предложения с инверсией обладают особой экспрессивной интонацией. Большой степенью свободы передвижения слов отличается разговорная речь. Для книжной речи характерны более типизированные способы выражения инверсии, которые обладают разной степенью употребительности. Координация, как один из видов синтаксической связи, дает возможность словам свободно располагаться в составе предложения. Синтаксически связанные слова могут стоять в предложении далеко друг от друга без ущерба понимания.
Инверсивные предложения особенно близки живому разговорному языку, но являются принадлежностью также литературной письменной речи. Они вносят в нее экспрессивность. Выразительность инверсивных предложений обусловлена тем, что ими нарушается нормативный, нейтральный строй аварского предложения, его прямой порядок слов. Абсолютное свободное перемещение слов в аварском языке невозможно, так как определенный порядок слов берет на себя определение грамматической функции слова в предложении. Инверсия же приводит прежде всего к разного рода перемещениям членов предложения.
Порядок слов в аварском языке выполняет как семантические, так и структурно-грамматические функции. В своих семантических функциях порядок слов выражает последовательность событий. Структурно-грамматические же функции порядка слов проявляются в различении функций слов в предложении. В аварском языке место может различать субъект и объект при совпадении их падежных форм: яс йокъулей эбел "мать любящая дочь" и эбел йокъулей яс "дочь любящая мать".
Единицами порядка слов на уровне коммуникативно-синтаксической структуры являются члены предложения. Следует отметить, что не все члены предложения в одинаковой мере способны образовывать компоненты актуального членения - тему и рему. Компонентообразующей способностью обладают подлежащее, сказуемое и детерминанты.
Порядок слов неразрывно связан с интонацией. Посредством интонации в двусоставном предложении может быть выделено как подлежащее, так и сказуемое. Поэтому порядок расположения главных членов двусоставного предложения возможен двоякий, например: Вас вачТана "Мальчик пришел" и Вач1ана вас "Пришел мальчик". Иногда, наряду с интонационным выделением того или иного главного члена, к последнему присоединяются специальные частицы -ги, -ха, например: Кверг1аги баче "Хотя бы руку подай" и Бачеха квер "Подай же руку". Как видим, эти предложения выражают разные нюансы сообщения.
В побудительных предложениях форма, выражающая просьбу, совет, приказ, предложение стоит на первом месте. Такая форма выделяется интонационно. Возможен и другой порядок слов, когда главный член предложения не на первом месте.
Следовательно, порядок расположения главных членов предложения не имеет грамматического значения. Никакого твердого порядка расположения для главных членов предложения не существует.
Глава 3.
ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Прежде чем приступить к характеристике субъектно-объектных отношений, необходимо соответствующим образом определить статус субъекта и объекта. В некоторых исследованиях субъект характеризуется как производитель действия [Яхонтов 1970]. Однако в лингвистической литературе субъект получает и другие определения, когда ему приписываются свойства подлежащего, в результате чего эти понятия могут отождествляться [Кацнельсон 1972].
С другой стороны, из работ некоторых лингвистов (Ю.Д. Апресян, Г.А. Золотова, Е.В. Падучева, В.А. Успенский и др.) следует, что субъект находится где-то между агенсом и подлежащим, не будучи тождествен-
ным ни с тем, ни с другим. Нетождественность субъекта агенсу выражается в том, что позицию субъекта может занимать не только агенс, но любая другая семантическая роль. Нетождественность субъекта подлежащему проявляется в том, что в залоговых преобразованиях субъектно-объектные отношения остаются неизменными, тогда как подлежащно-дополнительные отношения меняются.
Грамматические категории, присущие аварскому имени, весьма многообразны. Среди них особое место занимают субъектно-объектные категории, которые участвуют в создании различных синтаксических конструкций.
Любая глагольная конструкция является отражением тех отношений, которыми глагольное действие связывает между собой субъект действия, объект действия, орудие действия и т.д. Необходимо отметить, что указанные термины в лингвистических работах употребляются неоднозначно: один и тот же термин используется для обозначения различных грамматических явлений. Так, термин "субъект" используется для обозначения различных грамматических явлений. Выделяются логический, психологический, смысловой, грамматический и другие типы субъектов [Ахманова 1966]. Выделяются также различные виды объектов: внешний, внутренний, возвратный, действия, сложный, прямой, непрямой и др. [Ахманова 1966].
В настоящей работе мы будем пользоваться терминами "субъект действия" и "объект действия". Субъект действия здесь определяется как производитель глагольного действия, состояния, признака. Определяя понятие субъекта, мы присоединяемся к Г.А. Золотовой, рассматривающей субъект как обозначаемый определенными синтаксическими формами слова носитель действия, состояния, признака в денотативной ситуации [Золотова 1973].
Понимание субъекта как выражаемого различными синтаксическими формами имени носителя действия, состояния, признака предполагает нетождественность субъекта и подлежащего. Субъект может "совпасть" с подлежащим только в случае выражения первого формой номинатива, представляющей частный случай грамматического выражения субъекта. С другой стороны, предложение может иметь субъект, но быть беспод-лежащным: Шудадаца бщана рагъул х1акьалъулъ "Дедушка рассказал о войне" (букв. "Дедушкой рассказано о войне").
Функцию подлежащего может выполнять не только субъект (Бакъ баккана "Солнце взошло"), но и объект (Бакъуца дуниял хинлъизабулеб буго "Солнце греет землю", букв. "Солнцем земля греется"). В первом предложении подлежащее и субъект совпадают (имя в номинативе бакъ "солнце"), во втором предложении же совпадают объект и подлежащее (имя в номинативе дуниял "земля").
Под объектом действия мы понимаем предмет, на который направлена в той или иной форме деятельность субъекта. Объект выражается, как правило, именем существительным, а также другой частью речи, которая называет субстанцию. Понятие объекта предполагает наличие действия, без которого оно невозможно. С другой стороны, объект, как пассивный участник действия, соотносится с активным производителем действия - субъектом. Многообразие форм выражения объекта в предложении позволяет ему выполнять разные синтаксические функции: подлежащего, прямого дополнения, косвенного дополнения.
Под объектными отношениями в широком смысле слова мы понимаем отношения, указывающие на предмет, к которому направлено какое-либо действие, по отношению к которому проявляется признак, чувство, состояние, свойство, для воздействия на который используют определенное орудие, инструмент. В лингвистике объектные отношения традиционно изучаются в рамках теории глагольной переходности. Все трактовки категории переходности глагола сходятся в следующем: переходность понимается как выражение связи действия и его объекта.
Представляется актуальной задача глобального и системного изучения всех частных значений категорий субъекта и объекта, выявления всего механизма реализации значений субъектно-объектных отношений с целью более точного определения статуса образуемых при их участии конструкций. Системный подход к установлению статуса субъектно-объектных категорий включает прежде всего два основных момента: 1) изучение реализаций всех конкретных значений субъектно-объектных категорий как единой системы; 2) изучение реализаций субъектности и объектности в системе отношений, складывающихся в рамках предложения.
Необходимо отметить, что изолированно субстанциальные лексические единицы не имеют ни значения субъекта, ни значения объекта. Конкретизация вида процессно-предметной связи происходит при ее выражении в предложении.
В аварском языке среди категорий, имеющих непосредственное отношение к выражению субъектно-объектных отношений, следует назвать категории падежа и класса. Первую категорию представляют субъ-ектно-объектные актанты, а вторую - глагольные (отглагольные) формы.
Субъект и объект в аварском языке могут выражаться различными падежными формами.
В связи с характеристикой субъектно-объектных отношений встает вопрос о способе соотношения между участниками "глагольного действия" (актантами), с одной стороны, и членами предложения - с другой. Если количество и характер актантов определяется семантикой глагола, то состав членов предложения — семантикой и структурой последнего.
В зависимости от семантики глагола (состояние, процесс или действие) число его семантических актантов может меняться от одного до че-тырех-пяти. Что касается предложения, то здесь основную роль играет взаимоотношение между подлежащим и сказуемым, поскольку характерной особенностью предложения является предикативность, а сущность предикации заключается "в приписывании того или иного признака какому-то предмету, субстанции" [Золотова 1974].
Как известно, в аварском языке представлена развитая система падежей. Сочетаемость инфинитных форм с именами, оформленными различными падежными формами, определяется не только характером отглагольных форм, но и семантикой сочетающихся с ними имен. Здесь важное значение имеет валентность глагола или инфинитной формы. "Под содержательной валентностью глагольного значения мы понимаем способность данного глагола сочетаться с именами в той или иной субъ-ектно-объектной функции" [Кацнельсон 1972: 47]. В функции субъекта и объекта выступают имена существительные, местоимения и субстантивированные части речи. Глагол и инфинитные формы глагола (причастие, деепричастие, масдар и инфинитив) изменяются по классам и числам. По лицам же аварский глагол и инфинитные формы глагола не изменяются. Основа инфинитной формы глагола называет действие и его характер, в то время как классно-числовые показатели осуществляют их координацию с субъектом и объектом или с одним из них (в зависимости от структурного типа конструкций). Однако по классам и числам изменяются не все глаголы, а только те, которые имеют в своем составе классно-числовые показатели. Категории класса и числа по своему грамматическому содержанию довольно близки. Они выражают грамматическое взаимоотношение имени и инфинитных форм в конструкции, в частности, синтаксическую связь субъекта и объекта с инфинитными формами. Например, причастие с помощью префиксального и суффиксального классных показателей может выразить грамматические классы двух имен - субъекта и объекта. Например: оц бичарав чи "человек, продавший быка". Префиксальный классный показатель причастия б- выражает грамматический класс объекта действия оц, а суффиксальный классный показатель -в — грамматический класс субъекта действия чи.
В аварском языке нет единого падежа субъекта. Субъект оформляется различными падежами в зависимости от выражаемой ими содержательной детерминанты и от семантико-грамматических особенностей инфинитных форм. По признаку падежного оформления субъекта предложения подразделяются на следующие типы: номинативные, эргатив-ные, дативные, посессивные и локативные. Субъектные отношения возникают также в конструкциях с инфинитным^ формами переходной се-
мантики. Например: мат1у бекарав
,вж- "мат пнг, рачбщщтий зеркало"
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ I БИБЛИОТЕКА { С.Петербург < 09 ТОО акт £
п 110
(букв, "зеркало разбивший мальчик"). В данной конструкции причастие переходной семантики бекарав своим префиксальным классным показателем б- координируется с объектом действия мат1у, а суффиксальным классным показателем -в - с субъектом действия вас. Субъект и объект этой конструкции оформлены номинативом.
Возможны также бессубъектные конструкции, где невозможно определить, кто производит действие. Такие конструкции условно можно назвать безличными. В таких конструкциях осложненное составное глагольное сказуемое состоит из основной (полнозначной) части, которая выражена формами деепричастий и причастий, обозначающих какое-либо конкретное действие, и вспомогательного глагола, например: Кагь-ат хъван буго (букв. "Письмо написано"). Т1ехь ц1алулеб буго (букв. "Книга читается"). Хур бекьун бугоан "(оказывается) Поле вспахано". В этих предложениях субъекты не выявлены, они остаются как бы "за кадром". Референтом отсутствующего, но подразумеваемого субъекта может быть человек, животное, стихийная сила.
Объектные отношения в конструкциях возникают при семантико-грамматическом взаимодействии форм с именами. Синтаксема объекта и ее роль в строении предложения - это лишь "именной конец" переходности. Другой своей стороной переходность (транзитивность) связана с семантикой глагола. Объектные отношения в конструкциях указывают на зависимость объекта от действия или состояния главного компонента - глагола или инфинитной формы глагола.
В понятие залога кавказоведы вкладывают крайне противоречивое и разнообразное содержание. В связи с проявлениями рассматриваемой категории в языках эргативного строя также существуют различные точки зрения и теории. Согласно одной теории, переходный глагол в этих языках является пассивным, он не может рассматриваться как глагол действительного залога (П.К. Услар, Н.Я. Марр и др.).
Тезис о существовании в нахско-дагестанских языках средних и страдательных глаголов впервые выдвинул П.К. Услар в монографии "Чеченский язык" [Услар 1888]. Этот же вывод был сделан П.К. Усларом и на материале аварского языка [Услар 1889].
Согласно другой теории, переходный глагол является активным. Такой глагол рассматривается как глагол действительного залога (Н.Ф. Яковлев, С.Л. Быховская и др.). Сторонники теории активности эргативной конструкции считают, что переходные глаголы нельзя считать пассивными, это - активные глаголы.
Н.Ф. Яковлев считал, что "в чеченском языке нет различения действительного и страдательного оборотов" [Яковлев 1940].
По третьей же теории, переходный глагол в языках эргативного сгроя не дифференцирован в отношении залога, он нейтрален
(Г. Шухардт, A.M. Дирр, A.A. Бокарев, И.И. Мещанинов, С.Д. Кац-нельсон, A.C. Чикобава, Г.А. Климов и др.).
В дагестанских языках вопрос о категории залога относится к числу наименее исследованных. Положение еще более осложняется тем, что до сих пор нет специальных работ, посвященных проблеме залога в дагестанских языках, за исключением главы "Категория залога" в монографии З.Г. Абдуллаева [Абдуллаев 1969], монографии Маллаевой [2002] и нескольких статей [Гаджиев 1948; Магометов 1953; 1960; 1973].
Анализ языкового материала показывает, что дагестанским языкам с классными и классно-личными глаголами далеко не чуждо выражение категории залога, и положение о залоговой недифференцированности глагола не соответствует языковым фактам. Так, например, в аварских словосочетаниях вацас бекьараб хур "братом вспаханное поле" и хур бекьарав вац "поле вспахавший брат" причастные формы б-екь-ара-б и б-екьара-в обладают двояким соотношением с сочетающимися с ними субъектно-объектными актантами, т.е. обладают формами как страдательного, так и среднего залогов. Здесь классные показатели причастий одновременно выступают в качестве морфологических элементов, дифференцирующих средний и страдательный залоги.
В даргинском языке при действительном залоговом значении "глагол-сказуемое имеет двустороннюю классно-личную координацию: префиксальную с объектом действия в именительном падеже и суффиксальную с объектом действия в эргативном падеже" [Абдуллаев З.Г. 1969]: ну ни жуз буч1улра "я читаю книгу".
При страдательном залоговом значении "глагол-сказуемое имеет одностороннюю координацию с субъектом действия" [Абдуллаев З.Г. 1969]: ну жузли уч1улра "я занимаюсь чтением книги". Как видим из примеров, в разных дагестанских языках по-разному выражается категория залога.
Ни классный, ни классно-личный глагол в принципе не может быть нейтральным. Как анафорическая речевая единица, глагол и его формы своими категориальными формантами относятся к падежной форме того или иного актанта - субъекта или объекта. Такой глагол не может считаться нейтральным или индифферентным.
Важно здесь подчеркнуть, что залог - не исключительно глагольная и не чисто семантическая категория. Залог - многоаспектная категория, затрагивающая структурно-семантические особенности как глагола, так и имени. В языках эргативного строя налицо противопоставление различных конструкций предложения - номинативной, эргативной и др.
Противопоставление залоговых значений реализуется противопоставлением значений различных конструкций.
Классно-личный глагол не может быть нейтральным в отношении залогов. Как анафорическая речевая единица, глагол своими категориальными формантами относится к падежной форме того или иного актанта —■ субъекта или объекта, в силу чего такой глагол не может считаться нейтральным или индифферентным.
Первые классификации залога в аварском языке строились под влиянием индоевропейских грамматик - "готовые" залоговые отношения попросту переносились на дагестанскую почву. Калькировалась не только теоретическая схема, но сам дух, сам подход к этой категории. Несомненно, у категории залога в индоевропейских и дагестанских языках могут быть какие-то общие черты, однако при механическом распространении традиционной индоевропейской залоговой теории на материал дагестанских языков пренебрегалось их своеобразие. Такая предвзятость мешает нам до сих пор признать наличие категории залога в дагестанских языках. Реальная действительность языка выходит за рамки традиционной схемы.
Одна из инфинитных форм аварского глагола - причастие образует оппозицию двух противопоставленных по своему значению залогов -среднего и страдательного. Любое отдельно взятое аварское причастие содержит значение либо среднего, либо страдательного залогов. Причастия, оканчивающиеся на суффиксальные классно-числовые показатели -в, -м, ассоциируются со значением среднего залога, а показатели на -б -со страдательным значением, хотя в контексте они могут меняться местами. Например: ц1алара-б "прочитанный", б-осара-б "купленный", хъвара-б "написанный", в-екеруле-в "бегающий", х1сшт1уле-в "работающий", гъабуле-в "делающий" и т.д.
В заключение кажется целесообразным сформулировать некоторые положения, коюрые представляются наиболее важными.
Все аварские причастия обладают грамматическим значением залога. Однако в систему залоговых оппозиций вступают только причастия переходной семантики, которые являются двузалоговыми - средними и страдательными. Непереходные же причастия являются однозалоговы-ми, так как имеют конструкции только среднего залога. Кроме того, в финитной форме глагола также может быть представлена дифференциация залоговых значений.
Классно-числовой глагол в аварском языке не может быть нейтрален. Как анафорическая речевая единица, глагол и его формы своими категориальными формантами относятся к падежной форме того или иного актанта - субъекта или объекта, в силу чего такой глагол не может считаться нейтральным или индифферентным.
Залог - не исключительно глагольная и не чисто семантическая категория. Залог - многоаспектная грамматическая категория, затрагивающая структурно-семантические особенности как глагола, так и имени. В языках эргативного строя налицо противопоставление различных конструкций предложения - номинативной, эргативной, локативной и др. Противопоставление залоговых значений реализуется противопоставлением значений различных конструкций. Следовательно, залог как синтаксическая категория находит выражение в оппозиции синтаксических конструкций, противопоставленных друг другу.
Рассматривая залоговые значения в предложении и оперируя понятием "синтаксическое содержание" по отношению к членам предложения (синтаксическим актантам), мы имеем дело с оппозицией среднего и страдательного залогов.
Применительно к оппозиции средней и страдательной конструкций различие их в залоговых значениях сводится к следующему: при страдательном залоге глагольный признак представлен как исходящий от его носителя, а при среднем залоге - как направленный на него, что определяется тем обстоятельством, что при страдательном залоге в роли носителя глагольного признака выступает субъект, а при среднем - объект.
Все сказанное выше позволяет еще раз подчеркнуть тот важный тезис, что категория залога является сложной и многомерной категорией, которая может быть удовлетворительно определена и описана лишь при условии, если будут приняты во внимание все стороны ее особенностей и функционирования.
Предложенное здесь решение во многом остается проблематичным. Однако эта проблематичность связана не со спорностью самого существования категории залога, а скорее с особенностями функционирования и с трудностями разграничения данной категории от других. Преодоление этих трудностей означало бы выработку более четких методологических и методических критериев анализа и описания категории залога, что в свою очередь позволило бы дать более глубокое освещение проблемы, что мы намерены сделать в последующих исследованиях. Дальнейшее углубленное исследование механизмов категории залога внесет определенные коррективы в наши представления о природе данной категории, о месте категории залога в системе языка.
Подводя итоги вышеизложенному, подчеркнем следующие моменты. Конкретное описание среднего и страдательного залогов и интерпретация структур, в которых они реализуются в аварском языке, при всем их своеобразии, связаны с необходимостью учитывать сложный спектр признаков, характеризующих взаимосвязь субъектно-объектных актантов и глагольных форм.
Глава 4.
СИНТАКСИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ГЛАВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Члены предложения, как правило, делятся на главные и второстепенные. В русской грамматике, а также в грамматиках целого ряда других языков к главным членам предложения относятся два члена - подлежащее и сказуемое, а остальные (определение, дополнение и обстоятельство, которые в свою очередь делятся на подгруппы) считаются второстепенными членами. В аварском же языке, как и в других кавказских языках, к главным членам относится наравне с подлежащим и сказуемым также и прямое дополнение (объект).
Подлежащее, прямое дополнение и сказуемое являются основой типичного двусоставного непереходного или трехсоставного переходного простого предложения аварского языка. Они являются организующими центрами предложения, с их помощью выражается мысль и суждение в предложении. Те члены предложения, которые поясняют, дополняют или определяют главные члены предложения, называются второстепенными членами предложения. Предложения же, в составе которых имеются второстепенные члены, называются простыми распространенными в отличие от простых нераспространенных, состоящих только из главных членов предложения.
Проблема членов предложения имеет как теоретическое, так и практическое значение. В членах предложения, в их связях и отношениях находит выражение структура и семантика предложения.
Свою синтаксическую роль слово выполняет в определенной конструкции, например, слово баг1араб может быть определением, так как имеет формы класса, числа и падежа; слово вач1ана — сказуемым, так как имеет формы класса, числа, времени и наклонения и т.д.
Необходимо отметить, что не всегда легко определить член предложения: у одного слова может быть два значения, другое выражено фразеологизмом, а третье, возможно, совсем не член предложения.
В настоящее время в лингвистике сложилась точка зрения, согласно которой предложение рассматривается как сложная синтаксическая сгруктура, имеющая три стороны — формально-грамматическую (конструктивную), семантическую (смысловую) и коммуникативную. В зависимости от конкретного аспекта исследования на каждом из указанных уровней предложения выделяются свои, свойственные только ему компоненты: на семантическом - субъект, объект, предикат; на формально-грамматическом — подлежащее, сказуемое, прямое дополнение (объект); на коммуникативном - тема и рема. Поэтому при анализе предложения следует четко разграничить все эти понятия.
Синтаксическая сущность главных членов предложения может быть определена лишь в рамках синтаксической корреляции. Подлежащее в аварском языке входит в предикативную основу, хотя не является носителем предикативности. Его участие в оформлении предикативной основы состоит в том, что оно координируется с глаголом-сказуемым в классе и числе. Классный глагол относится в структуре предложения к имени в номинативе. Эргатив не отражает в глаголе свою категориальную субстанцию. Поэтому он может быть квалифицирован только как второстепенный член предложения. Подлежащим в аварском языке может быть только имя в номинативе. Именно такое определение подлежащего соответствует языковым фактам. Следовательно, классное и числовое спряжение глагола и координация выраженного им сказуемого с подлежащим и прямым дополнением (объектом) являются важными грамматическими характеристиками аварского языка, на основании которых можно определить сущность и своеобразие главных членов предложения.
В аварском языке в эргативной конструкции при переходном глаголе-сказуемом подлежащее обычно выступает в форме номинатива (как и в дативной, посессивной и локативной конструкциях). В номинативной конструкции предложения при непереходном глаголе-сказуемом подлежащее также выступает в форме номинатива.
Эргативный падеж не может выступать в функции подлежащего. В форме эргатива выступают только второстепенные члены предложения, например, дополнение.
Как известно, подлежащее и сказуемое представляют собой грамматически организующие центры предложения. Они служат для выражения субъекта и предиката как структурных компонентов логической фразы.
При описании синтаксических явлений наиболее плодотворным является функционально-семантический подход. Но в условиях развития этого направления вместе с тем актуализируется проблема грамматических синтаксических конструкций и членов предложения.
В частности, в более точной интерпретации по-прежнему нуждается грамматическое значение подлежащего.
Необходимо отметить, что существует целая серия "косвенных" выразителей субъекта признака: Рокъоб бец1го буго "В доме темно"; Досие гьаниб квеш буго "Ему здесь плохо" и т.д. Здесь возникает вопрос о том, есть ли в грамматическом значении подлежащего какая-либо специфика по сравнению с "косвенными" выразителями субъектного значения.
Грамматическим значением подлежащего нельзя признать значение "темы высказывания", так как на роль выразителя предмета, о котором сообщается в предложении, в той или иной мере может претендовать
I \
любое существительное или местоимение-существительное, независимо от его грамматической формы и употребления в качестве того или иного члена предложения. Например: Т1ехь босана "Книгу купили" (сообщается о книге); Васас т1ехь босана "мальчик купил книгу" (сообщается о мальчике и книге) и т.д.
Признанию специфическим значением подлежащего субъектного значения препятствует то, что значение субъекта выражается не только грамматическим подлежащим, но и некоторыми второстепенными членами предложения.
Важно подчеркнуть, что специфика субъектного значения подлежащего по сравнению с другими второстепенными членами предложения, которые тоже стабильно выражают субъект признака или имеют имплицитный оттенок субъектной семантики, заключается в том, что последние (второстепенные члены предложения) не могут трансформироваться в грамматическое подлежащее.
Формы подлежащего и субъекта в аварском языке могут совпадать только в номинативе.
Подлежащее — один из главных членов предложения. Оно имеет присущие ему средства выражения (слова, выражающие предметные значения) и специальную падежную форму (номинатив). Кроме того, грамматическим признаком подлежащего является его соотносительность (координация) со сказуемым.
В качестве подлежащего в аварском языке используется обозначение того предмета, который в акте коммуникации оценивается как непосредственный носитель (субъект) предицируемого признака, имеющего отражение в глаголе-сказуемом в виде классно-числовой координации. Только употребление в форме номинатива и координация глагола-сказуемого обеспечивает существительному (местоимению и др.) право функционировать в роли подлежащего. Даже в потенции этой способно-
гтчп цр иапрпри Ы!Л Лчии в-лроршп.™ шта'ттРиРЙ гчг(\1-р1лга ^тп Жпг»-
и л ши ии I шДкиии лаки ы^ил II_• * к ииаим^и 1 «..мк и ■ III —■ л и " (" и^'
мальное своеобразие глубоко симптоматично и в семантическом отношении, так как координация всегда указывает на отнесенность признака к его непосредственному носителю. Обладает подлежащее и другими особенностями задаваемой им синтаксической перспективы. В частности, в отличие от косвенных выразителей субъекта, только подлежащее способно вступить в прямую связь с теми формами предиката, которые семантически предполагают опять-таки непосредственного носителя признака. Например: Дов муг1алгш вуго "Он учитель". Дов аваданав вуго "Он веселый" и т. д.
Номинатив в аварском языке является формой подлежащего также в предложении с переходным сказуемым. Например: Вацас кьалам бекана букв, "братом карандаш сломан", где имя в номинативе кьалам коорди-
нируется с префиксальным классно-числовым показателем глагола б-екана. Имя в эргативе же вацас не находит своего отражения в глаголе. Следовательно, эргатив здесь может быть квалифицирован как.второстепенный член предложения. Подлежащим же в данном предложении выступает къалам, так как классный глагол относится в структуре предложения к имени в номинативе, а имя в эргативе вацас является косвенным объектом. Изменения класса и числа косвенного объекта не влияют на форму сказуемого: ясалъ къалам бекана "девочка сломала карандаш", васас къалам бекана букв, "мальчик сломал карандаш" и т.д. Изменения же формы класса и числа подлежащего влекут за собой соответствующие изменения в форме сказуемого: вацас къалам бекана "братом карандаш сломан", вацас къалмап рекана "братом карандаши сломаны" и т.д. Следовательно, данная конструкция относится к номинативной.
Какими же признаками характеризуются подлежащее и дополнение? Какие существуют критерии для их определения?
Прежде всего подлежащее - это независимый член предложения. От подлежащего в той или иной степени зависят другие члены предложения, но само подлежащее не подчиняется ни одному из них, а координируется со сказуемым. Однако подлежащим может быть не всякий независимый член предложения. Например, в предложениях Бакъ баккана "Солнце взошло" и Эмен хехго щвана "Отец быстро пришел" члены предложения баккана "взошло" и хехго "быстро" находятся каждое на независимом положении, но ни одно из них не является подлежащим. Причиной является то, что указанные члены предложения не имеют предметного содержания. Следовательно, вторым признаком определения подлежащего является его предметное значение. Например, подлежащим является слово т1ехъ в предложении Васас т1ехь босана "Мальчик купил книгу".
В число главных членов предложения большинством исследователей аварского языка включается прямое дополнение-номинатив на том основании, что в переходной конструкции глагол формально-грамматически связан с прямым дополнением, а не с подлежащим в эргативе.
Мы считаем, что член предложения, обладающий предметным значением, может считаться подлежащим лишь в том случае, если оно имеет еще и статус синтаксической независимости и если эта независимость обозначена каким-либо самостоятельным грамматическим средством. Таким средством обозначения независимости подлежащего служит в аварском языке номинатив.
Специфические особенности именных членов аварского предложения определяются характером глагола. Глагол в аварском языке изменяется по классам и числам субъекта и объекта: при глаголах переходной
I
л
семантики содержится морфологическое указание на объект действия в виде классно-числовых показателей, а при глаголах же непереходной семантики - на субъект.
Кроме того, разграничение подлежащего и дополнения можно осуществить с помощью логического анализа и постановкой вопросов.
Например, в предложении Васасда эмен вихьана "Сын увидел отца" к слову эмен (номинатив) "отец" ставится вопрос щив? "кто?", а к другому именному члену предложения васасда (локатив) "сын" - лъида? "кто?" (букв. "кем?"). Следовательно, разные слова, имеющие разные падежные формы, отвечающие на разные вопросы и отличающиеся друг от друга классно-числовой координацией, не могут считаться одноуровневыми членами предложения. Здесь слово эмен является подлежащим, а слово васасда - дополнением. Глагол-сказуемое переходной семантики внхьана своим префиксальным классно-числовым показателем координируется с подлежащим эмен. Подлежащее эмен и дополнение васасда взаимно предполагают друг друга.
Однако независимое положение и предметное значение сами по себе еще не составляют подлежащего. Здесь важна также морфолого-синтаксическая характеристика слова. В аварском языке в функции подлежащего выступает независимая, прямая форма имени, выраженная номинативом, с которым координируются классно-числовые показатели глагола-сказуемого. Например: Инсуе бокьула г1еч "Отец любит яблоко" (букв, "отцу любится яблоко"). Здесь префиксальный классно-числовой показатель глагола-сказуемого б- координируется с именем в номинативе г!еч, являющимся подлежащим. В аварском языке, как известно, нет категории лица, поэтому координация может идти лишь по линии класса и числа.
По установившейся традиции в авароведении подлежащее рассматривается как эквивалент субъекта действия. При этом подлежащим в аварском предложении указывается имя, не имеющее на то никаких оснований. И в результате в аварском предложении за подлежащее принимается дополнение. Настоящее подлежащее же традиционно рассматривается как "третий" главный член предложения - объект (наряду с подлежащим и сказуемым). Такой подход в определении подлежащего является, на наш взгляд, более системным, целесообразным и логичным.
В заключении резюмируются основные результаты исследования, полученные при анализе взаимоотношений субъектно-объектных отношений и категории залога.
Основные научные результаты диссертации отражены в следующих публикациях соискателя:
1. Выражение пространственных отношений превербно-послеложными словосочетаниями в аварском языке // Выражение пространственных отношений в языках Дагестана. - Махачкала, 1990. - С. 127-132.
2. Некоторые способы образования аналитических форм глаголов в аварском языке // XIII региональная научная сессия по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков. Тезисы докладов. - Майкоп, 1990. - С. 90-91.
3. О категории залога в аварском языке // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований Института ИЯЛ в 1988-1989 гг. - Махачкала, 1990. - С. 60.
4. Особенности структуры предложения русского и аварского языков // Проблемы двуязычия и языковой коммуникации. - Карачаевск, 1990. - С. 66-67.
5. Предложения с осложненным обстоятельством времени в аварском языке // Выражение временных отношений в языках Дагестана. -Махачкала, 1991. - С. 128-131.
6. Эргативность и понятие подлежащего в аварском языке // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований ИИЯЛ в 1990-1991 гг. - Махачкала, 1992. - С. 115.
7. К проблеме залога в языках эргативного строя // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований Института ИЯЛ в 1990-1991 гг. - Махачкала, 1992. - С. 91 (в соавторстве с З.Г. Абдуллаевым).
8. Проблемы изучения структуры русского предложения в аварской школе // Актуальные проблемы теории и практики обучения русскому и иностранному языкам. - Ч. I. - Краснодар, 1992. - С. 84-85.
9. Побудительные предложения в аварском языке // Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых ученых Дагестана по проблемам гуманитарных наук. - Махачкала, 1993. - С. 97-98.
10. Состав главных членов и типы простого предложения в аварском языке // Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых ученых Дагестана по проблемам гуманитарных наук. - Махачкала, 1993. - С. 98-99.
11. Утвердительные и отрицательные предложения в аварском языке и их изучение в школе // Проблемы совершенствования обучения и воспитания в образовательных учреждениях республики Дагестан // Тезисы докладов юбилейной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Дагестанского НИИ педагогики имени A.A. Тахо-Годи. - Ч. I. - Махачкала, 1993.- С. 21-23.
12. Изучение типов простых предложений по модальности в аварской школе // Проблемы совершенствования обучения и воспитания в образовательных учреждениях республики Дагестан // Тезисы докладов
юбилейной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Дагестанского НИИ педагогики имени A.A. Тахо-Годи. - Ч. Т. - Махачкала, 1993. - С. 23-25 (в соавторстве с К.И. Гаруновой).
13. Порядок слов в аварском простом предложении // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований Институтов ИАЭ и ЯЛИ в 1992-1993 it. - Махачкала, 1994. - С. 87-88.
14. Непереходная конструкция предложения в аварском языке // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований Институтов ИАЭ и ЯЛИ в 1992-1993 гг. - Махачкала, 1994. - С. 97-98.
15. Лингвистическая география: взаимоотношения аварского литературного языка и его диалектов // Тезисы докладов конференции по итогам географических исследований в Дагестане. - Вып. XXII. - Махачкала, 1994. - С. 92-95.
16. Некоторые синтаксические особенности диалектов аварского языка // Тезисы докладов конференции по итогам географических исследований в Дагестане. - Вып. XXII. - Махачкала, 1994. - С. 100-101.
17. Типы простых предложений в аварских сказках // Фольклорно-лшературньге и языковые связи как фактор развития культур народов Северного Кавказа. Тезисы докладов региональной научно-практической конференции на базе Карачаево-Черкесского республиканского института повышения квалификации работников образования. - Ч. 1. - Черкесск, 1994.-С. 48-50.
18. Синтаксическая сущность главных членов предложения в аварском языке // Тезисы докладов региональной научной конференции молодых ученых, посвященной гуманитарным исследованиям. - Махачкала, 1995.-С. 152-154.
19. Осложненное подлежащее в аварском языке // Тезисы докладов региональной научной конференции молодых ученых, посвященной гуманитарным исследованиям. - Махачкала, 1995. - С. 125-126.
20. Падежное кодирование субъекта и объекта в аварском языке // Дагестанский лингвистический сборник. -М., 1995. - С. 33-39.
21. Дефиниция понятий «подлежащее» и «субъект» в аварском языке // Дагестанский лингвистический сборник. - М., 1995. - С. 39-44.
22. Семантическая структура предложения с глаголами речи в аварском языке // Семантика языковых единиц разных уровней. - Выпуск I. Материалы межвузовской конференции, посвященной 65-летию ДГУ. -Махачкала, 1996. - С. 33.
23. Синтаксические особенности аварских диалектов // Актуальные проблемы развития лингвистики и лингводидактики. - Махачкала, 1996. - С. 47-48.
24. Структура простого предложения в аварском литературном языке и в его диалектах // Дагестанский лингвистический сборник. - Выпуск З.-М., 1996.-С. 35-40.
25. Синтаксис дагестанских языков: состояние и проблемы изучения // Семантика языковых единиц разных уровней. - Выпуск 2. - Махачкала, 1997. - С. 79-83.
26. О категории залога в аварском языке // Вопросы кавказского языкознания. - Махачкала, 1997. - С. 112-124.
27. Проблемы осложненного предложения в аварском языке // Актуальные проблемы общего и кавказского языкознания. - Нальчик, 1997. -С. 167-168.
28. Оппозиция залоговых отношений в причастиях аварского языка // Актуальные проблемы общего и кавказского языкознания. - Нальчик, 1997.-С. 168-170.
29. Осложнение простого предложения инфинитными конструкциями в аварском языке // Современные проблемы кавказского языкознания и тюркологии. - Махачкала, 1997. - С.151-152.
30. Функционирование инфинитных конструкций в предложении // Наука и молодежь. Сборник статей молодых ученых и аспирантов по гуманитарным проблемам. - Махачкала, 1997. - С. 316-321.
31. Лингвогеографические и этноязыковые проблемы и пути их решения в Республике Дагестан (на примерах аваро-андо-цезских языков)// Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. - Пятигорск, 1997. - № 3-4. - С. 14-15.
32. Грамматическая и семантическая дифференциация структуры предложения в аварском языке // Семантика языковых единиц разных уровней. - Выпуск 3. - Махачкала, 1998. - С. 101-105.
33. О порядке слов в аварском языке // Материалы Международного симпозиума, посвященного 100-летию со дня рождения А.С. Чикобава. -Тбилиси, 1998. - С. 201-203.
34. О категории залога в дагестанских языках // Тезисы докладов IX Международного коллоквиума ЕОК. - Махачкала, 1998. - С. 168-170.
35. Неполные предложения в аварском языке // Тезисы докладов аспирантов, соискателей и молодых ученых IX Международного коллоквиума ЕОК. - Махачкала, 1998. - С. 36-37.
36. Соотношение членов предложения с послелогами в аварском языке // Тезисы докладов аспирантов, соискателей и молодых ученых IX международного коллоквиума ЕОК. - Махачкала, 1998. - С. 37-38 (в соавторстве с Магомедовым М.А.).
37. Глагольная валентность в аварском языке // Достижения и современные проблемы развития науки в Дагестане. Тезисы докладов Ме-
ждународной научной конференции, посвященной 275-летию РАН и 50-летию ДНЦ РАН 21-25 мая 1998 г. - Махачкала, 1999. - С. 64-66.
38. Семантико-синтаксическая характеристика предложений с глаголами речи в аварском языке // Семантика языковых единиц разных уровней. - Выпуск 5. - Махачкала, 1999. - С. 138-144.
39. Переходные и непереходные глаголы и категория объекта в аварском языке // Дагестанский лингвистический сборник. - Выпуск 7. -М„ 1999.-С.51-53.
40. Синтаксическая роль классно-числовых показателей в аварском языке // Дагестанский лингвистический сборник. - Выпуск 7. - М., 1999. -С. 53-57.
41. Взаимосвязь категорий переходности / непереходности и залога в аварском языке // Современные проблемы кавказского языкознания и тюркологии. - Выпуск 2. - Махачкала, 2000. - С. 116-124.
42. Подлежащее и дополнение в аварском языке // - № 1. - Тбилиси, 2000.-С. 124-127.
43. Выражение субъектно-объектных отношений в аварском языке // Кавказский вестник. - № 2. - Тбилиси, 2000. - С. 184-188.
44. Категория каузатива в аварском языке // Дагестанский лингвистический сборник. - Выпуск 8. - М., 2000. - С. 43-49.
45. Каузативные оппозиции в аварском языке // Актуальные проблемы общей и адыгской филологии. - Майкоп, 2001. - С. 104-106.
46. О подлежащем в аварском языке // Кавказский вестник. - № 4. -Тбилиси, 2001. - С. 144-148.
47. Рефлексив и реципрок в аварском языке // Дагестанский лингвистический сборник. - Выпуск 9. - М., 2001. - С. 54-60.
48. Глагол в карахском диалекте в сравнении с литературным аварским языком // XI Коллоквиум Европейского Общества Кавказоведов 20-22 июня 2002 г. Тезисы докладов. - М., 2002. - С. 50-51.
49. Выражение субъектно-объектных отношений в дагестанских языках // Кавказоведение. - № 3. -М., 2003. - С. 105-114.
50. Типы предложения по цели высказывания в аварском языке // Проблемы общего и дагестанского языкознания. - Махачкала, 2003. -С. 174-185.
51. Синтаксические особенности причастия в аварском языке // Проблемы общего и дагестанского языкознания. — Махачкала, 2003. -С. 185-189 (в соавторстве с М.Б. Гаджиевой).
52. Выражение грамматических значений в аварском языке в сопоставлении с русским // Проблемы общего и дагестанского языкознания. -Махачкала, 2003. - С. 237-239 (в соавторстве с М.Ш. Рамазановой).
53. Субъектно-объектные отношения и категория залога в аварском языке. - М., 2003. - 14,5 п.л.
/1 I
I
Формат 60x84.1/16. Печать ризографная. Бумага № 1. Гарнитура Тайме. Ус.п.л. - 2,5 изд.п.л. - 2,5 Заказ № 190-03 Тираж - 100 экз. Отпечатано в ООО «Деловой Мир» Махачкала, ул. Коркмасова, 35
-A
~ 15447
P 15447 '
I
11
i
i
i
i
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Магомедов, Магомед Ибрагимович
ВВЕДЕНИЕ.
Глава 1. ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДАГЕСТАНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.
Глава 2. СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АВАРСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ И В ЕГО ДИАЛЕКТАХ.
2.1. О синтаксических особенностях аварских диалектов.
2.2. Грамматическая и семантическая дифференциация структуры предложения в аварском языке.
2.3. Типы простых предложений в аварских сказках.
2.4. Непереходная конструкция предложения в аварском языке.
2.5. Семантико-синтаксическая характеристика предложений с глаголами речи в аварском языке.
2.6. Неполные предложения в аварском языке.
2.7.Порядок слов в аварском простом предложении.
Глава 3. ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ.
3.1. Определение субъекта и объекта.
3.2. Категории, выражающие субъектно-объектные отношения в аварском языке (обзор).
3.3. Падежное кодирование субъекта и объекта в аварском языке.
3.3.1. Функции номинатива.
3.3.2. Функции эргатива.
3.3.3. Функции генитива.
3.3.4. Функции датива.
3.3.5. Пространственные падежи и превербно-послеложные конструкции.
3.4. Глагольная валентность в аварском языке.
3.4.1. Общая характеристика.
3.4.2. Переходные и непереходные глаголы и категория объекта в аварском языке.
3.5. Категория залога в аварском языке.
3.5.1. О категории залога в дагестанских языках.
3.5.2. Категория залога в аварском языке.
3.5.3. Рефлексив и реципрок в аварском языке.
3.5.4. Категория каузатива в аварском языке.
3.6. Синтаксическая роль классно-числовых показателей в аварском языке.
3.7. Специфика выражения субъектно-объектных отношений в осложненных предложениях.
3.7.1. Общая характеристика.
3.7.2. Конструкции временного подчинения.
3.7.3. Субъектно-объектные отношения в причастии дидой-ских языков.
Глава 4. СИНТАКСИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ГЛАВНЫХ
ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ.
4.1. Постановка проблемы.
4.2. Подлежащее в аварском языке.
4.2.1. Понятие подлежащего и его отношение к понятию субъекта в аварском языке.
4.2.2. Понятие подлежащего и эргативность.
4.2.3. Подлежащее и его отношение к дополнению в аварском языке.
4.3. Соотношение членов предложения с послелогами в аварском языке.
Введение диссертации2003 год, автореферат по филологии, Магомедов, Магомед Ибрагимович
В настоящей работе предлагается опыт исследования способов выражения субъектно-объектных отношений в аварском языке и той роли, которую играет в специфике их отражения в структуре предложения категория залога. Выбор подобной темы неслучаен: проблематика субъектно-объектных отношений всегда относилась к основным направлениям лингвистических исследований. Достаточно вспомнить известное высказывание крупнейшего американского лингвиста XX столетия Э. Сепира об универсальности выражения субъектно-объектных отношений: "Ни один из известных нам языков не может от этого увернуться, равно как он не может выразить что-либо, не прибегая к символам для конкретных понятий" [Сепир 1934: 73]. Подобное исследование базируется на основе современной теории эргативности — составной части контенсивной типологии, в рамках которой представляется характеристика структурных компонентов предложения и синтаксических связей между ними.
Актуальность темы исследования. Типологические особенности строения простого предложения в нахско-дагестанских языках постоянно привлекают внимание исследователей — специалистов в области общего, типологического и сравнительно-исторического языкознания. В работах, посвященных исследованию синтаксического строя этих языков ставятся и находят свое решение такие важнейшие проблемы синтаксиса простого предложения, как сущность и определение предложения как основной синтаксической единицы, выделение основных типов предложения в соответствии с их коммуникативными целеуста-новками, выработка критериев определения членов предложения, детальный анализ особенностей синтаксической связи между компонентами предложения, структурная характеристика конструкций предложения и др., что имеет огромное научное значение не только для нахско-дагестанского языкознания, но и предлагает пути решения многих общелингвистических, в частности типологических проблем.
В то же время специфика выражения субъектно-объектных отношений в структуре нахско-дагестанского предложения до настоящего времени остается слабо изученной стороной синтаксических явлений, что обусловлено, с одной стороны, отсутствием комплексного анализа используемого в работах по данной проблематике материала и, с другой стороны, сложностью самого объекта исследования, требующего вовлекать в орбиту изучения данные нескольких языковых уровней.
Конечно, в последнее время синтаксические исследования дагестанских языков все более выдвигаются на передний план, причем существенно расширяется методика и теоретический аппарат подобных исследований. Довольно большое количество проблем получило более или менее удовлетворительное решение, еще большее число их поставлено и продолжает обсуждаться, а к решению некоторых синтаксических вопросов, ответы на которые необходимы для адекватного описания синтаксиса дагестанских языков, мы еще не приступили.
На сегодняшний день мы можем назвать целый ряд монографий, диссертаций и специальных статей, посвященных актуальным проблемам синтаксиса, отдельных дагестанских языков, в их числе работы А.А. Бокарева, М.М. Гаджиева, М.-С.Д. Саидова, Г.Б. Муркелинского, У.А. Мейлановой, З.Г. Абдуллаева, Б.Г.-К. Ханмагомедова, А.Е. Кибрика, С.К. Сулеймановой, М.-Ш.А. Исаева, С.М. Махмудовой, П.А. Gy-леймановой и др. К сожалению, до сих пор нет какой-либо обобщающей работы по синтаксису лакского языка. Кроме того, практически не разработаны проблемы синтаксиса ни по одному из дагестанских бесписьменных языков (исключение составляет цезский синтаксис, которому посвящена монография Р.Н. Раджабова). Да и по другим языкам многие синтаксические положения нуждаются в уточнении и в дальнейшей разработке.
Дагестанская лингвистика может гордиться таким капитальным трудом по исследованию синтаксиса аварского языка, как монография А.А. Бокарева [Бокарев 1949]. Несмотря на то, что со времени ее выхода прошло свыше пятидесяти лет, она, на наш взгляд, до сих пор не потеряла своей ценности. Правда, задача этой книги состояла прежде всего в описании общего синтаксического строя,. уточненном и углубленном последующими поколениями дагестанских синтаксистов (М.М. Гаджиев, З.Г. Абдуллаев, Б.Г.-К. Ханмагомедов и др.). Синтаксическая концепция А.А. Бокарева, сильно повлиявшая на дагестанское языкознание, заслуживает надлежащего внимания и в наши дни.
Разные научные направления и концепции дают разные перечни синтаксических объектов. Наиболее очевидными и бесспорными являются следующие: словосочетание, простое предложение и сложное предложение. Остановимся на каждом из них в отдельности.
Изучению словосочетания в дагестанских языках посвящен ряд диссертаций, статей и монографий (см. работы Б.Г.-К. Ханмагомедова, С.К. Сулеймановой, М.-Ш.А. Исаева, С.М. Махмудовой, П.А. Сулейма-новой, М.И. Магомедова, Р.Н. Раджабова и др.). Вместе с тем каждый автор рассматривает какой-нибудь один класс словосочетаний (в основном именные или глагольные). Неисследованными остались адъективные, наречные, субстантивно-глагольные, наречно-глагольные, гла-гольно-инфинитивные и другие типы словосочетаний.
Система словосочетаний в дагестанских языках очень обширна и сложно устроена. Задача исследователя — в описании и систематизации всех типов словосочетаний.
Простое предложение представляет собой центральный объект синтаксиса во всех современных синтаксических концепциях. Проблемам простого предложения посвящены работы М.М. Гаджиева, Б.Г.-К. Ханмагомедова, З.Г. Абдуллаева. Сравнительному исследованию структуры простого предложения аварского и английского языков посвящена кандидатская диссертация У.А. Исламовой. Между тем и в синтаксисе простого предложения дагестанских языков остается много нерешенных проблем.
Первая проблема. Дифференциальным признаком, на основе которого члены предложения традиционно делятся на главные и второстепенные, является вхождение или невхождение в предикативную основу предложения.
В дагестанских языках к главным членам традиционно относят подлежащее, сказуемое и прямое дополнение (объект). Однако в предикативную основу двусоставного предложения (непереходная конструкция) входят только подлежащее и сказуемое как взаимно предполагающие друг друга. В предложениях переходной конструкции три члена предложения составляют конструктивное ядро предложения. Можно ли рассматривать здесь все члены предложения как главные? Анализ дагестанских языков показывает, что не все члены предложения имеют в данной конструкции равный статус главных членов: подлежащим выступает имя в номинативе, которое находит классно-числовое и личное отражение в глаголе-сказуемом (в тех языках, где эти категории-представлены). Например, в аварском языке имя в номинативе (подлежащее) находится не в односторонней зависимости от глагола-сказуемого, а во взаимосвязи с ним: оно не только зависит от глагола-сказуемого, которое диктует ему его форму (номинатив), но и определяет форму глагола-сказуемого применительно к категориям числа и класса. Глагол-сказуемое получает оформление по этим категориям, отражая в своей форме соответствующие свойства подлежащего. Отнесение подлежащего-имени в номинативе, находящегося во взаимосвязи с глаголом-сказуемым, к главным членам оправдано именно тем, что подлежащее участвует в оформлении предикативной основы предложения. Что же касается третьего члена трехсоставного предложения переходной конструкции, то он не находит отражения в глаголе-сказуемом и, следовательно, не может рассматриваться как подлежащее. Имена в эр-гативе, дативе и др. восполняют и конкретизируют семантически неполноценные или неопределенные по своей грамматической семантике главные члены — подлежащее и сказуемое.
Вторая проблема касается соотношения понятий "подлежащее" и "субъект". В дагестанских языках существуют противоречивые точки зрения относительно дефиниций терминов "подлежащее" и "субъект". Например, И.И. Мещанинов различает в аварском языке пять разных падежей подлежащего — номинатив, эргатив, датив, посессив и локатив, исходя из того, что падеж подлежащего зависит от заложенного в глагол содержания. Такого же принципа определения подлежащего придерживаются также Л.А. Бокарев, М1М.Хаджиев, М.-С.Д. Саидов, F. Шарашидзе, К. Эбелинг др. Все указанные выше падежи являются субъектными, так как не подлежащее стоит в эргативе, дативе, посесси-ве и др., а носитель или производитель действия, т.е. субъект.
Подлежащее и субъект относятся.к разным уровням предложения, следовательно, их нельзя отождествлять. Таким образом, формой выражения подлежащего является только имя в номинативе, с которым координируются классно-числовые показатели глагола-сказуемого. В дагестанских языках главная из специфических черт подлежащего — в задаваемой им необходимости координации с глаголом-сказуемым. Даже в. потенции этой способностью не наделен ни один из выразителей субъекта — факт несомненно интересный и заслуживающий дальнейшего изучения. Это формальное своеобразие глубоко симптоматично и в семантическом отношении, так как координация всегда указывает на отнесенность признака к его непосредственному носителю. Следовательно, подлежащее как компонент предложения противопоставлено другим выразителям субъекта и по грамматическому значению, и по роли в структурной организации предложения.
Третья проблема. В дагестанских языках еще окончательно не исследованы особенности сложного предложения во многих его аспектах, несмотря на работы А.А. Бокарева, М.М;Хаджиева, З.Г. Абдуллаева, Б.Г-К. Ханмагомедова, а также Д.С. Самедова, исследовавшего сложное предложение в аварском языке в сопоставлении с русским. Конкретно не определен статус причастных, деепричастных, масдарных конструкций и их функции в составе сложного предложения. До сих пор нет обобщающей работы по синтаксису сложного предложения дагестанских языков.
Четвертая проблема. Продолжает оставаться актуальной теория эргативности. Понятие "эргативный строй языка" говорит о том, что вся система языка характеризуется определенными признаками эргативности. Однако вопрос о том, что же из себя представляет эргативный строй языка, остается нерешенным по целому ряду уровней.
На наш взгляд, эргативность представляет собой один из структурных элементов языка. Эргативность может быть выражена лишь фактами двух языковых уровней — морфологического (словоизменительная структура) и синтаксического (структура словосочетания и предложения).
Когда речь идет о функциях эргатива, должны быть, вероятно, четко разграничены семантический и синтаксический аспекты его функционирования. Без разграничения названных аспектов невозможно установить подлинную природу данного падежа, так как по ряду признаков, в частности по характеру связи с глагольным процессом, не всякий субъект эргатива может быть квалифицирован как подлежащее.
Это обстоятельство приходится подчеркивать в связи с развивающейся в теории эргативности тенденции квалифицировать всякий субъект эргатива в качестве подлежащего, отождествления "субъекта эргатива" и "подлежащего эргатива"! Кроме того, в качестве подлежащего квалифицируется не только всякий субъект эргатива, но и всякий субъект косвенных падежей — датива, генитива, локатива и т.д.
Пятая проблема. Речь идет о категории залога; в системе эргативности. Как известно, в теории эргативности большинством специалистов принята версия; о залоговой нейтральности эргативной конструкции, хотя указанной версии предшествовали или сопутствовали разного рода теории о пассивности или активности этой же конструкции.
Изучая чеченский и аварский языки с классным спряжением глагола, П.К. Услар впервые выдвинул версию об отсутствии в данных языках глаголов действительного залога. По мнению П.К. Услара, глаголы здесь носят характер страдательного или среднего залога. В последующих исследованиях эта мысль была предана забвению. Классный глагол в этих языках относится в структуре предложения к имени в номинативе. Косвенные падежи, в их числе и эргатив, не могут отразить в глаголе свою категориальную субстанцию. Такие косвенные падежи, которые не имеют в глаголе отражения своей категориальной субстанции, синтаксически могут быть квалифицированы только как второстепенные члены.
Подлежащим в названных языках может быть лишь номинатив. Однако номинативность эргативных языков существенно отличается от номинативности номинативных языков.
Таким образом, ни классный, ни классно-личный глагол в принципе не может быть нейтральным в залоговом отношении.
Шестая проблема. Синтаксис диалектов и их роль в формировании синтаксической структуры литературных языков.
Недостаточная изученность синтаксиса диалектов относительно других уровней языка неоднократно отмечалась в лингвистической литературе. По-видимому, это не случайно. Очевидно, кроме субъективных факторов (малой изученности), есть и чисто объективные причины: изменения в синтаксисе происходят гораздо медленнее, чем на других уровнях языка. Отсюда — и меньше черт различий в синтаксисе диалектов. Элементы, общие для всех диалектов, значительно преобладают над частными, различительными. Однако, совпадая в своих основных чертах, синтаксические структуры диалектов дагестанских языков имеют также существенные различия. Так, наблюдаются тенденции утраты диалектных черт под воздействием литературного языка, а также в результате влияния русского языка, в других диалектах сохранились архаичные синтаксические конструкции. Кроме того, произошли определенные изменения в ходе развития языка. Задача выявления общих и частных закономерностей междиалектных взаимодействий представляет собой необходимый этап в изучении синтаксиса диалектов дагестанских языков.
Кроме перечисленных выше, в теоретическом и практическом плане представляются очень значимыми следующие проблемы по синтаксису дагестанских языков:
1. Порядок слов в предложении и интонация.
2. Актуальное членение предложения.
3. Отсутствие теоретических работ в области синтаксиса, что способствует отставанию исследования данного раздела языка.
4. Имеющиеся некоторые научные работы, учебники и учебные пособия по синтаксису не отражают в достаточной степени своеобразия синтаксиса дагестанских языков, следуя, как правило, традициям исследования индоевропейских языков.
Безусловно, в синтаксисе дагестанских языков значительно больше синтаксических проблем, чем здесь названо. Надеемся, что будущие исследования по синтаксису будут эффективными и внесут свой вклад в развитие дагестанских языков.
Основной целью настоящего исследования является изучение структуры простого предложения аварского языка и взаимоотношений его компонентов в связи со способами выражения субъектно-объектных отношений, его основных конструкций в аспекте проявления категории залога. При достижении этой цели решались следующие более частные задачи:
1. Исследование сущности простого предложения в аварском языке, выделение его дифференциальных признаков в сопоставлении со смежными структурами.
2. Определение границ минимальной предикативной основы простого предложения.
3. Рассмотрение конструкций простого предложения в типологическом аспекте в связи с проявлением категории залога.
4. Установление критериев иерархии членов предложения, в особенности в аспекте оппозиции его главных и второстепенных членов; определение подлежащего и дополнения.
5. Классификация: способов синтаксической связи и синтаксических отношений между компонентами и членами простого предложения.
Научная новизна работы заключается прежде всего в выборе аспекта исследования субъектно-объектных отношений: комплексное изучение этой проблемы в работе предлагается с точки зрения функционирования в аварском языке категории залога, до сих пор не выделявшейся на материале аварского языка, хотя отдельные фрагментарные суждения* по данному вопросу в литературе по аварскому языку имеются. Таким образом, в настоящей работе впервые в исследовании синтаксиса аварского языка всесторонне изучены структурные и коммуникативные способы выражения субъектно-объектных отношений, предложена их классификация, подробно проанализированы условия реализации каждого из рассмотренных способов.
Теоретическая и практическая значимость данной диссертационной работы вытекает из того,.что в теоретическом отношении анализ строения способов выражения субъекно-объектных отношений в рамках простого предложения-вносит определенный вклад в первую очередь в сопоставительное и типологическое изучение синтаксиса кавказских языков, в определение специфики их синтаксического строя, которая исследовалась до настоящего времени без учета функционирования в этих языках категории залога. Проведенный в диссертации комплексный анализ проблем, связанных с конструктивными особенностями различных способов выражения субъекно-объектных отношений, (отчасти с сопоставлениями аналогичных средств в языках различного строя), тесно связан с особенностями выражения главных членов предложения, своеобразием выражения в них синтаксических отношений и связей компонентов предложения, предполагает восполнение имеющегося до настоящего времени пробела в исследовании синтаксиса аварского и в некоторой степени других нахско-дагестанских языков, обогащает методику типологического и сопоставительного синтаксиса результатами, полученными на основе применения новых концепций.
Результаты исследования могут послужить основой для типологического обобщения итогов изучения синтаксиса простого предложения родственных и иных языков Северного Кавказа. На наш взгляд, существенное значение эти результаты могут иметь для такой сравнительно новой области лингвистики, как функциональная типология.
Практическое применение результаты анализа субъектно-объектных отношений в аварском синтаксисе найдут как при составлении научных, вузовских и школьных грамматик и программ (особенно в той части, которая касается синтаксиса простого предложения), так и в качестве вспомогательного материала для учителей современного аварского языка, для работников национальных средств массовой информации, в т.ч. редакторов, журналистов и др.
В; качестве анализируемого материала исследования в работе использована современная аварская художественная литература, произведения устного народного творчества, периодическая печать и живая разговорная речь. Хотя исследование синтаксического строя различных жанров фольклора считается одним из важнейших направлений исследования языка устного поэтического творчества, паремиологический фонд аварского языка до настоящего времени не был исследован в этом аспекте.
Приемы и методы исследования, используемые в работе, обусловлены спецификой исследуемого материала. В работе использовались классификационный метод, оппозитивный метод, метод моделирования и другие методики.
Следует особо выделить используемые в данном исследовании типологические методы, особенно эффективные в тех случаях, когда предлагаемый анализ касается материала иных языков различной генетической принадлежности. В меру необходимости в работе используются приемы и способы анализа, применяемые в работах по контра-стивной лингвистике. Сопоставительный метод опирается в настоящей работе как на схему "от формы к содержанию", так и на схему "от содержания к форме".
Апробация и публикации. Диссертационная работа обсуждена и рекомендована к защите в отделе грамматических исследований дагестанских языков Института языка, литературы и искусства им. Г. Цада-сы Дагестанского научного центра РАН и на кафедре русского языка с курсом подготовительного отделения Дагестанской государственной медицинской академии. Основные положения работы отражены в монографии автора "Субъектно-объектные отношения и категория залога в аварском языке". - М., 2003 (14,5 п.л.). Вышло из печати более 50 публикаций по теме исследования. Результаты исследования были изложены в докладах на различных научно-практических конференциях по проблемам иберийско-кавказских языков в Москве, Тбилиси, Махачкале и др.
Структура и объем работы. Диссертация представляет собою рукопись из 302 страниц машинописи, которая включает в себя оглавление, введение, четыре главы, заключение, список использованной литературы и список сокращений.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Субъектно-объектные отношения и категория залога в аварском языке"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования структуры простого предложения в аварском языке и способов выражения в его структуре субъектно-объектных отношения, предпринятого в настоящей-работе, были определены структурные признаки предикативной основы предложения, выявлены критерии выделения членов предложения на основе современной теории эргативности - составной части контенсивной типологии, а также дана характеристика основных способов выражения синтаксических связей между членами предложения, в сообенности в аспекте проявления в аварском предложении категории залога.
Характеристика конструктивных элементов предложения, предложенная в работе, основывается, с одной стороны, на грамматических элементах, формирующих структуру предложения, и, с другой стороны, на интонационной оформленности предложения. Используемые для оформления предложения грамматические средства, как показано в работе, не однородны и соотносятся с разными языковыми уровнями, как с собственно синтаксическим, так и морфологическим и лексическим. Среди них мы выделяем следующие структурно-функциональные разновидности.
Аффиксация как средство грамматического оформления предложения связывается с морфологическим выражением в глаголе-сказуемом категории грамматического, благодаря которому происходит согласование глагола-сказуемого с подлежащим.
Принадлежность аварского языка к эргативной типологии2 определяет целый ряд его взаимообусловленных структурных характери
Согласно существующим определениям, "на глубинно-синтаксическом уровне в качестве эргативиой типологии предложения следует рассматривать такую типологию, в рамках которой субъект пестик. В основе этого комплекса разноуровневых импликаций, как полагают исследователи, работающие в рамках контенсивной типологии, лежит оппозиция глагольных лексем по признаку переходности ~ непереходности.
В отличие от русского языка, где непереходные глаголы "называют действие, не предполагающее объекта, выраженного формой вин. п.", в аварском языке критерием определения непереходности является не отсутствие имени объекта в определенном падеже, а отсутствие в глаголе соответствующей имени в эргативном падеже.
Опора на формальный признак не означает невозможности определения основных лексико-семантических группировок внутри соответствующих классов глаголов. Среди непереходных глаголов в диссертации выделяются следующие группы:
1. Глаголы, выражающие состояние или переход из одного состояния в другое, образуют в аварском языке самую многочисленную группу. Среди этих глаголов можно выделить следующие основные логико-грамматические подтипы: а) глаголы, сочетающиеся с обозначениями одушевленных предметов; б) глаголы, сочетающиеся с обозначениями неодушевленных предметов;
2. Глаголы с общим значением "быть деформированным, разрушенным, уничтоженным" ; реходного действия трактуется иначе, чем субъект непереходного, а объект первого - так же, как субъект второго (естественно, что используемые при этом понятия глубинных субъекта и объекта предполагаются заданными извне и совершенно безотносительными к тому, в каких членах предложения они находят свое выражение). Отсюда вытекает, что эргативная конструкция — это модель транзитивного предложения эргативной типологии, а абсолютная конструкция — это модель ее ин-транзитивного предложения" [Климов 1973].
3. Глаголы с общим значением 'испытывать воздействие на поверхность';
4. Глаголы абстрактного значения типа алагара 'начинать', алга-ра 'кончать, завершать' и т.п.;
5. Глаголы, передающие эмоциональные состояния и действия человека;
6. Глаголы, характеризующие различные процессы;
7. Глаголы, обозначающие занятия человека;
8. Глаголы, характеризующие "интеллектуальную", "духовную" деятельность человека;
9. Глаголы, выражающие разнонаправленное движение;
10. Глаголы покоя;
11. Глаголы, выражающие местонахождение, месторасположение лица или предмета. Эти глаголы по своему значению близки к глаголам группы 10 в том смысле, что указывают на результат перемещения, предшествовавшего данному состоянию;
12. Глаголы отмеченного движения (прибытия) со значением приближения, сближения, соприкосновения;
13. Глаголы отмеченного движения (убытия) со значением удаления, отделения, разделения;
14. Глаголы, обозначающие совместное действие;
15. Отличительной чертой абазинского языка является включение в состав непереходных глаголов лексем, выражающих внешнее воздействие;
16. Как и глаголы внешнего воздействия, специфичны для абазинского языка непереходные глаголы, выражающие отношения между людьми и нек. др., в других языках (номинативного строя?) квалифицируемые как переходные.
Таким образом, группировка глаголов по признаку переходности — непереходности в абхазско-адыгских языках имеет несколько особенностей, привлекающих внимание с точки зрения контенсивной типологии. В связи с этим в первую очередь исследователями отмечается "количественно варьирующая от языка к языку (но особенно значительная в адыгских языках) группа семантически переходных глаголов, которые по своему структурному статусу, т. е., в частности, по модели управления именными членами предложения и по своей морфологической структуре, должны быть отнесены к числу интранзитивных. Обращает на себя внимание и едва ли не общая для них семантическая особенность — обычно в нее входят глаголы поверхностного воздействия (если о последнем вообще можно говорить) на объект. Несовпадение в категоризации по признаку переходности7 непереходности обнаруживается и в нахско-дагестанских языках.
В работе отстаивается мнение о том, что говорить об эргативной конструкции предложения без учета системы основных предложений, как это хорошо показано в целом ряде исследований последних лет, невозможно, как невозможно и выделять проблему эргативности, не учитывая всего комплекса разноуровневых импликаций, определяющих в целом специфику эргативного строя. Поэтому прежде чем характеризовать структурные особенности эргативной конструкции, необходимо указать на ее содержательные основания, а именно лексическую оппозицию переходных и непереходных глаголов.
Лексическое качество переходного глагола аварского языка определяет наличие в структуре предложения имени субъекта в эргативном падеже. С точки зрения семантики среди переходных глаголов могут быть выделены следующие группы:
1. Глаголы, характеризующие "интеллектуальную" деятельность человека (как правило, воздействие на другого человека);
2. Глаголы, выражающие каузацию изменения состояния человека и. живых существ. Здесь можно выделить две семантические подгруппы: (а) глаголы, выражающие каузацию изменения физического состояния человека и живых существ; (б) глаголы, выражающие каузацию изменения психического состояния человека;
3. Глаголы, выражающие каузацию изменения состояния предмета, придание ему нового качества;
4. Глаголы, выражающие каузацию движения объекта. Среди многочисленных глаголов этой семантической группы можно выделить подгруппы глаголов, выражающих каузацию движения объекта, с одной стороны, и каузацию смены его местоположения (глаголы данной группы можно подразделить, аналогично соответствующим непереходным глаголам, на глаголы приближения и удаления):, с другой. Деление это хотя в достаточной мере условно, все же оно отражает имеющиеся различия в семантике глаголов данной группы;
5. Глаголы с общим значением "создать", "сделать";
6. Глаголы с общим значением "разрушить", "уничтожить";
7. Глаголы, обозначающие трудовые процессы;
8. Глаголы, обозначающие физическое воздействие на поверхность предмета;
9. Глаголы, выражающие изменение принадлежности предмета и вообще каузацию посессивных отношений;
10. Глаголы, обозначающие принятие и усвоение пищи.
Обычный порядок слов в эргативной конструкции характеризуется начальной позицией субъектного имени и конечной позицией сказуемого с приглагольным дополнением.
В соответствии с общепринятой ныне теорией инвариантности структур с различными падежными показателями, оформляющими тождественные элементы в структуре предложения, выделяется конструкция с двойным номинативом.
В аварском простом предложении выделяется два главных члена -сказуемое и подлежащее. Имя в эргативе, относящееся традиционно к главным членам, в рамках нашей концепции получает статус субъектного дополнения.
Проблема подлежащего в языках эргативного строя приобретает особую остроту, поскольку здесь формальные и смысловые отношения с точки зрения номинативной типологии выглядят как бы перевернутыми. В диссертации последовательно рассмотрены те признаки, которые в совокупности дают основания признать тот или иной член предложения подлежащим рассмотрены в соответствии с концепцией Кинэ-на. Подлежащный статус единственного актанта непереходного предложения при этом предполагается заданным заранее.
Ряд конструкций простого предложения аварского языка может быть отнесен к производным. Среди них выделяется каузатив, который является одним из наиболее распространенных способов повышения переходности глагола и предложения в языках мира. По отношению к исходной ситуации в каузативном глаголе увеличивается число актантов на один, причем новый актант занимает позицию субъекта, а исходный субъект непереходного глагола трансформируется в прямой объект. При исходном переходном глаголе исходный субъект трансформируется в косвенный объект, а исходный прямой объект сохраняет свою позицию.
Способы понижения переходности включают: а) лабильные глаголы, которые без прибавления каких-либо аффиксов, способствующих морфологическому изменению структуры глагола, имеют непереходные и переходные варианты. б) Опущение субъекта: образование непереходных вариантов, которые при сравнении с переходными вариантами трактуются иногда как формы пассивной конструкции; г) эллипсис.
Список научной литературыМагомедов, Магомед Ибрагимович, диссертация по теме "Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи)"
1. Абдуллаев 3.Г. Функции дательного падежа в даргинском языке // Учен. зап. ИИЯЛ. Т. 6, 1959.
2. Абдуллаев З.Г. Категория падежа в даргинском языке. Махачкала,1961.
3. Абдуллаев З.Г. Эргативная конструкция предложения в горских письменных языках Дагестана // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967.
4. Абдуллаев З.Г. К вопросу о главных членах предложения в даргинском языке // Учен. зап. ИИЯЛ. Т. 18, 1968.
5. Абдуллаев З.Г. Очерки по синтаксису даргинского языка. М.,1971.
6. Абдуллаев З.Г. Соотношение категориальных свойств даргинского глагола// ВЯ, 1976, 1 6.
7. Абдуллаев З.Г. К генезису формантов датива в даргинском языке // ВЯ, 1982, № 1.
8. Абдуллаев З.Г. Проблемы эргативности даргинского языка. М.1986.
9. Абдуллаев З.Г. К проблеме главных членов предложения в дагестанских языках // Актуальные проблемы дагестанско-нахского языкознания. Махачкала, 1986.
10. Абдуллаев З.Г. К генезису падежных формантов в даргинском языке // Падежный состав и система склонения в кавказских языках. Махачкала, 1987.
11. Абдуллаев 3. Г. К некоторым понятиям теории эргативности // Известия Сев.Кавк. НЦ выс. школы. Обществ, науки. 1990, № 2.
12. Абдуллаев И. X. Категория грамматических классов и вопросы исторической морфологии лакского языка. Махачкала, 1974.
13. Абдуллаев И. X. Некоторые вопросы глагольного словообразования в лакском языке // Глагол в языках Дагестана. Махачкала, 1980:
14. Абдуллаев С. Н. Грамматика даргинского языка. (Фонетика и морфология). Махачкала, 1954.
15. Абдуллаев С.Н. Спряжение даргинского глагола по лицам // Труды 2-й научной сессии Дагестанской научно-исследовательской базы АН СССР. Махачкала, 1949.
16. Абдуллаев С.Н. Функции эргативного падежа в даргинском языке // Труды 1-й научной сессии Дагестанской научно-исследовательской базы АН СССР. Махачкала, 1948.
17. Адмони В.Г. Структура грамматического значения и его статус в системе языка // Структура предложения и словосочетания в индоевропейских языках. Д., 1979.
18. Алексеев М.Е., Загиров З.М. Особенности употребления субъект-но-объектного генитива в табасаранском языке // Глагол и глагольные словосочетании в дагестанских языках. Махачкала, 1991.
19. Алексеев М.Е. К типологической характеристике нахско-дагестанских языков // Лингвистическая типология. М., 1985.
20. Алексеев М.Е. Проблема аффективной конструкции предложения: Автореф. дисс. . канд. филологических наук. М;, 1975.
21. Алексеев М.Е. Структура простого предложения в лезгинских языках // Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1985, №4.
22. Алексеев М.Е. Функции эргативного падежа в арчинском языке // Именное склонение в дагестанских языках. Махачкала, 1979.
23. Алексеев М.Е., Шейхов Э.М. О генетической связи суффикса каузатива и показателя множественного числа имен в лезгинском языке II Категория числа в дагестанских языках. Махачкала, 1985.
24. Алиева Н.Ф. Выражение объекктных отношений глагола как универсальное свойство языков // Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., 1969.
25. Андгуладзе Н.Д. Некоторые вопросы истории классного и личного спряжения в иберийско-кавказских языках. Тбилиси, 1968 (на груз. яз.).
26. Арно А., Лансло Кл. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. М., 1990.
27. Ахманова О.А. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
28. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
29. Бокарев А.А. Синтаксис аварского языка. М.-Л., 1949.
30. Бокарев Е. А. Выражение субъектно-объектных отношений в дагестанских языках // Изв. АН СССР, ОЛЯ. 1948. Т. VII. Вып. I.
31. Бокарев Е. А. Локативные и нелокативные значения местных падежей в дагестанских языках//Язык и мышление. T.XI. М.;Л.,1948.
32. Бокарев Е.А. Эргативный падеж в языках цезской группы горских языков Дагестана//Языки Дагестана. Вып. 2. Махачкала, 1954.
33. Бондарко А.В. К определению понятия "залоговость" // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. С.-П., 1991.
34. Бондарко А.В. Теория значения и трактовка категории залога // Проблемы теории грамматического залога. Л., 1975.
35. Бурчуладзе Г.Т. Вопросы становления личного спряжения в лакском языке // ЕИКЯ. Т. 6, 19796.
36. Бурчуладзе Г.Т. К вопросу дифференциации переходности-непереходности в лакском языке // Изв. АН ГССР. СЛЯ. 1979а, 1 2.
37. Бурчуладзе Г.Т. Основные вопросы падежного состава и процессов склонения имен существительных в лакском языке. Тбилиси, 1986 (на груз. яз.).
38. Быховская C.JI. Особенности употребления переходного глагола в даргинском литературном языке // Памяти акад. Н.Я. Марра (18641934). М.-Л. 1938.
39. Виноградов В В. Грамматическое учение о слове. Изд. 3. М., 1986.
40. Виноградов В.В. Русскийязык. М., 1947.
41. Гаджиев М.М. О залогах в табасаранском языке // Труды Института истории, языка и литературы Дагестанской научно-исследовательской базы АН СССР. Махачкала, 1948.
42. Гаджиев М.М. Синтаксис лезгинского языка. Ч. I. Махачкала,1954.
43. Гаджиев М.М. Синтаксис лезгинского языка. Ч. II. Сложное предложение. Махачкала, 1963.
44. Гайдарова Ф.А. О verba sentiendi в дагестанских языках // ЕИКЯ. Т. 6, 1979.
45. Гайдарова Ф.А. Функция родительного падежа в лакском языке // Сборник статей по вопросам дагестанского и вейнахского языкознания. Махачкала, 1972.
46. Гайдарова Ф.А. Эргативная конструкция в лакском языке // ИКЯ. Т. 18, 1973.
47. Гамзатов Р. Э. О превербно-послеложной системе мазадинского (ташского) говора аварского языка // Система превербов и послелогов в иберийско-кавказских языках. Черкесск, 1983.
48. Гаприндашвили Ш.Г. К генезису формантов дательного падежа в даргинском языке // ИКЯ. Т. 2, 1948.
49. Гигинейшвили Б.К. Падежная система общедагестанского языка в свете общей теории эргативности // В Я, 1976, № 1.
50. Гудава Т.Е. О дательном падеже в аварском языке // ИКЯ. Т. 12,1960.
51. Гудава Т.Е. Багвалинский язык. Тбилиси, 1971 (на груз.яз.).
52. Гухман М.М. Позиция подлежащего в языках разных типов // Члены предложения в языках разных типов. Л., 1972.
53. Дешериев Ю. Д. Грамматика хиналугского языка. М., 1959.
54. Дешериева Т. И. Субъектно-объектные отношения в разнострук-турных языках. М.,1985;
55. Дешериева Т.Н. К вопросу о так называемом "абсолютном" падеже// ВЯ, 1982, № 3.
56. Дешериева Т.Н. К вопросу о так называемом "абсолютном" падеже // Падежный состав и система склонения в кавказских языках. М., 1987.
57. Дешериева Т.И. Структура семантических полей чеченских и русских падежей. М., 1974.
58. Дешериева Т.И. Субъектно-объектные отношения в разнострук-турных языках. М:, 1985.
59. Дешериева Т.И. Схема залоговой дифференциации в языках эргативной типологии (в частности, в нахско-дагестанских языках) // Актуальные проблемы дагестанско-нахского языкознания. Махачкала, 1986.
60. Джидалаев Н.С. Некоторые вопросы личного спряжения в лакском языке // Учен. зап. ИИЯЛ. Т. 12. Махачкала, 1964.
61. Дирр A.M. Рутульский язык // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 42, Тифлис, 1911.
62. Дьяконов И.М. Эргативная конструкция и субъектно-объектные отношения // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. JI., 1967.
63. Жирков Л.И. Краткая грамматика аварского языка // Аварско-русский словарь. М., 1936.
64. Болотова Г.А. О характере нормы в синтаксисе // Синтаксис и норма. М., 1974.
65. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.
66. Имнайшвили Д.С. Дидойский язык в сравнении с гинухским и хваршийским языками. Тбилиси, 1963.
67. Иомдин Л.Л. Симметричные предикаты в русском языке и проблема взаимного залога // Институт русского языка АН СССР: Предварительные публикации. М., 1980. № 131.
68. Исаков И.А. Элемент классно-личного спряжения в кусурском диалекте аварского языка // Глагол в языках Дагестана. Махачкала, 1980.
69. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.
70. Кахадзе О.И. Еще раз о показателях эргатива в арчибском языке // ИКЯ. Т. 16. Тбилиси, 1968.
71. Кахадзе О.И. К выделению показателей эргатива в арчибском языке // ИКЯ. Т. 13. Тбилиси, 1962.
72. Кахадзе О.И. О категории лица в арчибском языке // ИКЯ. Т. 19. Тбилиси, 1974.
73. Кахадзе О.И. О совпадении двух падежей в арчибском языке // ИКЯ. Т. 15. Тбилиси,1966.
74. Кацнелъсон С.Д. К понятию типов валентности // Вопросы языкознания. 1987. № 3.
75. Кацнелъсон С.Д. Типология языка и речевого мышления. JI.,1972.
76. Керимов КР. Ассимметрия залоговых отношений в номинативных и эргативных языках и синтаксическая структура предложения (на материале русского и лезгинского языков) // Актуальные проблемы развития лингвистики и лингводидактики. Махачкала, 1996.
77. Керимов КР. Переходные и непереходные глаголы и каузатив в хиналугском языке // ЕИКЯ. Т. 13. Тбилиси, 1986.
78. Кибрик А.Е. Номинативная7 эргативная конструкция и логическое ударение в арчинском языке // Исследования по структурной и прикладной лингвистике. М., 1975.
79. Кибрик А.Е. Структурное описание арчинского языка методами полевой лингвистики: Автореф. дис. докт. филол. наук. М., 1976.
80. Кибрик А.Е. Опыт структурного описания арчинского языка. Т. 2. Таксономическая грамматика. М.,1977.
81. Кибрик А.Е. Подлежащее и проблемы универсальной модели языка // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1979. Т.38. № 4.
82. Кибрик А.Е. Материалы к типологии эргативности. М. , 1979-1981 (Предварительные публикации ИРЯ АН СССР. Вып. 126-130, 140, 141).
83. Кибрик А.Е. Предикатно-аргументные отношения в семантически эргативных языках// Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка. 1980. Т. 39.
84. Кибрик А.Е. Конструкции с предикатным актантом в дагестанских (эргативных) языках // Категории глагола и структура предложения. Конструкции с предикатными актантами. Л., 1983.
85. Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке). М., 2001.
86. Кибрик А.Е. Константы и переменные в языке. С-Пб.: Алетейя,
87. Климов Г.А. Введение в кавказское языкознание. М., 1986. Климов Г.А. О позиционных падежах эргативной системы // Вопросы языкознания. 1983. № 4.
88. Климов Г.А. Очерк общей теории эргативности. М., 1973. Климов Г.А. Принципы контенсивной типологии. М., 1983. Климов Г.А. Типологические исследования в СССР (20-40 годы). М., 1981.
89. Климов Г.А. Типология языков активного строя. М., 1977. Климов Г.А., Алексеев М.Е. Типология кавказских языков. М.,1980.
90. Козинский И.Ш. Некоторые грамматические универсалии в подсистемах выражения субъектно-объектных отношений: Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1980а.
91. Козинский И.Ш. Некоторые универсалии, управляющие порядком грамматических единиц, выражающих субъектно-объектные отношения // Исследования по фонологии и грамматике восточных языков. М., 1978.
92. Козинский И.Ш. Некоторые универсальные особенности систем склонения личных местоимений // Теория и типология местоимений. М., 19806.
93. Козинцева Н.А. Рефлексивные глаголы в армянском языке // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. JL, 1981.
94. Комри: Comrie В. Ergativity // Syntactic typology: Studies in the phenomenology of language. Austin, 1978.
95. Костинский Ю.М. Подлежащее в родительном падеже // Русская речь. 1969. № 6.
96. Курбанов А. И. Способы выражения подлежащего в цахурском языке // Учен. зап. ИИЯЛ. Т. 18. Махачкала, 1968.
97. Курбанов А.И. Эргативный падеж и его функции в цахурском языке // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967.
98. Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.
99. Лешка О. К вопросу о категории залога в современном русском литературном языке // Jazykovedny zbornik. Bratislava, 1968.
100. Ломтадзе Э. К историческому взаимоотношению эргатива и ин-струменталиса в хванском (капучино-гунзском) языке // ИКЯ. Т. 4. Тбилиси, 1953.
101. Ломтатидзе КВ. К вопросу о категории залога в абхазском языке // ИКЯ. Т. 8. Тбилиси, 1956.
102. Ломтев Т.П. Принципы построения формулы предложения // НДВШ: Филологические науки. 1969. №5.
103. Магомедбекова З.М. Каузатив в аварско-андийских языках // ИКЯ. Т. 20. Тбилиси, 1978.
104. Магомедов М.И. О категории залога в аварском языке // Вопросы кавказского языкознания. Махачкала, 1997.
105. Магометов А.А. Вопрос о пассивности эргативной конструкции в монографии П.К. Услара "Табасаранский язык" // Вестник отделения общественных наук АН Груз. ССР. Тбилиси. 1960. № 3.
106. Магометов А.А. К вопросу о категории залога в кубачинском диалекте даргинского языка // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. М., 1953. Т. IV.
107. Магометов А.А. Каузатив в лакско-даргинской группе дагестанских языков // Ежегодник иберийски-кавказского языкознания. Тбилиси, 1977. Т. IV.
108. Магометов А.А. Личное спряжение в даргинском языке сравнительно со спряжением в табасаранском и лакском языках // ИКЯ. Т. 13. Тбилиси, 1962.
109. Магометов А.А. Местоименная аффиксация в глаголах табасаранского языка // ИКЯ. Т. 7. Тбилиси, 1955.
110. Магометов А.А. Об одной синтаксической конструкции в даргинском языке (по материалам мегебского диалекта) // Иберийско-кавказское языкознание. Тбилиси, 1973. Т. XVIII.
111. Магометов А.А. П.К. Услар — исследователь дагестанских языков. Махачкала, 1979.
112. Магометов А.А. Система послеложных падежей и превербов в даргинском языке (по диалектным данным) // Система превербов и послелогов в иберийско-кавказских языках. Черкесск, 1983.
113. Магометов А.А. Субъектно-объектное согласование глагола в лакском и даргинском языках // ЕИКЯ. Т. 3. Тбилиси, 1976.
114. Мадиева Г.И. Грамматический очерк бежтинского языка. Махачкала, 1965.
115. Мадиева Г.И. Аварский язык. Часть 2. Синтаксис. Махачкала, 1967.
116. Маллаева З.М. Видо-временая система аварского языка. Махачкала, 1998.
117. Маллаева З.М. Вопросительное наклонение в аварском языке // Материалы Международного симпозиума, посвященного 100-летию А.С. Чикобава. Тбилиси, 1999.
118. Маллаева З.М. Грамматические категории аварского языка. Модальность, залоговость. Махачкала, 2002.
119. Маллаева З.М. Каузативная диатеза аварского языка // Современные проблемы кавказского языкознания и тюркологии. Вып. 2. Махачкала, 2000.
120. Махмудова С.М. Способы выражения субъектно-объектных отношений в рутульском языке: Автореф. дис. канд. филол. наук. Махачкала, 1995.
121. Мейланова У.А. Морфологическая и синтаксическая характеристика падежей лезгинского языка. Махачкала, 1960.
122. Мейланова У.А. О строе глагола в будухском языке // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Тбилиси, 1977. Т. IV.
123. Мейланова У.А. Функции эргативного падежа в лезгинском языке II Труды Ин-та языкознания АН СССР. Т. 3. 1954.
124. Мельчук И.А. О синтаксическом нуле // Типология пассивных конструкций: Диатезы и залоги. JI., 1974.
125. Мельчук И.А., Холодович А.А. К теории грамматического залога: (определение, исчисление) // Народы Азии и Африки. 1970. № 4.
126. Мещанинов И.И. Новое учение о языке: Стадиальная типология. Л., 1936.
127. Мещанинов И.И. Номинативное и эргативное предложения: Типологическое сопоставление структур. М., 1984.
128. Мещанинов И.И. Общее языкознание. К проблеме стадиальности в развитии слова и предложения. JL, 1940.
129. Мещанинов И.И. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
130. Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. Л., 1978.
131. Мещанинов И.И. Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967.
132. Микаилов ДА//. Очерки аварской диалектологии. М.; Л., 1959.
133. Михаилов К.Ш. К генезису -ца — одного из североаварских формантов эргативного падежа // Учен. зап. ИИЯЛ. Т. 18. Махачкала, 1968.
134. Микаилов К.Ш. О маркированном Nominativ'a в староаварском языке // Падежный состав и система склонения в кавказских языках. Махачкала, 1987.
135. Муркелинский Г.Б. О глаголах переходных и непереходных в лакском языке // ЕИКЯ. Т. 4. Тбилиси, 1977.
136. Муркелинский Г.Б. О сложноподчиненном предложении в дагестанских языках // Вопросы описательных грамматик языков Северного Кавказа и Дагестана: Нальчик, 1963.
137. Мусаев М.-С.М. Дательный падеж даргинского языка и его происхождение // Гьалмагъдеш, 1981, № 3 (на дарг. яз.).
138. Мучник И:П. Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке. М., 1971.
139. Недялков В.П. Типология, взаимных конструкций // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. С.-П.,1991.
140. Норман Б.Ю. Переходность, залог, возвратность. Минск, 1972.
141. Нурмагомедов ММ Каузативные глаголы в аварском языке // Тезисы докладов региональной науучной конференции молодых ученых, посвященной гуманитарным исследованиям. Махачкала, 1995.
142. Нурмагомедов М.М. Структура глагола в аварском языке. Махачкала, 2000.
143. Осидзе Э.А. Образование причастия в грузинском языке // Дис-серт. . канд. филол. наук. Тбилиси, 1956 (машинопись, на груз.яз.).
144. Падучева Е.В., Успенский В.А. Подлежащее или сказуемое? // Изв. АН СССР, ОЛЯ. 1979. Т. 38.
145. Панфилов В.3. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971. Панчвидзе В.Н. Глаголы с субъектом в дательном падеже в удин-ском языке//Изв. ИИЯМК. Т. 12, 1942.
146. Панчвидзе В Н. К генезису аккузатива в удинском языке // Изв. ИИЯМК. Т. 5/6, 1940.
147. Полинская М.С. Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков: Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1986.
148. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. III. Харьков,1899.
149. Распопов И.П. Спорные вопросы синтаксиса. Ростов, 1981. Ревзина О.Г., Чанишвили Н.В. О пассивном залоге в грузинском языке // Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978. Русская грамматика. М., 1982. Т.1
150. Савченко А.Н. Происхождение среднего залога в индоевропейском языке. Ростов-на-Дону, 1960.
151. Саидов М.-С.Д. Авар мац1алъул грамматика. К1иабилеб бут1а. Синтаксис. Махачкала, 1939.
152. Саидов М.-С.Д. Развернутые члены предложения в аварском языке // Языки Дагестана. Махачкала, 1954, Вып. II.
153. Саидов М. С. Д. Краткий грамматический очерк аварского языка // Аварско-русский словарь. М., 1967.
154. Саидова П.А. Годоберинский язык. Махачкала, 1973. Саидова П.А. К спряжению глагола в закатальском диалекте аварского языка // Глагол в языках Дагестана. Махачкала, 1980. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. М.-Л., 1934.
155. Сидоров ВН., Ильинская И.С. Изв. АН СССР, ОЛЯ. 1949. Т. 8. Вып. 4.
156. Стеблин-Каменский М.И. Спорное в языкознании. Л., 1974.
157. Степанов Ю. С. Иерархия имен и ранги субъектов // Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1970. Т. 38. № 4.
158. Сулейманов Б.С. О главных членах предложения в современном даргинском литературном языке // Сб. науч. сообщений ДГУ. Махачкала, 1964.
159. Сулейманов Б.С. Синтаксис даргинского языка (Пособие для студентов). Махачкала, 1966 (на дарг. яз.).
160. Табасаранские этюды: Материалы Дагестанской экспедиции. 1979. М., 1982.
161. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., 1988.
162. Тестелец Я.Г. Эргативная конструкция и эргативообразное построение: Автореф. дис.канд. филол. наук. М.,1986.
163. Тестелец Я.Г. Эргативообразные построения в .нахско-дагестанских языках // ВЯ. 1987, № 2.
164. Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л., 1974.
165. Топуриа Г.В. Вопросы морфологии склонения в дагестанских языках//ВЯ, 1987а, № 1.
166. Топуриа Г.В. Морфология склонения в дагестанских языках: Автореф. дисдокт. филол. наук. Тбилиси, 19876.
167. Топуриа Г.В. О взаимоотношении эргативного и местного IV падежей в лезгинском языке // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967.
168. Топуриа Г.В. Об основных принципах становления склонения в иберийско-кавказских языках // Падежный состав и система склонения в кавказских языках. Махачкала, 19 87в.
169. Топуриа Г. В. Эргатив самостоятельный и эргатив совмещающий, их функции в иберийско-кавказских языках // Вопросы синтаксического строя иберийско-кавказских языков: Материалы 4-й регион, сесс. по истор.-сравн. изуч. ибер.-кавк. языков. Нальчик, 1977.
170. Тосов Х.Т., Хутежев З.Г. Порядок слов как способ синтаксической связи в кабардино-черкесском языке // Региональное кавказоведение и тюркология: традиции и современность. Тезисы докладов. Кара-чаевск, 1998.
171. Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. III. Аварский язык. Тифлис, 1889.
172. Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. V. Хюркилинский язык. Тифлис, 1892.
173. Услар Я.А". Этнография Кавказа. Языкознание. IV. Лакский язык. Тифлис, 1890.
174. Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. VI. Кюринский язык. Тифлис, 1896.
175. Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. VII. Табасаранский язык. Тбилиси, 1979.
176. Услар П.К. Этнография Кавказа: Языкознание. II. Чеченский язык. Тифлис, 1888.
177. Успенский В. А. К понятию диатезы // Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977.
178. Успенский Л. Слово о словах. Ты и твое имя. Л., 1962.
179. Хайдаков С. М. Своеобразие эргативной конструкции в лакском языке// ИКЯ. Т. 14, 1964.
180. Хайдаков С. М. Об эргативном падеже в местоимениях дагестанских языков // Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967.
181. Хайдаков С. М. К вопросу о происхождении личного спряжения в дагестанских языках // ВЯ, 1973, № 2.
182. Хайдаков С. М. Матрицы спряжения аффиксов глагола табасаранского, даргинского и лакского языков // ЕИКЯ. Т. I; Тбилиси, 1974.
183. Хайдаков С. М. Система глагола в дагестанских языках. М., 1975.
184. Хайдаков С. М. Дюративное действие и эргативная конструкция (на материале дагестанских языков) // ВЯ, 1980, № 5.
185. Хайдаков С. М. Логическое ударение и членение предложения (дагестанские данные) // Актуальные проблемы дагестанско-нахского языкознания. Махачкала, 1986.
186. Хайдаков С.М. Характер функционирования послелогов, превербов и местных падежей в дагестанских языках // Система превербов и послелогов в иберийско-кавказских языках. Черкесск, 1983.
187. Ханмагомедов Б.Г.-К. К истории образования эргатива в языках восточно-лезгинской группы // Учен. зап. ИИЯЛ. Т. 4. Махачкала, 1958в.
188. Ханмагомедов Б.Г.-К. Образование активного падежа в табасаранском языке // В помощь учителю табасаранского языка. Махачкала, 19586 (на табас. яз.).
189. Ханмагомедов Б.Г.-К. Очерки по синтаксису табасаранского языка. Махачкала, 1970.
190. Ханмагомедов Б.Г.-К. Система склонения табасаранского языка в сравнении с системами склонения лезгинского и агульского языков: Автореф. дис. канд. филол. наук. Махачкала, 1958а.
191. Холодович А. А. Залог: 1. Определение. Исчисление // Категория залога: Материалы конференции. JL, 1970.
192. Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
193. Холодович А.А. Теоретические проблемы реципрока в современном японском языке // Проблемы теории грамматического залога. Д., 1978.
194. Храковский A.A. Miscellanea marginaliaque // Типология пассивных конструкций: Диатезы и залоги. JI., 1974.
195. Храковский А.А. Диатезы и референтность: (К вопросу о соотношении активных, пассивных, рефлексивных и реципрокных конструкций) // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. JI., 1981.
196. Храковский В.С. Залог и рефлексив-// Поблемы теории грамматического залога. JI., 1978.
197. Храковский B.C. Пассивные конструкции // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. С.-П., 1991.
198. Храковский B.C. Пассивные конструкции // Типология пассивных конструкций. JI.,.1974.
199. Церцвадзе И.И. К вопросу об эргативном падеже в лакском языке // ИКЯ. Т. 16. Тбилиси, 1968.
200. Церцвадзе И.И. Об одном форманте эргативного падежа в аварском языке // ИКЯ. Т. 12. Тбилиси, 1962.
201. Чикобава А.С. К вопросу о переходности глагола как морфологической категории в грузинском языке // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Тбилиси, 1977. Т. IV.
202. Чикобава А. С. К вопросу о полиперсонализме в аварском языке в связи с проблемой эргативной конструкции // Изв. ИЯИМК. Т. 10, 1941.
203. Чикобава А.С. Проблема эргативной конструкции в кавказских языках: стабильный и лабильный вариант этой конструкции // Известия
204. Института языка, истории и материальной культуры АН Грузинской ССР. Т. XII. Тбилиси, 1942.
205. Чикобава А.С. Из истории образования эргативного (активного) падежа в аварском языке // Языки Дагестана. Вып. I. Махачкала, 1948а.
206. Чикобава А.С. К истории образования эргатива в аварском языке // ИКЯ. Т. 2. Тбилиси, 19486.
207. Чикобава А.С. К вопросу об историческом взаимоотношении отглагольных имен существительных (масдар) и отглагольных имен прилагательных (причастие) в грузинском языке // ИКЯ. Т. V. Тбилиси, 1953.
208. Чикобава А.С. Основные типы спряжения глаголов и их исторические взаимоотношения в иберийско-кавказских языках. М., 1960.
209. Чикобава А.С. Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках, П; Теории сущности эргативной конструкции. Тбилиси, 1961.
210. Чикобава А. С. Введение в иберийско-кавказское языкознание. Тбилиси, 1979 (на груз.яз.).
211. Чикобава А.С. Введение в иберийско-кавказское языкознание: общие принципы и основные положения // Ежегодник ИКЯ. Т.8. Тбилиси, 1980.
212. Чикобава А.С. Об историческом взаимодействии переходности глагола и категории залога в картвельских языках // ЕИКЯ. Тбилиси, 1981. Т. VIII.
213. Чикобава А.С., Церцвадзе И.И. Аварский язык. Тбилиси, 1962 (на груз.яз.).
214. Шагиров А. К. К проблеме сложноподчиненного предложения в кабардино-черкесском языке // Вопросы описательных грамматик языков Северного Кавказа и Дагестана. Нальчик, 1963.
215. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. JL, 1941.
216. Шейхов Э. М. О формальном выражении переходности глагола в лезгинском языке // Глагол в языках Дагестана. Махачкала, 1980.
217. Шейхов Э. М. К лексико-синтаксической классификации интран-зитивных глаголов лезгинского языка // ЕИКЯ. Т. 10. Тбилиси, 1983а.
218. Шейхов Э. М. Лабильные глаголы и лабильная конструкция предложения в лезгинском языке // ЕИКЯ. Т. 14. Тбилиси, 1987.
219. Шейхов Э.М. Лексико-грамматические классы глаголов в лезгинском языке: Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 19836.
220. Шейхов Э. М. О формальном выражении переходности глагола в лезгинском языке // Глагол в языках Дагестана. Махачкала, 1980.
221. Шейхов Э.М. Проблема аффективной конструкции предложения в лезгинском языке // ЕИКЯ. Т. 13, 1986.
222. Шмалыитиг В. Морфология глагола // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1988. Вып. XXI.
223. Шмелев Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. М., 1976.
224. Шухардт Г. Об активном и пассивном характере переходного глагола // Эргативная конструкция предложения. М., 1950.
225. Щерба Л. В. О второстепенных членах предложения7/ Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. 1. Л., 1958.
226. Эргативная конструкция предложения в языках различных типов (Исследования и материалы). Л., 1967.
227. Эргативная конструкция предложения. М., 1950.
228. Яковлев Н. Ф. Синтаксис чеченского литературного языка. М.; Л.,1940.
229. Ярцева В. Н. О синтаксической роли прямого дополнения в языках разных типов // Члены предложения в языках разных типов. Л., 1972.
230. Яхонтов С.Е. Конструкции, называемые пассивными в китайском языке // Категория залога (материалы конференции). Л.,. 1970.
231. Anderson S.R. On the syntax of ergative languages // Proceedings of Ilth International Congress of Linguists. V. 2. Bologna, 1974.
232. Bechert J. Zu den Teilen des einfachen Satzes im Awarischen // Zeitschrift fur vergleichende Sprachforshung. 85. В, I. H., 1971.
233. Bondarko A.V. On field theory in grammar diathesis and: its field // Linguistics. 1975. Vol.157.
234. Bouda E. Subjekt- und Objektkasus beim awarischen Verbum // Cau-casica. Fasc. 9. Leipzig, 1931.
235. Catford J.C. Ergativity in Caucasian languages // NELS
236. Dirr A. Einfuhrung in das Studium der kaukasischen Sprachen. Leipzig, 1928.
237. Dixon R.M.W. Ergativity // Language. V. 55, 1979, № 1.
238. Ergativity: Towards a theory of grammatical relations. London, 1979.
239. Fillmore Ch. J. Subjects, speakers and roles. -Synthese, 1970, vol. 21.
240. Jakobson R. Shifters, verbal categories and the Russian verb. Cambridge (Mass.), 1957.
241. Khrakovsky V.S. Diathesis//Acta linguistica. 1979. Vol. 29. № 3-4.
242. Kibrik A. E. Canonical ergativity and Daghestanian languages // Ergativity Towards a theory of grammatical relations. L., 1979.
243. Mel.cuk I.A. Grammatical subject and the problem of the ergative construction in Lesgian// Papers in Linguistics. 16, 1983. № 4.
244. Schulze W. Noun classification and ergative construction in the East Caucasian languages // Proceedings of the III Caucasian Colloquium. Oslo. 1985. Oslo, 1986.
245. Swiggers P. Tipological and universal linguistics. Review of : B. Comrie. Language universals and linguistic typology. Syntax and morphology // Lingua. 1984. Vol. 64. № 1.
246. Tchekhoff С. Parataxe et construction ergative, avec examples en avar et tongien // BSLP. 1973, V. 68, fasc. 1.
247. Tchekhoff C. Une langue a construction ergative. L'avar // Linguis-tique. 1972. V. 8, fasc. 2.
248. Tesniere L. Elements de syntaxe structurale. Paris, 1966.
249. Kibrik A.E. Constructions with nlause actants in Daghestanian languages I I Studies in ergativity. Amsterdam, 1987.