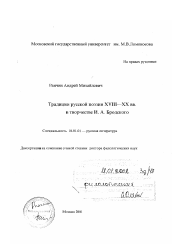автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Традиции русской поэзии ХVIII - ХХ вв. в творчестве И. А. Бродского
Введение диссертации2001 год, автореферат по филологии, Ранчин, Андрей Михайлович
Поэтическое творчество И. А. Бродского —одно из самых значительных явлений русской поэзии второй половины XX века. Оно характеризуется контрастным сочетанием демонстративной традиционности, "вторичности" по отношению к поэтической традиции и антитрадиционализма. Установка на традиционность, на принципы риторической эстетики ("готовое слово") проявляется как в повторяющихся образах и поэтических формулах, так и в подражании стихотворцам прошлых эпох.мление к обновлению традиции выражено в соединении лексики из противоположных стилевых пластов, в сложных метафорических конструкциях, в отличительной для Бродского "поэтике суждений", которой свойственно сочетание квазирациональной афористичности: с ассоциативностью метафорической и метонимической природы.
Один из характерных признаков поэзии Бродского — необычайно значительное число перекличек и реминисценций из стихотворных произведений других авторов, причем эти реминисценции, как правило, указывают на общность образного и мотивного уровней поэтов прежних эпох и современного стихотворца.
Исследование "диалога" Бродского с поэтами минувших времен необходимо для понимания его творчества, места его поэзии в современной литературе. Но анализ связей стихотворений Бродского с русской поэзией XVIII—XX веков способствует также разрешению более общей проблемы — взаимоотношения традиционного и нового в русской поэзии второй половины XX столетия.
В нашей диссертации слово "традиция" употребляется в значении более узком, нежели общераспространенное: это система интертекстуальных связей с литературой предшествующих эпох, присущих тому или иному автору. Такое сужение значения слова "традиция" представляется допустимым, так как эта лексема не является строгим научным термином. Безусловно, в нашем понимании преемственность по отношению к традиции отнюдь не ограничивается цитированием. Автор диссертации, во-первых, рассматривает наиболее значимые реминисценции, ведущие к мотивной структуре текстов и свидетельствующие об определенной общности художественного мира разных поэтов. Во-вторых, значительное число интертекстуальных связей, анализируемых в нашей работе, представляет собой не цитацию, а более сложные случаи взаимосвязи текстов.
Избранный автором диссертации подход в значительной мере основан на методе структурального анализа, разработанного так называемой тартуско-московской школой. Предпочтение, отдаваемое этому методу, связано с тем, что реминисценции из произведений поэтов, цитируемых Бродским, и переклички с их сочинениями рассматриваются как элемент нового целого — структуры того или иного текста и / или творчества Бродского как единого феномена. Вместе с тем, анализируется также место и функция цитируемых Бродским строк или выражений в исходном контексте. Избранный метод анализа, как представляется, позволяет избежать излишнего эмпиризма, приводящего к превращению исследования в регистрацию и анализ разрозненных цитат.
Термины "цитата" и "реминисценция" используются нами как взаимозаменяемые синонимы. Значительная часть отсылок к претекстам в произведениях Бродского принадлежит, по классификации Н. А. Фатеевой, не к цитатам, а к аллюзиям: "В цитате "прежняя предикация лишь восстанавливается в новом тексте, а не рождается заново"1.
В определении цитаты и реминисценции автор диссертации ориентировался на работу 3. Г. Минц "Функции реминисценций в поэтике Ал. Блока"2, имеющую не только конкретный, но и теоретический характер. Цитата понимается нами вслед за этой исследовательницей как знак знака, она обозначает не столько себя саму, сколько свой исходный контекст. По определению 3. Г. Минц, "соотношение планов содержания и выражения в цитате отличается большой сложностью: будучи текстом, цитата имеет оба эти плана, однако как цитата, представляя часть другого текста, она является выражением, а этот текст выступает в роли обозначаемого"3.
Механизм цитаты, сложное соотношение в ней означаемого и означающего адекватнее всего описываются в рамках структурно-семиотического подхода.
В работах, посвященных поэтике реминисценций, встречается разграничение цитаты и заимствования. Вкрапление из "чужого" текста (то есть генетическая цитата), не привносящее его семантики в новый контекст и воспринимающееся в этом новом контексте как исконный элемент, определяется не как цитата, а как заимствование4. Нам это разграничение представляется искусственным: любое заимствование, будучи опознанным как включение "чужого" текста в новый контекст, начинает функционировать как цитата. К поэзии Бродского, которую отличает установка на цитатность (в том числе не дословную), эта оппозиция безусловно неприменима.
Для характеристики более сложных, чем цитация, случаев преемственности поэзии Бродского по отношению к поэтической традиции мы используем понятие "перекличка" и "отголосок", означающие варьирование в творчестве Бродского образа и мотива, восходящих и / или соответствующих образам и мотивам в произведениях поэтов прежних эпох. Для характеристики текста, послужившего источником цитаты или поэтического отклика употребляется термин "претекст", заимствованный из работы И. П. Смирнова5. Поэтика реминисценций Бродского как будто бы подтверждает суждение И. П. Смирнова, что каждому стихотворению должны предшествовать как минимум два претекста. Однако доказать обязательность этого правила для литературы вообще (как полагает И. П. Смирнов) все-таки невозможно: из частных случаев не выводится общеобязательное правило.
Для обозначения всех разнообразных случаев межтекстовых связей употребляются термины "интертекстуальность" и "интертекст". Мы учитываем определение этого термина, принадлежащее Ю. Кристевой, которая и является его создателем: "Понять статус слова значит понять способы сочленения этого слова <.> с другими словами предложения, а затем выявить те же самые функции (отношения) на уровне более крупных синтагматических единиц. В свете такой — пространственной — концепции поэтического функционирования языка необходимо прежде всего определить три измерения текстового пространства, в котором происходит оперирование различными семными комплексами и поэтическими синтагмами. Эти измерения таковы: субъект письма, получатель и внеположные им тексты (три инстанции, пребывающие в состоянии диалога). В этом случае статус слова определяется а) горизонтально (слово в тексте одновременно принадлежит и субъекту письма, и его получателю) и б) вертикально (слово в тексте ориентировано по отношению к совокупности других литературных текстов — более ранних или современных).
Однако сам будучи не чем иным, как дискурсом, получатель также включен в дискурсивный универсум книги. Он, стало быть, сливается с тем другим текстом (другой книгой), по отношению к которой писатель пишет свой собственный текст, так что горизонтальная ось (субъект — получатель) и вертикальная ось (текст — контекст) в конце концов совпадают, обнаруживая главное: всякое слово (текст) есть такое пересечение двух слов (текстов), где можно прочесть по меньшей мере еще одно слово (текст). <.> .Любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-либо другого текста. Тем самым на место понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуальности, и оказывается, что поэтический язык поддается как минимум двойному прочтению"6.
В постструктуралистской концепции текста, одним из сторонников и авторов которой является Ю. Кристева, произведение мыслится не как относительно самостоятельный феномен, отдельный текст, но как подвижный элемент в ряду или потоке других текстов, границы между которыми размыты. Это и есть интертекст. Роль автора произведения в этой концепции редуцирована до минимума или отрицается: тексты и дискурсы существуют сами по себе, перекрещиваются и вступают в диалог, полноправным участником которого становится и читатель.
Это понимание текстов и межтекстовых связей приводит к утрате терминологического значения у такого понятия, как цитата. Свидетельство тому — высказывание другого французского семиолога, Р. Барта, относящееся к постструктуралистскому периоду его деятельности: "Всякий текст есть между-текст по отношению к какому-нибудь другому тексту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, что у текста есть какое-то происхождение; всякие поиски "источников" и "влияний" соответствуют мифу о филиации произведений, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат — из цитат без кавычек"7.
При такой интерпретации активная, творческая роль автора элиминируется, отрицается, а цитата оказывается неотличима от повторяющихся образов и мотивов.
Нам представляется более предпочтительным определение интертекстуальности — "резонантного пространства", принадлежащее В. Н. Топорову, которое не связано с отрицанием роли автора и с отказом от идеи единства текста. "Какой бы ни была "кросс-текстовая связь", она предполагает два или более связываемых текста (экстенсивный аспект) и сами связываемые элементы этих текстов (интенсивный аспект) как нечто особенно ярко отмеченное или, по крайней мере, долженствующее быть таким. Эти элементы представляются связанными друг с другом при том, что они изолированы и в разбираемых здесь случаях, как правило, лишены отсылок к прецеденту (и, значит, указаний на самое связь в эксплицированном виде) лишь в силу того, что они в некотором роде подобны, созвучны друг другу и в плане содержания и в плане выражения настолько, что одно (позднее) естественно трактуется как более или менее точный слепок другого (раннего), "рифменный" отклик, отзыв, эхо, повтор. Именно это, собственно говоря, и вызывает эффект резонанса в том пространстве, которое выстраивается такими "кросс-текстовыми" связями, подкрепляемыми, конечно, и внутритекстовыми связями (самоповторы, авторифмы).
В интертекстуальном пространстве особенно важны те повторы, которые выступают не просто как резонирующая материя, но относятся к "высшим этажам", субъективно окрашены, знаково отмечены, в той или иной степени анонимны (скрытость или затушеванность "перво-адреса"), характеризуются эктропической направленностью"8.
Вместе с тем, не принимая радикальное постструктуралистское осмысление межтекстовых связей, мы не отказываемся от терминов "интертекст" и "интертекстуальность". Эти термины вполне употребимы и при классическом понимании соотношений "текст — текст" и "текст — автор". Оправдывающим примером и образцом для нас послужила трактовка этих понятий О. А. Проскуриным в книге "Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест", освобождающим их от постструктуралистских коннотаций: "Понимание интертекстуальности, имплицированное в настоящую книгу, отлично от господствующих ныне представлений. Там, где постструктуралисты видят мрачную (или, напротив, карнавализованную) драму поглощения субъекта языком, автор склонен видеть чудо превращения "структурного" в индивидуальное, "текстуальности" — в тексты"9.
Изучение пушкинских реминисценций из произведений К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского и других поэтов, предпринятое О. А. Проскуриным, видится нам убедительным примером применимости терминов "интертекст" и "интертекстуальность" вне постструктуралистского исследовательского дискурса.
Отличительная черта интертекстуальности, как неоднократно отмечалось, — "перечитывание", реинтерпретация претекста. "Интертекстуальность не функционирует, и, следовательно, не получает текстуальности, если чтение от Т к Т' [Т — текст, Т' — интертекст. — А.Р.] не проходит через И [интерпретанту. — А.Р.], если интерпретация текста через интертекст не является функцией интерпретанты"10. Как замечает М. Б. Ямпольский, "каждое произведение, выстраивая свое интертекстуальное поле, переструктурирует весь предшествующий культурный фонд"11. С этим утверждением согласна и Н. А. Фаетеева: "интертекстуальность становится механизмом метаязыковой рефлексии", в интертекст позволяет ввести в свой текст некоторую мысль или конкретную форму представления, мысль, объективированную до существования данного текста"12.
Эта характеристика носит достаточно абстрактный характер. В реальности мера "перечитывания", реинтерпретации претектов несходна у разных авторов, в различные эпохи и периоды. У Бродского она весьма значительна.
Детализированная классификация интертекстуальных связей была создана Ж. Женеттом: 1) собственно интертекстуальность (совмещение в одном произведении элементов из как минимум двух текстов — цитаты, аллюзии, плагиат); 2) паратекстуальность (отношение текста к заглавию, послесловию, эпиграфу); 3) метатекстуальность — комментирующая ссылка на претекст; 4) гипертекстуальность (осмеяние, пародирование претекста); 5) архитекстуальность (жанровая связь произведений)13.
Н. А. Фатеева, отметившая схематичность этой классификации, детализировала ее. Примеры интертекстуальных связей в узком смысле слова она разделила на цитаты с атрибуцией (указанием имени автора) и без атрибуции и на аллюзии с атрибуцией и без атрибуции. Примерами паратекстуальности исследовательница назвала цитатные заглавия и эпиграфы. Примеры метатекстов, по Н. А. Фатеевой, — это пересказ или вариации на тему претекста (Н. А. Фатеева предпочитает термин "предтекст"). Характеристики гипертекста и архитекста ("кросс-жанровой игры") ничем не разнится от данных Ж. Женеттом14.
Мы учитываем эти классификации, хотя при анализе стихотворений и поэм Бродского не разграничиваем строго разные типы интертекстуальных связей, так как при реальном функционировании интертекстов эти различия нивелируются. Например, отсылка к конкретному претексту может фунционировать как случай архитекста — указания не на претекст, а на жанр или традицию, к которой принадлежит это произведение.
Автор диссертации не претендует на создание новой, особой теории цитаты или интертекстуальности. Но предпринятая нами классификация различных интертекстуальных связей и видов реминисценций, исследование функций цитат, соотношения повторяющихся, инвариантных образов и поэтических формул с цитатами и автоцитатами имеют, мы полагаем, и определенное теоретическое значение.
Предмет исследования в настоящей диссертации — разнообразные интертекстуальные связи поэзии Бродского с произведениями русских поэтов XVIII — первой трети XX века: А. Д. Кантемира и Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, М. Ю, Лермонтова, В. Ф. Ходасевича, В. В. Маяковского, Велимира Хлебникова. Преимущественное внимание уделяется реминисценциям — как точным цитатам, так и не столь строгим вкраплениям "чужих" текстов в тексты Бродского. Такое предпочтение может показаться неоправданным сужением предмета исследования, и автор рискует навлечь на себя упрек в преувеличенном внимании к частному явлению поэтики. Ответ на возможные претензии, как нам представляется, — слова В. Э. Вацуро, замечательного исследователя, емко выразившего мысль о значимости анализа реминисценций: "Культура коллективна по самому своему существу, и каждая культурная эпоха — непрерывный процесс взаимодействия творческих усилий ее больших и малых деятелей, процесс миграции идей, поэтических тем и образов, заимствований и переосмыслений, усвоения и отторжения. Это многоголосие — форма и норма ее существования. Творчество гения вырастает на таком полифоническом субстрате; оно усваивает себе, интегрирует, преобразует чужие идеи и образы <.> и потому, например, установление реминисценций и даже цитат из чужих стихов у Пушкина и Лермонтова <.> вовсе не бесплодное занятие. Цитата, реминисценция может функционировать в тексте как "чужое слово" и менять в нем акценты, может дать нам материал для наблюдений над технологией поэтической работы, — наконец, она наглядно показывает нам связи великого поэта с традицией и плотность поэтической Среды, из которой он вырос"15.
Отдельные реминисценции из текстов русских поэтов в творчестве Бродского анализируются нами не изолированно, а в их семантическом соотношении с инвариантными мотивами, повторяющимися образами и поэтическими формулами, присущими автору. Анализ цитации служит отправной точкой для исследования глубинных структур поэзии Бродского. Особенное внимание обращено также на варьирование одних и тех же реминисценций, образующий единый текстовой пласт в различных сочинениях Бродского.
Помимо аналитической цели наша диссертация в известной мере претендует и на роль каталога, словаря реминисценций. Реминисценции из произведений поэтов, которым посвящены отдельные главы книги, учтены по возможности максимально полно. Исключение — Пушкин, цитируемый Бродским чрезвычайно часто.
Новизна диссертации определяется прежде всего поставленной задачей: несмотря на весьма объемную литературу о русском поэте — Нобелевском лауреате как в России, так и на Западе, интертекстуальные связи стихотворений Бродского не служили прежде предметом самостоятельного исследования. Достаточно полно исследованы лишь реминисценции и переклички поэзии Бродского с лирикой Е. А. Баратынского16, со стихотворениями О. Э. Мандельштама17 и Б. Л. Пастернака18. Существует специальное исследование по теме "Бродский и Анна Ахматова"19. Относительно полная изученность этих цитат и перекличек позволяет нам отказаться от специальных разборов, посвященных поэтическому диалогу Бродского с Баратынским, Мандельштамом, Пастернаком и Анной Ахматовой. Вместе с тем, некоторые вновь обнаруженные реминисценции в диссертации рассматриваются: в первой главе "Очерк поэтики Иосифа Бродского", анализируются они и в главах о Бродском и поэтах минувших эпох (А. Д. Кантемире и Г. Р. Державине, А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, В. Ф. Ходасевиче, В. В. Маяковском и Велимире Хлебникове) в том случае, если сплетены с цитатами из текстов этих стихотворцев. В сходных случаях автор диссертации также учитывал и анализировал реминисценции из произведений К. Н. Батюшкова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. Ф. Анненского, А. А. Блока, Н. А. Заболоцкого, А. А. Тарковского и некоторых других авторов XIX и XX веков.
Мы намеренно отказались от отдельной главы о традиции поэзии М. И. Цветаевой у Бродского. Несмотря на исключительно высокую оценку Бродским цветаевского поэтического дара и на определенное сходство инвариантных мотивов, свойственных обоим авторам, цветаевское творчество, по-видимому, не является одним из особенно значимых предметов для отклика и цитирования. По крайней мере, предварительные наблюдения укрепили нас в этой мысли. Особый вопрос — преемственность Бродского по отношению к Цветаевой на ритмико-интонационном уровне. Стиховедческая проблематика не входила в задачи нашей работы.
При сопоставлении стихотворных сочинений Бродского со стихотворениями других русских поэтов литературоведы обыкновенно ограничивались либо анализом одного текста Бродского и его перекличек с произведениями других стихотворцев, либо изучением одного мотива или образа, встречающегося у
Бродского и восходящего к творчеству этих поэтов. Попытки обобщающих характеристик соотношения стихотворений Бродского и стихотворений, созданных авторами предыдущего времени, имели довольно часто малосодержательный характер.
Наиболее подробно исследованы переклички с поэзией Кантемира и Державина в стихотворениях Бродского "К стихам моим" (подражании кантемировскому посланию "К стихам") и "На смерть Жукова" (подражании державинскому "Снигирю"). М. Крепе, сопоставив стихотворение "К стихам моим" со стихотворным письмом Кантемира "К стихам", отметил, что в тексте Бродского "оптимистически звучит уверенность в бессмертии его поэтического дара — тема горациевского памятника <.>"20. М. Крепе отметил также и большую активность у Бродского по сравнению с произведением Кантемира стихов как автономных, независимых от творца живых существ: стихи обращаются к поэту с речью. Исследователь связал эти отличия с инвариантным мотивом творчества Бродского — языка как независимого от поэта креативного начала.
Интерпретация М. Крепсом стихотворения "На смерть Жукова" в соотношении с образцом — "Снигирем" Державина — содержит очевидные неверные суждения: исследователь утверждает, что Бродский в отличие от автора "Снигиря" приписывает полководцу грех убийства, указывая на его встречу с солдатами в аду (так истолковывается выражение "в области адской")21.
Другая интерпретация этого стихотворения Бродского принадлежит Вяч. Вс. Иванову. Вяч. Вс. Иванов полагает, что Бродский, приверженный классицистскому пуризму, в противоположность Державину, избегает просторечий, разговорных, "низких" слов22. Однако на самом деле Бродский, так же как и автор "Снигиря", прибегает к прозаизмам и разговорным речевым оборотам; отличие заключается в том, что у Бродского слова разной стилевой окраски не противопоставлены друг другу, в то время как Державин обыгрывает стилевые диссонансы.
Интересные наблюдения над стихотворением "На смерть Жукова" принадлежат Дж.Клайну, который отметил, что, подражая державинскому "Снигирю", Бродский включил в свой текст отсутствовавшие в "Снигире" мотивы изгнанничества (ссылка Жукова) и тождества судеб полководца и поэта перед лицом вечности23. Сопоставление ритмики и стилистики стихотворений Державина и Бродского предпринял М. Ю. Лотман24.
Перечисленными работами практически исчерпывается литература, посвященная теме "Бродский и русская поэзия XVIII века". Между тем, интертекстуальные связи поэзии Бродского со стихотворениями Державина намного более разветвленные и интенсивные, чем отмечалось. Реминисценции из державинских сочинений и восходящие к ним образы и мотивы встречаются во многих поэтических текстах Бродского. Эти особенный интерес и любовь современного автора к творениям стихотворцев XVIII столетий до сих пор не были объяснены с необходимой полнотой.
В многочисленных литературно-критических статьях и исследованиях сопоставляется творчество Бродского и А. С. Пушкина25. О сходстве поэтики Бродского и Пушкина наиболее настойчиво писал В. Сайтанов26; общими чертами он считает установку на многостороннее, полное описание бытия, на равное внимание ко всем деталям вещественного мира. Эти сближения вызвали ироническую реплику Александра Кушнера, подметившего необязательность и некоторую претенциозность рассуждении на тему — Бродский и Пушкин — Р Язвительно отреагировал на эти рассуждения и Анатолий Найман: "<.> не Пушкин как таковой был целью проведения параллелей, а чертеж того, что в представлении людей есть великий поэт, — чертеж, на который в России раз навсегда перенесены грубо контуры Пушкина"28. Несомненно, поэтический мир Пушкина безмерно удален от поэзии Бродского. Как отмечал М. О. Гершензон, — основной догмат Пушкина <.> есть уверенность, что бытие является в двух видах: как полнота и как <.> ущербность — ; причем полнота у Пушкина, — как внутренне насыщенная, пребывает в невозмутимом покое — ; в его поэзии — есть покой глубокий, полный силы, чуждый всякого движения вовне <.>. Он изображал, совершенство <.> бесстрастным, пассивным, неподвижным <.,.> — .29 Устоявшееся мнение о природе пушкинского творчества отчетливо отразил А. И. Солженицын: "Самое высокое достижение и наследие нам от Пушкина — не какое отдельное его произведение, ни даже лёгкость его поэзии непревзойденная, ни даже глубина его народности, так поразившая Достоевского. Но — его способность <.> всё сказать, всё показываемое видеть, осветляя его. Всем событиям, лицам и чувствам, и особенно боли, скорби, сообщая и свет внутренний, и свет осеняющий, — и читатель возвышается до ощущения того, что глубже и выше этих событий, этих лиц, этих чувств. Ёмкость его мироощущения, гармоничная цельность, в которой уравновешены все стороны бытия: через изведанные им, живо ощущаемые толщи мирового трагизма — всплытие в слой покоя, примирённости и света. Горе и горечь осветляются высшим пониманием, печаль смягчена примирением"30.
Поэтический мир Бродского строится на совершенно иных основах. Его инвариантная тема — отчуждение — Я — от мира, от вещного бытия и от самого себя, от своего дара, от слова. Неизменные атрибуты этой темы — время и пространство как модусы бытия и постоянный предмет рефлексии лирического — Я — .31 Бродскому чужды такие характерные для поэзии Пушкина инвариантные темы, как изменчивость бытия, бегство из мира бытия в мир — вечности — , мотивы безумия/вдохновения,32 — превосходительного покоя — .33 Ему не свойственно романтическое двоемирие, значимое для Пушкина, бытие в стихах Бродского нимало не напоминает пушкинский гармонический космос, а вечность почти всегда обладает устойчивыми пейоративными коннотациями. Деталь, вещь у Бродского сохраняют свою предметность, одновременно приобретая метафизическое измерение, становясь вещью вообще, знаком материи, воплощением времени и т. д. Вопреки утверждениям В. Сайтанова, предметный мир Бродского (близкий к поэтике детали у акмеистов и у Цветаевой) в целом максимально далек от пушкинского.
Лев Лосев справедливо напомнил, что и Пушкин, и Бродский подводят итог поэтической традиции, переосмысляют ее. И одновременно оба как бы намечают ее новые пути. Творчество Пушкина как квинтэссенция русской поэзии не может не быть ориентиром для Бродского, не может не быть интертекстуальным фоном его поэзии. Бродский, осознающий себя — последним поэтом — и хранителем культурной традиции, а свое поколение — последним поколением, живущим культурными ценностями,34 естественно, не может не вступить в диалог с первым русским поэтом. Его роднит с Пушкиным и своеобразный протеизм, способность осваивать, перевоплощаясь, самые разные поэтические формы. У обоих поэтов подчинение правилам жанра и риторики приобретает значение свободного выбора, перестает быть простым следованием заданным канонам. Эта близость к Пушкину, общность поэтических установок ни в коей мере не противоречат ориентированности поэзии Бродского на других блистательных стихотворцев пушкинского времени, например на Баратынского. Преемственность по отношению к Пушкину проявляется у
Бродского в интертекстуальных связях, в цитатах. Она интенсивна в стихотворениях, имеющих метаописательный и итоговый характер. Реминисценции из пушкинских текстов в поэзии Бродского пока что выявлены далеко не в полном объеме и в большинстве своем не проанализированы. Исключение — детальный анализ цитаты из "Я вас любил; любовь еще, быть может." в "Двадцати сонетах к Марии Стюарт" Бродского, принадлежащий А. К. Жолковскому35, и обзор ряда реминисценций из пушкинских стихотворений у Бродского, сделанный И. И. Ковалевой и А. В. Нестеровым36. А. К. Жолковский на примере проанализированной реминисценции охарактеризовал общее отношение Бродского к классической традиции как иронически-серьезную игру и травестию. Это мнение оспорил Л. М. Баткин37.
Между тем, реминисценции из пушкинских текстов образуют в поэзии Бродского достаточно сложную систему.
В творчестве Бродского прослеживаются несколько "поэтических сюжетов", "поэтических мифов" (если воспользоваться выражением Р. О. Якобсона о "скульптурном мифе" Пушкина), восходящих к пушкинским текстам: это мотив "творческой осени" (источник — "Осень" и ряд других стихотворений Пушкина); мотив гонимого одинокого человека, противопоставленного губительной власти и образ статуи властителя (трансформированный сюжет "Медного Всадника"); мотив поэта-пророка, воплощенный в реминисценциях из одноименного стихотворения Пушкина; радикально переосмысленный горациевско-пушкинский мотив бессмертия поэта, символизируемого воображаемым памятником (пушкинский претекст — "Я памятник себе воздвиг нерукотворный."). Эти сквозные мотивы поэзии Бродского детально не анализировались. Единственное исключение — содержательная работа С. Ю. Кузнецова "Пушкинские контексты в поэзии Иосифа Бродского"38, в которой содержатся ценные наблюдения, в частности, отмечена полемика с пушкинской трактовкой пророческого служения поэта. Бродский, как показывает С. Ю. Кузнецов, пишет об абсолютном одиночестве поэта, отрицающего пророческую миссию.
Трансформация пушкинского "скульптурного мифа" в поэзии Бродского была точно и глубоко охарактеризована в статье В. В. Юхта. Исследователь показал, что в отличие от Пушкина Бродский изображает не оживающую статую, а противоположное событие — омертвение человека, превращающегося в мрамор39.
Противоречивы высказывания исследователей, посвященные восприятию Бродским поэзии М. Ю. Лермонтова. С одной стороны, настойчиво подчеркивается несхожесть поэтического мира и лирического "Я" в творчестве Нобелевского лауреата и автора "Паруса" и "Думы". Наиболее отчетливо и настойчиво об этом пишет Дж. Нокс: "По духу и мировоззрению Бродский ближе всего к поэтам XVIII века, в частности к Г. Р. Державину. Зато романтический характер поэтов Пушкинской плеяды и характер русского Байрона XIX века Михаила Лермонтова резко противопоставляются внутреннему психологическому состоянию молодого Бродского 50-х и 60-х годов послесталинской эры. Мечты, искание "прекрасного и высокого", преувеличенное представление о самом себе как о центре вселенной, крайняя гордыня, самолюбие, пылающее сердце, — главные черты лирических персонажей стихотворений романтических поэтов, — вызывают у Бродского ироническую реакцию уже в самом начале его творчества"40. Подтверждая эту мысль, исследовательница анализирует раннее стихотворение Бродского, "Балладу о Лермонтове".
Дж. Нокс противопоставляет отношения "Я — Бог" у Лермонтова и Бродского: "В нашу эпоху отношение "Поэт — уста
Бога" воспринимается как претенциозное, как претензия на богоизбранность и близость к Богу, претензия на фамильярные, личные отношения с Богом. Сталкиваясь с этим отношением, Бродский пронзительно чувствует бренность человека и поэтому не может принять даже сравнения Поэта и Бога. Бродский быстро выпускает "воздух" из образа романтического "героя": "Поэт — глас Божий". Полемика или диалог Бродского с этой позицией становится яснее в более позднем стихотворении "Разговор с небожителем", написанном им в 1970 году. Тут Бог, к которому приходит Бродский, не тот, который дан Пушкину и Лермонтову, а уже Бог от культуры, от размышлений над прочитанным, уже результат противопоставления Бога вечного, непостижимого, всемогущего — с одной стороны, и себя, смертного, — с другой. Отсюда смиренность, "чувство дистанции" и — недоверие и презрение к самовлюбленности, к самолюбованию. Тут мы ощущаем двухголосие лирического поэта нашей эпохи, который одновременно заявляет о своем богоданном даре и смотрит на самого себя сверху вниз, как на простого смертного"41.
Мнение о не- и даже антиромантической природе поэзии Бродского выразила также и В. П. Полухина, приведя ряд примеров из стихотворений и прозаических текстов Нобелевского лауреата: " <.> Устойчивая тенденция в изображении лирической персоны демонстрирует отказ Бродского от того романтического образа поэта, каким он предстает перед нами на протяжении веков. <.> Быть убедительным, нейтральным и объективным — один из эстетических принципов Бродского. В описании автопортрета этот принцип реализуется не только системой снижений, которая сама по себе заслуживает более глубокого изучения, но и, как заметил Лев Лосев, "подчеркнуто объективными словообразами", ведущим из которых является "человек". <.>
Такая универсализация "я" не через "мы", а через полное отождествление с человеком вообще обретает качество архетипа и свидетельствует о том, что Бродский нашел давно искомое средство объективизации своей личности. <.> Многие автоописания построены на устойчивом слиянии безвидности, анонимности человека и конкретной прозаической детали, иногда нарочито грубой <.>. Показателен и тусклый, бесцветный словарь, выбранный для описания ситуаций, в которых находится этот безымянный, заурядный человек"42.
Полностью противоположное мнение было высказано Александром Кушнером: "Поэт, по Бродскому, — человек, противостоящий "толпе" и мирозданию. В поэзии Бродского просматривается лирический герой, читатель следит за его судьбой, любуется им и ужасается тому, что с ним происходит. С этим, как всегда, связано представление о ценностях: они усматриваются не в жизни, а может быть в душе поэта. С земными "ценностями" дело обстоит неважно. Оттого и вульгаризмы, грубость, соседство высокого и низкого, чересполосица белого и черного.
Бродский — наследник байронического сознания. Любимый его поэт в XX веке не Анненский, не Мандельштам, а Цветаева! "43. О романтическом характере лирики Бродского и реального поведения автора пишет и С. Гандлевский: "Жесткое требование жить "как пишешь" и писать "как живешь" налагает на автора обязательство соблюдать подвижное равновесие между собой-прототипом и собственным запечатленным образом. "Отсюда следует, что прием переносится в жизнь, что развивается не мастерство, а душа, что, в конце концов, это одно и то же" (И. Бродский). Автор старается вести себя так, чтобы не бросать тень на лирического героя, а тот, в свою очередь, оставляет автору хотя бы теоретическую возможность отождествиться с вымыслом. В этих драматических взаимоотношениях сочинителя и сочинения — особая прелесть романтической поэзии: кто кого?
Искусство поведения становится самостоятельной артистической дисциплиной. <.>
Иосиф Бродский являет собой совершенный — под стать лорду Байрону — образец романтической соразмерности автора лирическому герою. <.>
Мужественной верой в свою звезду можно объяснить нерасчетливые до отваги поступки молодого Бродского (брошенную в одночасье школу, работу в экспедициях, знаменитую отсылку к Божьему промыслу в советском нарсуде). Поэтам последующих поколений подобная самостоятельность давалась меньшей ценой: уже был уклад асоциального поведения, традиция отщепенства. Порывавший с одним обществом вскоре примыкал к другому, немногочисленному, но сплоченному. В пятидесятые годы, насколько мне известно, поведение Бродского было новостью и требовало большей решительности.
Чувство поэтической правоты, ощущение избранности, воля к величию, скорее всего, укрепились после знакомства с Анной Ахматовой"44.
Я. А. Гордин привел перечень отнюдь не иронических и не пародических цитат из Лермонтова у раннего Бродского, а также провел убедительную параллель между лермонтовскими стихотворением "Тучи" и поэмой "Демон" и "Облаками" (1989) Бродского. Он также обратил внимание на глубоко личностное, родственно-интимное отношение Бродского к Лермонтову, выраженное в раннем стихотворении "Стансы городу"45.
Почти не исследованы интертекстуальные связи поэзии Бродского и Ходасевича. Одно из редких исключений — проанализированный М. Безродным ходасевичевский подтекст в цикле "Двадцать сонетов к Марии Стюарт" — стихотворение Ходасевича "Нет, не шотландской королевой."46.
Примерно такая же ситуация сложилась и в изучении тем "Бродский и Маяковский" и "Бродский и Велимир Хлебников". Среди немногих работ о поэзии Бродского и Маяковского необходимо отметить стиховедческое исследование М. Л. Гаспарова. Как показал М. Л. Гаспаров, по характеру рифм из русских поэтов XX века Бродскому ближе всех Маяковский47.
О сходстве Бродского и Маяковского как "риторических" и "неискренних" поэтов писал Ю. Карабчиевский в знаменитой и по-своему замечательной пристрастно-недоброжелательной книге о Маяковском, однако эта характеристика —эмоциональная и эссеистская и не поддается научной проверке. Он указал на сходство поэтики "Стихов под эпиграфом" раннего Бродского и "Нашего марша" Маяковского, но не проанализировал эту параллель48.
Ряд разрозненных, но ценных наблюдений над отдельными перекличками содержится в книгах М. Крепса49, В. П. Полухиной50, Л. М. Баткина51, Н. И. Стрижевской52, в сборниках, посвященных творчеству Бродского53.
Более общая проблема же соотношения поэзии Бродского с русской классической традицией почти не затрагивалась: отдельные важные замечания принадлежат Г. А. Левинтону54, справедливая, но несколько односторонняя мысль о Бродском как об отрицателе "возвышающего обмана", присущего русской классической поэзии, и как о продолжателе аналитической поэтики в духе Баратынского и Ходасевича высказана И. Е. Винокуровой55.
К сожалению, эти интересные и претендующие на статус бесспорности наблюдения делаются на весьма ограниченном материале.
Установка Бродского на варьирование текстов-образцов и "цитатность" неоднократно указывались исследователями как одна из особенностей, свидетельствующих о постмодернистском характере его произведений. К некоему "высокому" постмодернизму причисляет творчество Бродского Л. М. Баткин56. Сходная мысль высказана А. А. Фокиным57. Анализируя "идиориторику" поэта, С. Н. Зотов указывает на ее сходство с постмодернистской, хотя и делает оговорку, отмечая преимущественно неоавангардистский характер творчества Бродского в целом58. Постмодернистом называет Бродского В. П. Полухина59.
На наш взгляд, поэзия Бродского не является постмодернистской в строгом смысле слова, и утверждение о Бродском как постмодернисте недостаточно подкреплено анализом его произведений.
Именно существующее состояние изучения интертекстуальных связей поэзии Бродского определяет новизну предпринятого нами исследования.
В диссертации ссылки на сочинения Бродского, Лермонтова и Пушкина даются в основном тексте. Тексты Бродского в абсолютном большинстве случаев цитируются по первому изданию сочинений, напечатанному "Пушкинским фондом" и издательством "Третья волна": Бродский И. А. Сочинения: В 4 т. Сост. Г. Ф. Комаров. СПб., — Париж — М., — Нью-Йорк, 1992—1995. Том указывается в тексте римской цифрой, страницы — арабской. Тексты, не вошедшие в это издание, цитируются как правило по второму изданию сочинений, выпущенному "Пушкинским фондом":
Бродский И. А. Сочинения. Сост. Г. Ф. Комаров. СПб., 1997— (в 1997—2000 гг. вышло 6 томов). По этому изданию цитируются некоторые стихотворения и эссе, включенные в 4-ый и 5-ый тома. Том также указывается римской цифрой, страницы — арабской. Для отличения отсылок на разные издания при цитировании 4-го т. первого издания после указания номера тома в скобках ставится арабская цифра 1, при цитировании 4-го и 5-го томов второго издания после указания номера тома ставится цифра 2. Например: IV (1); 115 или IV (2); 115.
Тексты А. С. Пушкина цитируются по изданию: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Изд. 4-е. Текст проверен и примечания составлены проф. Б. В. Томашевским. Л., 1977—1979.
Тексты М. Ю. Лермонтова цитируются по изданию: Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений [В 4 т.]. Под наблюдением И. Л. Андроникова. М., 1953.
Отсылки к этим изданиям оформляются также, как и отсылки к сочинениям Бродского: том и страницы указываются в тексте; римская цифра обозначает том, арабская — страницы.
При цитировании стихотворных текстов без сохранения разбивки на строки граница между строками обозначается знаком "/", граница между строфами — знаком "//". При цитировании текстов Маяковского, написанных "лесенкой", знаком "/" обозначается граница между "ступеньками" "лесенки", знаком "//" — граница между строками.