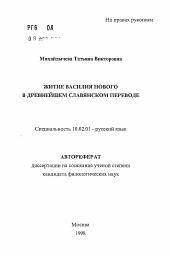автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.01
диссертация на тему: Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе
Полный текст автореферата диссертации по теме "Житие Василия Нового в древнейшем славянском переводе"
РГ6 од
О Я его
На правах рукописи
Михайлычева Татьяна Викторовна
ЖИТИЕ ВАСИЛИЯ НОВОГО В ДРЕВНЕЙШЕМ СЛАВЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ
Специальность 10.02.01 - русский язык
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Москва 1998
Работа выполнена на кафедре русского языка филологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Научный руководитель: доктор филологических наук
А.М. Молдован
Официальные оппоненты: доктор филологических, наук
А.Ф. Журавлев
кандидат филологических наук Н.В. Васильева
Ведущая организация:
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Защита состоится
((
Сил-л 1998 года на заседании
диссертационного совета К-053.05.37 при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
Адрес: 119899, ГСП, Москва, В-234, Воробьевы горы, МГУ, 1-й корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке филологического факультета.
Автореферат разослан с&Ц 1998 года
Ученый секретарь диссертационного совета доктор филологических на
Е.В. Клобуков
Для адекватного представления истории
церковнославянского языка в том или ином его изводе исследователь должен обращаться ко всей совокупности письменных памятников, имевших хождение на данной территории. Подавляющее большинство текстов, относящихся к древнейшей части письменного фонда восточных славян, составляют переводные памятники различного происхождения. Поэтому для истории русского литературного языка важнейшей источниковедческой задачей является определение места, где был выполнен перевод, и времени его создания.
Ввиду отсутствия надежных исторических свидетельств, исследователи обращаются к собственно лингвистическим критериям, применение которых позволило бы отличить переводы, выполненные в Древней Руси, от инославянских. В работе А.И. Соболевского "Особенности русских переводов домонгольского периода" впервые было указано на ненадежность фонетико-орфографических и морфологических данных рукописей и сделан вывод о том, что при локализации переводов следует руководствоваться словарными данными, реже менявшимися в процессе переписки. Используя лексический критерий, он указал 34 памятника, переведенных, по его мнению, в домонгольский период1.
Эта работа получила большой резонанс. У взглядов А.И. Соболевского появились сторонники и противники, считающие, что региональная лексика могла вводиться в текст произведения при его копировании. Поэтому важным аспектом рассматриваемой проблемы становится определение отношения региональных слов к аутентичной лексике перевода.
Соболевский А.И. Особенности русских переводов домонгольского периода // Соболевский А.И. История русского литературного языка. Издание подготовил А.А. Алексеев. Л., 1980,с. 134-147.
Поскольку отдельные списки текста, в которых зафиксированы те или иные лексические единицы, не могут порознь служить основанием для их локализации и датировки, современные исследователи этой проблемы выдвигают в качестве условия корректности лингвистического анализа перевода текстологическое исследование всех его списков, что позволяет отделить в произведении лексику, относящуюся к его архетипу от позднейших напластований2.
Обращение в рамках этой проблемы к древнейшему переводу Жития Василия Нового (далее ЖВН) вызвано необходимостью расширения ее источниковедческой базы за счет прежде всего разнообразных по содержанию и значительных по объему произведений (текст полных списков древнейшего перевода ЖВН превышает 200 л.).
Важность древнейшего перевода ЖВН для изучения старшего периода истории русского литературного языка обусловливает интерес к лингвистическим данным этого памятника.
Нерешенностью вопроса, связанного с местом перевода ЖВН, отсутствием текстологического анализа списков памятника и неизученностью его лексических и синтаксических данных обусловлена актуальность темы предлагаемой диссертации.
Цели и задачи исследования. Целью работы является локализация древнейшего славянского перевода ЖВН на основании изучения его рукописной традиции, текстологических особенностей списков, лексических и синтаксических данных, описание особенностей языка этого перевода ЖВН путем его сопоставления с
См. об этом: Алексеев A.A. Цели и методы текстологического исследования лингвистических источников XI-XVII вв. // Русистика сегодня. М.. 1988, с. 195-209; Пичхадзе A.A. К истории славянского Паримейника // Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян.М., 1991; Молдован A.M. "Житие Андрея Юродивого" в славянской письменности. Дис. на соиск. уч. ст. докт. фил. наук. М., 1994.
другими переводами и оригинальными сочинениями Х1-ХП вв. и более поздним вторым переводом этого памятника.
Основным методом исследования является филологический метод, включающий в себя археографическое изучение источников и лннгвотекстологический анализ текста в сопоставлении с текстом оригинала.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключается в том, что лекажа древнейшего перевода ЖВН подвергается системному анализу с точки зрения ее регионального распределения. В научный оборот вводятся данные Егоровского списка древнейшего перевода ЖВН XV в. - старейшего из известных в настоящее время полных списков древнейшего перевода ЖВН.
Практическая ценность исследования заключается в том, что его материалы и результаты могут быть использованы при разработке лекционных и практических курсов по истории русского литературного языка, при подготовке издания текста древнейшего перевода ЖВН. В связи с введением в научный оборот списка древнейшего перевода XV в. лексические данные этого памятника могут быть более полно отражены составителями словарей церковнославянского языка.
Материалом для исследования послужили полные списки древнейшего перевода ЖВН, греческий текст памятника, списки Пролога, содержащие статьи о Василии Новом. К работе был привлечен также материал второго славянского перевода ЖВН и ряда других оригинальных и переводных сочинений Х1-ХП вв.
Апробация работы. Положения предлагаемого исследования докладывались на заседании аспирантского объединения кафедры русского языка (январь 1995 г.). Диссертация обсуждалась на
заседании кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (ноябрь 1997 г.).
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического раздела и приложения.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Во Введении к работе обосновывается актуальность темы. Определяются предмет, цель и задачи исследования, характеризуются метод, теоретическая и практическая значимость работы.
Важность ЖВН для истории литературного языка определяется тем местом, которое занимала в средневековом сознашш представленная в нем эсхатологическая тематика. О значимости древнейшего перевода ЖВН в средневековой Руси свидетельствует его ранее включение в состав других произведений, возникших на русской почве (в Повесть временных лет и Пролог), а также, несколько веков спустя, в такой авторитетный свод "всех чтомых на Руси книг", как Великие Минеи Четьи митрополита Макария. Между тем в научной практике этому переводу не уделялось должного внимания, о чем свидетельствует тот факт, что его лексические данные, относящиеся к древнейшему пласту церковнославянской лексики, лишь спорадически отражены в существующих словарях церковнославянского языка.
Между тем включение словарных данных древнейшего перевода ЖВН в научный оборот позволяет существенно дополнить имеющийся лексический материал церковнославянского языка раннего периода и, в частности, вывести ряд слов, известных по другим памятникам, из разряда гапаксов. Так, сущ. отродт* (?) 'освещенное солнцем место, портик, балкон' (?), отсутствующее в словаре И.И. Срезневского, зафиксировано, по данным "Словаря
русского языка XI-XVII в.", только в древнерусском переводе ЖАЮ: кидашс ч(сУтьнын Епифлнт» нд ССрод'Ьх'ь стога, с&ш,нн (в ркп. СЙЦН\и) к*ь в*ьсток^ ложннцн его, стго \хца дшю С174об., ¿V ты ^Хкххй есгтш; ты тсро? ауатоХа? тхрхт-~ той хситйуо? сштоо 192у. Однако оно обнаруживается и в древнейшем переводе ЖВН: н сс... чертозн и
и>ЕНТ£ЛШЦА И ЛОЖИНЦЛ СТрлННЫ И СТрАШНЫ... ВТЬДАЛ* ЧЮДНЫХТ» Т^Х1» ПОЛЛТЪ... И СЕ Е*Ь тНзХЪ ПОЛЛТЛХТ» вноутрь ВТ. ВХОД'Ь и кт» иггрод-Ьх*1» их*ь и в"ь тмдхт» «хъ ^дрн бж(с)тв<нш и постели и столн и покоищд (184 в) ср.: - ш1 ¡Оои... мхи, шХахчх, 6аХацо1, хентаоуа;, {каахтр'.я, ейхтт^ркх, уао1.. ££уо1 хоа срр1Хсо8£<гсато1... хос1 18ои Ь аитаТ? ха.Ъ; а.1ыч!,а<; |л.смси:; эмЛ хатсххСоа? тйу аушч х\Ъ<х\ ха! ё'.афоро'. хои 8рбуен (Вес., 160). Между прочим, наличие в этих двух переводах подобных достаточно редких слов может свидетельствовать, в частности, о том, что они были выполнены в одно время.
В главе I даются общие сведения об авторе Жития, времени создания текста, особенностях его жанра, о греческих списках Жития. Из 35 известных греческих рукописей Жития 22 написаны на литературном языке и разделяются на 5 редакций, первая из которых представляет собой наиболее полную форму текста, близкую к архетипу3.
В основе древнейшего славянского перевода ЖВН лежит греческий текст, относящийся к первой редакции. Однако ни один из имеющихся греческих списков этой редакции ЖВН не совпадает полностью с текстом древнейшего славянского перевода. В некоторых случаях расхождения могут быть обусловлены особенностями переводческой техники ЖВН. Произведение легко разделяется на
Хрюнуос Г. А*г7е)лН>1. О той ВскяХеои той N£00, Вюстрфт} е.гл В^ахюркх. 1соаууо'а> 1980.
отдельные эпизоды, по сути, представляющие собой самостоятельные рассказы с законченным сюжетом. Неоднородность жанровой ориентации различных частей ЖВН ощущалась уже древнейшими его переводчиками. Ориентация на разные жанровые образцы в пределах одного памятника должна была вызвать применение различных переводческих приемов (сочетание пословного перевода с семантическим, или пофразовым, что открывает возможности для опосредованного отражения в переводе синтаксических и иных особенностей живого языка переводчика).
Некоторые особенности славянского перевода, в частности, касающиеся употребления в нем фразеологических сочетаний, указывают на применение переводчиком пофразового принципа перевода, где единицей перевода выступает словосочетание в целом: роты д'ьла юже сьтворишл к"ь до^'ц'ь тгьгдл. о^керднлъ КО ваше ихгь дoYкc^к. ал никто же возметь р#кы на хРестьанина нл рАкнок'ЬрнАго (11 г) - В'.ос тоу архоу оу со[лоо£\> аи'сн^ о Дои?, ¿вфаХюацыю; аитгои? ij.fi о с. Ту теТуд1. РеХо; хата ХР10'10^0" оцоп'отои (294). Очевидно, что в данном случае греческому сочетанию чхТуа>. р£).ос; 'направить стрелу против кого' целиком соответствует славянское в'ьзати на кого, вероятно,
являющееся фразеологизмом (ср. совр. русск. поднять руку на кого с сохранением однокоренного глагола в его составе). При формальном несходстве данных словосочетаний очевидно, что они реализуют один и тот же смысл.
В других случаях отличия в порядке расположения слов славянского текста связаны с принципом дистантного расположения слов во фразе, т.е. имеет место тот же порядок слов, что в летописи и берестяных грамотах: потодгь же пришЕдшелгь киялгь на нн(х) £5 к'ьстока... Фещдор'к же ст^ЕишУи стратигь съ фрлкысТлны съ ними же
и слнокмнцн ЕОЛАрьстш нжс по прнрочном^ свогарись (81 б) - вео&орсх; 6
ау.ытосгос отратг;Хатг)с. <Ь гясбущоу Ц-коууарюе;, ¡лето игратой ха1 айтск; ттХгСатои хйм ©рахгаотсоу.
Это явление, очевидно, аналогично неоднократно отмечавшимся в русских памятниках случаям нарушения так называемого принципа проективности, ср.: Еолоднмнрт, ид( на кмь съ
нокгородьцн снт, (Ярославль (НПЛ под 1042) бъзшн о у Тил\ощ€ одмноу
мл дЕслтк грнв[ь]ноу оу &ыщннА шоурннл (НБГ № 78, XII в.)
Глава II посвящена рассмотреншо рукописной традиции древнейшего славянского перевода ЖВН. В ней представлены сведения, касающиеся истории рукописного бытования текста древнейшего перевода и его отражения в составе других произведений. Эти сведения оказываются весьма важными с учетом того обстоятельства, что полный текст древнейшего перевода дошел до нас в ограниченном количестве списков. Информация, содержащаяся в переработках Жития, позволяет в некоторых случаях судить об архетипе его древнейшего перевода. Распространение второго славянского перевода ЖВН, появляющегося на Руси в к. ХГУ-нач. XV в., скорее всего, связано с процессами второго южнославянского влияния. Этот перевод, выполненный по значительно более краткой греческой версии, практически не имеет ярких примет, позволяющих судить о его происхождении. Традиционное мнение о его выполнении у южных славян основывается на сведениях о рукописной традиции этого перевода. Старейшие его списки, относящиеся к XIV в., южнославянского происхождения, а имеющиеся русские списки XIV в. сохраняют следы южнославянского оригинала.
Центральной проблемой, которая рассматривается в данной главе, являются текстологические взаимоотношения списков
древнейшего перевода ЖВН. Сопоставление данных трех известных полных списков древнейшего перевода ЖВН (Егор. 162 XV в., Нил.-Ст. 1 XVI в. и ВМЧ XVI в.) между собой и с греческим текстом позволяет сделать вывод о том, что списки Егор. 162 и Нил-Ст. 1 принадлежат к более ранней текстологической ветви, чем список ВМЧ. Основанием для этого служат, в частности, следующие пропуски текста, обнаруженные нами в списке ВМЧ: после ненкоушенм доб. лицемгЬрмелгъ е'ьзиосатса въ гордости гако »скошена соуще (25 в, 14-17) ттоХХо1 усср атеьрос ха1 ёаотои? атоайутЕ<; ершроь еТеу кх хеуоЗо^'а? (306);
оумре ДОСТОННОПЛМАТНЙА федорл... О уже ЗйМТр'Ъв'ЬШН ВТ. ДНЕХ'Ь
своих'Ь (48 а, 9-10) - о уже замтр'Ьв'ьши нет (411, 27) тсроРфтргиТа Ь таТ? гцхерач; аитг^ (Вес. 10);
или колико ллашд л\м прет£рггкхъ (52 а, 1-2) - нет (417, 19) - е'шгсе 6рр£а0г1У хса Ькцшча. (Вес., 17);
н гако же си веекдоующе дондохолгь третьлго мытлрьства (53 б, 22-23); - и гако же сн кесЬдоующе нет (419, 11-12) - даота 8е яро? аХХ^Хоид
ЬмХг^о^Ьсоу (Вес., 20); <—■
гако С5 неснлго лоукд (66 б, 2) - нет (436, 24) - ыстсер Хадрои; 1х той оЬрт'юи то?ои (Вес., 44);
сьтвори члвколюБ'Гб свое съ многнлуи дшдл\и. се же елго творл не тще
сътворишн бдг^т'Ло своею (87 а, 21-24) - подчеркнутого нет (466, 13) -ср.: х<х\ коядру гкеод [лета т.оХХыу. тор то уар то «у«6оу £1 ■кощчг^. ойх'
Ъа сшсеч; (хоубу г| 8ио, ¿сХХа отэдхоу 6ХбгсХт)роу ха1 тсоХиу Лабу (Вес., 74); н ти роукы ииоуще полокниоу иут. елго л половнноу ихт. лоуклко (145 б) - хеф«? xey.Tifiii.lvoi "Па'.стеса;, Хеум от) ахо-сшок; ха1 Ха^крас;
и О^ЧЮДНХСА ахмт» л\ОНМТ» мил миров и прентн ГО тла на петлите 15 с а ПреСТАВЛАЮЩО^ ... ко тдко рекшоу ми к'ъзв'ьстнша с'|д цркклмт. монллъ (192 б); (в Нил.-Ст. 1 в'ьзв'кстиши) - ср.: ¿усо 8е. томл» ха1 тай та ха-с' е^аитот ЗиХоу^оит^, ефт^, отгг^Сха о Кйрю; яро; ¡ле той; еаитой Хоуои; ¿ло!еТто, от1 уйу, <Ь; ораЬ той ¡хатоаои хоа^ои 1хиуои ¿уаХХауг^ уло^ЕУТ^ ха1 ех фбора; щ &<р8аро1ау гау-сыу р.тщ\>£уу.Ь<йч (Вес., 174). В списке Нил.-Ст. 1 эти строки зачеркнуты киноварью. Для обеих рукописей (Егор, и Нил.-Ст.) характерен пропуск текста после слова прсстдвлАЮщоу (в Нил.-Ст. недописана половина строки). В этом месте в списке ВМЧ, очевидно, представлен гаплографический пропуск, поскольку предшествующая фраза заканчивается сходным образом: в-ьзк+.стн реТч) вса црквдмъ моилгъ.
Изучение текстологических особенностей списков показывает, что черты архетипа древнейшего перевода лучше всего отражаются в старейшем из его известных списков - РГБ Егор. 162 XV в. См., например: зднеже нщоуть лица игцл своего (Егор. 162) - зднеже нщ^ть $цл своего (Нил.-Ст. 1) - зднеже нщ^ть лнцд своего (ВМЧ) - й то тгроасотгоу той Патро; ¡хои
Об этом же свидетельствуют и данные Пролога. Статья о Василии Новом под 26 марта вошла в краткую редакцию нестишного Пролога (возникшую не позднее XII в.), впоследствии, в существенно измененном виде, была включена в стишной пролог (возникший в XIV в.). Так, из двух чтений списков древнейшего перевода на ХР€П*Г01Г (Егор. 162) и на пл'кщю (ВМЧ и Нил.-Ст. 1) 1п\ тйу уоЗтсоу старшим является первое, поскольку именно оно представлено в стишном прологе: на хр*кты.
Сохранение в Егор. 162 - старейшем из известных списков древнейшего перевода ЖВН - некоторых отсутствую псих в ВМЧ чтений и архаичных слов, в числе которых есть восточнославянизмы, позволяет, несмотря на имеющуюся в начале этого списка лакуну текста, выбрать его в качестве основного при подготовке издания текста древнейшего перевода.
Ряд лексических вариантов ВМЧ является, как это показывает анализ разночтений, следствием редакторского поновления лексики ЖВН. Эта лексическая правка могла проводиться при включении текста древнейшего перевода ЖВН в авторитетный миненный свод. Редактирование это было поверхностным и проводилось без обращения к греческому оригиналу. Целыо редактирования было заменить устаревшие и непонятные слова на общеупотребительные и нейтральные. Так, выражение Л)Ы1г£е Брлници (176 а) заменяется на юн'Ьншаа одежда (582). В греческом тексте хХссва; беоифдатои? (греч. уХыщ означает, собственно, 'верхнее шерстяное платье', 'зимний плащ', 'покрывало', зд. 'боготканые одежды'). Слово врдницк является гапаксом, производным от врлти 'ткать узорами' (словен. Ьгагуа 'складка', рус. диал. брань 'узорчатая ткань', врАнннл 'род тканья' и Браный 'тканый узорами, узорчатый'). Чтение ськлочилт» есн (36 г) (от ськлочити 'истратить') заменяется на съключнлъ есн (397), да не «склочите (от нсклочитн 'потерять', 'растерять'(?) - на да не исключены ведете (600) что приводит в обоих случаях к искажению смысла. При этом вариант Егор, списка представляет собой восточнославянский регионализм. Древнее сачн 'достать', 'схватить', 'коснуться' (23 б) заменяется в ВМЧ на атн (379), оушаритн (177а), производное от шлр 'краска', - на оукрлсити (538) и
т.д. Имеющиеся в списке ВМЧ искажения - нлдолгьшоусА (прич. от надымлтнса 'вздуваться') (34 б) - ндл\шю(с) (393), голкл (55 а) 'шум', "ропот' - толкл (421), припади (от прнндднтн (70 б) 'привязать', 'присоединить')- прирлди (442); похоухнлтд (189 г) (от похо^нлнне -'осмеяние') - похно^наша (600) - свидетельствуют о том, что соответствующие лексемы, достаточно активно употреблявшиеся в старший период церковнославянского языка, были незнакомы позднейшим переписчикам.
Глава III посвящена описанию лексических особенностей древнейшего перевода ЖВН. Лексика, представленная в списках древнейшего перевода, неоднородна. Так, в ее составе можно выделить значительный пласт церковнославянской лексики старшего периода, среди которой выделяется лексика, имевшая региональное распространение. Анализ лексики древнейшего перевода ЖВН показал, что в нем нет ни одного слова южнославянского происхождения, наличие которого нельзя было бы объяснить его освоенностью в церковнославянском русского извода. Для характеристики особенностей языка древнейшего перевода существенно, в частности, что в нем ни разу не употребляется слово ггеръ (в соответствии с греческим -гц), характерное для южнославянского извода церковнославянского языка. Наоборот, стерт» в соответствии с ты; часто используется во втором славянском переводе ЖВН.
В древнейшем переводе ЖВН обнаруживаются слова, не известные южным славянам или развивавшие в южнославянских языках другие значения. Среди них выделяются лексемы, характерные для севернославянской территории в целом, такие, как:
водолажа 'баня' (?): всЬлгь иже б домоу гна его и ракъ и своводнныхъ, згЬдо печальнн кыша. гако же не могоущй' ел\оу ни вт» водолажоу изити вез ноикша Гапакс. Возможно, что это слово родственно слову лазня "баня", засвидетельствованному в иозднесредневековых русских источниках и современных русских говорах [СлРЯ Х1-ХУИ вв. только с ХУНв.; СРНГ, 16, 244-245 с пометой смол., южн., зап., новосиб, калуж., ряз. и др., Даль 2, 235 с пометой южн, зап.]. Слово это известно в укр. лазия, бел. лазьня, чеш. Игсп, ст.-чеш. 1ат, ¡агпа, польск. \aznia, в-луж, н-луж \aznja "баня". Образование от глаг. лазитн. [Фасмер 2,450; МасЬек, с. 260];
водолажьныи Производное ОТ бодолажа: и възлшгь на на адт» и гнои н нечистота нхъ гако водолажныи гнои (л. 136). Гапакс. Ср. в Син.249: ха1 Оахелто ¿тс' осита ЗистсаБ^ ха! х«Хеяо<; той рЗ&Хирьа?
аитшу, ¿х ¡3ор|3орои оттореио^еуо?. (Вес., 89);
высоуноутнсл 'показаться наружу', 'брызнуть': аки $ жилт» его высоуноу са кровь на высотоу з*Ьло (л.74 об.); £ррие1 (Вес., 59);
осладь 'виселица': лгагистрт. же патрикивъ... шв-кхк повел'Ьвахоу мечелгъ оусЬкноути иж'кхь на ст'Ьнах'ь пимагатн и на шсладехь пчив'Ьшати (л. 11); дроугихт» кп'к града на иисллд'кхь умерш«хь (л. 12). В греческом в обоих случаях ¿V «роирхак; (248, 249). Ср. морав.-чеш. осллдь 'перекладина креста' (Ж.Вяч.) Слово довольно широко распространено в русских говорах в различных формах: ослядь, оследина, ослединник, оследка, оследпик [Фасмер 3, 161; СРНГ 24,21-22];
под'ьнестн 'поднять', 'приподнять': мн'Ь же ГО тажк|'а кол'Ьзни не могоущю ходитн сладк1и и вжственыи пЕрвомчиикт» свои ралгЬ мн-Ь Х^ждьшемоу ракоу своЕмоу подложи и рече обоими л\а ок'Ыа роукама 14
СЬЗАДИ. АЗТ> ТА ПО^НЕСОу И ПСИДЕВ'Ь (л.45). Ср. укр. пщнести 'поднять', 'приподнять', польск. родшезс 'то же', ср. роётеЗс ёо g6гy 'поднять кверху', ~ г росНо«) 'поднять (подобрать) с пола', ~ \valizke 'поднять чемодан', ~ эикш? 'приподнять край платья';
трЕПАСтокт» 'обезьяна': дат» виждю сдтдноу нд рддуЬ Е А сЬдАЩД (АКО МАЛЫ ТрЕГТАСТОКТ* (л.29 об) - 7ttбr¡XÍaX0V (310). Ср. также чешек. ¿гразНк, ст.-чеш. ¡гразЗек 'карлик', ж.р. ¡граБПсе. Считается образованным от сочетания трь- и пясть, т.е. 'трех пядей' [Фасмер 4, 99].
В древнейшем переводе ЖВН представлено также некоторое количество собственно восточнославянских регионализмов: кор-ъстнцд (кгрстицд) 'ящичек', 'коробочка': н принЕСЕ корьстицю злдтоу (л.23) то хфы-сюу (303); испроснвшд же... срЕкрлноу корьстнцю (л.27 об.), вдд адв'кмд оуншшдмд гако н'ЬкдкУ керстицоу ЦЕркленоу (корстицоу червленоу - ВМЧ, Вил., 418) полноу злата нмоущоу (л.52 об.) ¡ЗосХопгаоу (Вес., 12); кто оукрддЕ керьстиц^ гжд ткоа (л.87), с КЕрьстицЕЮ (л.87) (лета той гаеирюи (Вес.,75). Слово ксрстнцд является уменьшительным от керста, коръста 'гроб', ср. русск. диалектное (арханг., онежск.) керста 'могила' [Даль, 1, 106]. Относительно позднее (/к/ не палатализовано) локальное заимствование в древнерусский язык из эстонского [Фасмер 2, 225, 338]. Известно только по оригинальным и переводным древнерусским текстам [СлРЯ Х1-ХУН вв., 7, 116 и 345].
лим^нт» 'гавань', 'пристань': Въ лнлгкн'Ь глщимса софнинт» - Ь тф Хфх« х&\> Погнал* (Вес., с. 51). вп> елЕоуфЕрни лмм'ки'Ь - ст:1 -сои \ц±Ьос; той 'ЕХбиберСои (Вес., 57). Известно только из древнерусских памятников [Срезн, 2, 22 и Доп. с. 153; СлРЯ Х1-ХУН вв., 8, 235], а также из переводов, предположительно связанных с восточнославянской языковой
15
средой (Толкование Никиты йраклийского на Слова Григория Богослова и Пчела - в них в форме лимень). [Соболевский, 1980, с. 140-141]. Прямое заимствование греч. Xi¡i£vi(ov) от Хцлту 'гавань' [Фасмер, 2, 497]. Форма лиман в современных славянских языках по происхождению отлична от лимень и является опосредованным заимствованием через турецк., крым.-тат., кыпч. liman "гавань', "порт', в свою очередь, восходящим к ср.-греч. слову. [Фасмер, там же; Преображенский, 1, 454].
москолоудник*ь 'насмешник': прегоудницн и ггЬснотЕорци москодоудници (116 б). Слово москодоудннк-ь является заимствованием из ср.-греч. *¡xaaxapoú8rií 'шутник', ¡Aaax«poú8t(o)v 'рожа', 'гримаса', tiacxapa 'маска', сближенного, по мнению М. Фасмера, с д^дъ 'дурак' [Фасмер, 2,661].
одадь 'лодка': и сьвъкоупмвшесд имддшь и>гнь имЙцшь достнгйющс н^т» пожнгдхоугь га. (л.81 об.). В греческом тексте xaí тоцтеХохт^ Y£V0!X¿VTK rpétepoi 8púj|¿evoi xaí xpriaá^evoi iw Xe~(o[xívco Хщжрсо jtupi ei-c' oCv сгкгщ xaxáífXsYov aunow? (Вес., 68). Слово это, встретившееся в ЖВН в повествовании о нападении русских на Царьград, представлено и в написанной на основе этого рассказа ЖВН летописной статье о походе Игоря под 941 г. в ПВЛ, что весьма надежно указывает на его связь с аутентичным текстом перевода: фЕОфднъ же с\"ст(гкт€ а бъ оллдехъ со огншъ. JIJL, 941 г. Слово оладь. фиксируется только в оригинальных русских памятниках (преимущественно в летописях) и древнерусских переводах [Срз.2, 664; СлРЯ XI-XVII вв., 12, 363]. Обычно оно объясняется как заимствование из греч. xsXávBiov [Срз. 2,99, 664], однако возможно, что это заимствование из ср.-греч. étXiá8i(ov) от áXiá?, -á8o? 'рыбачий челн' [Фасмер 3, 138].
оладьнт», производное от оладь: повИздАХоуть кождо свонл\-ь w кывшнмъ, и и (sic) о шладн'Ьмъ wrhh гако модннд рече иже нд HKci;x*b грсцн «A\ovfTfc. оу себе, (л.8 1 об.-82). Этот пассаж дословно совпадает с соответствующим местом статьи под 941 г. в ПВЛ: и пов'Ьддх¥ кождо
CBOHAVb О КЫВЪШЕЛГЬ И ОЛАДН-ЬмЬ ОГНИ АКО ЖЕ МОЛОНЬА рЕМЕ ИЖЕ НД НЕЕЕС'кх'Ь грьцн НМуТЬ Y COBÉ.
ПОД'ЬКЛ'Ът'Ь 'нижний ярус постройки': ИБО в ПОДЪКЛ'Ь'гЬ жнваше (77 а, 8). в дол\оу вашелгь есть в селгь подъкл'кт'Ь шдръ (л.87б, 19) Ь ту хатшуей (Вес., 74). Слово известно только по оригинальным древнерусским памятникам [Срз.,2, 1058], в том числе по берестяным грамотам, самая ранняя из которых (№ 411) датируется 80-90 годами XIII в. Оно широко распространено и в современных русских говорах (преимущественно в северных, однако зафиксировано и в Моск., Влад., Калу ж., Тул., Ряз., Ворон, обл.) в следующих значениях: подклет (и подклеть) - 'высокий сруб под избой, используемый как жилое помещение', 'холодная комната в доме, горница', "кладовая, чулан', 'подполье, подвал', 'особое, обычно с земляным полом, помещение во дворе для хранения съестных припасов', 'амбар', 'помещение доя мелкого скота', 'помещение, где приготовлена брачная постель для молодых'. [СРНГ, 28, 35-37].
подоудновдтн 'полдничать': kakw ада^ъ въ гов-fcnie G5 пЕрвдго M« НЕ CWTBOpiBUJH МЛТВЫ гако ЖЕ АДАХЪ ВСЕГДА вси в велнц-fc прострдн'ств'к ЗАВТрМУКАЮЩЕ СА И ОК'ЬдОуЮЩЕ снр*£ць H ПЮЛОуДНОуЮЩЕ H ВЕЧЕрАЮЩЕ ОЕЬАДЕЮЩЕ СА ЧрЕВОу OEiAAEHiEilVb (л.57об.-58); Êv ты ктЬйты (А.478, 23-24). Общерус. полдникт» первоначально значило 'еда в полдень'. Значение 'еда между обедом и ужином' выражалось в древнерусском словом ужннл (например, в Житии Феодосия
Печерского), ужнпатп 'полдничать' (ПВЛ под 6605 г.). Это значение сохранилось у слова ужин в других славянских языках: ср. болт, устар. и диал. ужина 'полдник', ужиивам 'закусвам след обед'; с-х. ужина 'полдник', 'закуска днем', словен./ижтаа 'полдник', 'завтрак' (в полдень), польск. устар. juxdna - 'полдник'. Впоследствии значения этих слов в русском языке сместились: полдник получило значение 'еда между обедом и ужином', а ужин - современное значение (с XVI в.). В значении 'закуска, еда между обедом и ужином' представлено в словаре Даля [Даль, 3, 251]: завтракают в 4-5 часов, обедают в 9, полуднуют, пол(у)дничают в 12, ужинают в 6, паужинают в 9 (у рабочих, у крестьян в поле). Ср. тж. совр. укр. полудень, полуденок, - 'полдник', блр. палуднаваць 'полдничать', палуднаванне 'полдничанье'.
синь 'темный', 'черный': и оувид'кхт. къ cirk съ нвс'Ь синь и>вллкъ смсрдлщь сшедт» и паде нл дмгЬ (42 г, 5) fxéXav vé<po; (321); егдд ко дшУ нзвлачдх'ъ видахъ чисчгЬ множество ефичопт, синнхт» wKpSrb и>дрА моего МАТоущЕСА (50 б, 11) ¿wd6jv xaßapü; 7;Хт}0г, aiGiórucov xrj¡; xXtvr)? (j.ou xúxXco 7te.pt£oxüxa ¿xXottoioúvxwv (Вес., 14); шгклгь окааннаа лица eaxoif taka 1&ко же ТрОуДОВАТЬЦЕЛЛТ» ЕЫВАЮТЬ. а ин'ЪлГЬ сина 1ак0 же
слмол\оу дмаволоу (103 в, 7) xaí ocXXwv ¡xlv ota га x£Sv Upav Ixóvxwv vóaov, oü¡; xaí Xcoßou; xaXeiv oiSev o Xófos, ¿>v ¿£w87]xóxa xaí t<p8ap(xéva úrcr,pxov та 7tpóa«ma, aXXcov Sc riaßoXwfieva xai axoxtiva сЬ? auxoü xoü Satavä (Вес., 27); и лица ихт» ЕАХоуть сина гако же мерным!» ефиитомт» (115 г) - в греческом тексте нет (ср. Вес., 51); и ти сини гако(ж) р^'ц'ь (ВМЧ, с. 532 на роуЦ"Ь) ихт»
ckbepheh'fe имоущи и wkpa3*b их"ь ик0 прахт> пепелныи ижжент. (ВМЧ, С. 533 изм^жент») (138 б) otxtve; ¿Sa-reep aíQiOTtcov ^eípa; TjaßoXcopiivai exéxxrjvxo, xaí ■г) офц auxtüv ¿i; xovía citoSou xaxaxexaujiívrii; (Вес.,
93); н прТдс оуко сьндоъ СРлоучЕМых'ь и се тмою синею изЕЬАТ*ъ (139 в, 11) охото? С°«Р"Se? é«nr<xpY«vwfji£vTi (Вес., 95); и се посрЕД*Ь ихъ здвистници... и ти во сини (ВМЧ, с. 535 тш вен сини) к'кшд гако же горньцоу лшого
во wrHH стодщк? и WMcptrfcELUiO GJ оуглТд (139 г, 13-14); ixqxsXavcújxévot xa лрбашпа tbcmsp yúxpv. яоХитреро«; otпо xoó тгиро^ xaí xwv iv avxfj ёфтреусоу Tcayytazu xaí ахьутыхаха aiiaupwSstaa (Вес., 95); к ндпрыщдл'й НОЗ'Ь и(х) на(д)менТем*ь енннлгь (140 а, 26); ot ttóSs? aüx<5v ^ыое/охц xaí [ze|j.£Xavüj¡xevoi ctpo8pa (Вес., 96); н слоусн ихъ изгревьмн chhaavh затчены (155 б, 1); ai §s axoal auxcov pspuajxévat iv jttaar) xai axu7nteító (Вес., 120); H ce ДВД моужа СННА 1лко *гъ" СДМЪ ДИАЕОЛЪ оуднвленд соущл взоролгь его и въз'ьмоущЕНА (153 а, 17) |xs¡xeXavw¡¿éva (Вес., 116). Общеславянское *sinjb, -а, -е представлено в большинстве славянских языков, однако в значении 'черный' встречается только в древнерусских памятниках4.
симьць 'дьявол': н глд едтгь GJ нею к сннцемь ок'Ьмь (л.50 об.) xol? aeXavoTí (Вес., 15). Производное от синь 'черный'.
тноунъ 'управляющий': взнде домоу того тиоун*ь къ прп(д)Бнол\у (л.32 об.); ó Ыхроло? той oíxov (313). н nwBEA'fe тнв^ноу дол\оу своего (л.88) - тиоуноу (ВМЧ, с.467); тф етптрскср (Вес., 75). Употребляется только в древнерусских оригинальных сочинениях и переводах, связанных с восточнославянской территорией [Срз., 3, 961-962]. Совр. укр. тивон 'надзиратель', блр. цгвун 'служащий, управляющий имением', польск. слово ciwun, cvun 'коморник' заимствовано из вост.-слав. В свою очередь, древнерусское слово тиоунъ (тикуиъ) 'управляющий, казначей князя', 'должностное лицо
Моддован А.М., ук. соч., с. 227.
на волоке' (смол. гр. 1229 г., новг. гр. 1264 г.) является старьм заимствованием из др.-исл. ^опп "слуга". [Фасмер, т. 4, с. 63].
Все эти слова принадлежат архетипу древнейшего перевода и дают основание для его восточнославянской атрибуции. Есть основания относить к архетипу перевода и такие регионализмы, как крлннцн и ськлочнти, несмотря на то что они сохранились только в одном списке древнейшего перевода - Егор. 162. Аргументом в пользу принадлежности этих слов архетипу может служить греческий текст, проясняющий значение славянских слов, а также то обстоятельство, что слово с конкретным значением (врашщп) не могло появиться в списках в результате замены абстрактного одежда.
С этими данными вполне согласуются словообразовательные особенности древнейшего перевода, которые указывают на присутствие в нем слов, образованных по моделям, продуктивным только в русском изводе церковнославянского языка.
В частности, одной из показательных черт восточнославянского происхождения перевода традиционно считается наличие в его языке образований, содержащих приставку вы-. Наличие образований с приставкой вы- в выделительном значении - черта, объединяющая древнерусский язык с западнославянскими языками. Для южнославянских языков использование этой приставки не характерно, если не принимать в расчет некоторое количество позднейших заимствований. В древнейшем переводе ЖВН, на 106 употреблений лексем, содержащих приставку из- (19 основ), приходится 28 употреблений лексем с приставкой вы- (12 основ), например, с этой приставкой здесь отмечены лексемы вы^одптн, вынести, вынатн, выгнлти, выстоупитн, высоуноутисА.
Кроме того, здесь зафиксировано несколько случаев употребления наречий с приставкой въ- и субстантивированной формой в.п. ср.р. ед.ч. в качестве второго компонента: въдолже 'на расстояние', 'в длину' (2 р.) и в*ьдлле 'дальше' (2 р.), которые, как показали новейшие исследования5, также должны быть связаны с восточнославянской разновидностью церковнославянского языка. Наречия такого типа были распространены в древнерусском языке в древнейшую эпоху и позднее исчезают из употребления (все известные примеры находятся в текстах, оригиналы которых были созданы не позднее XIII в.). Эти образования в списках древнейшего перевода ЖВН относятся к аутентичной лексике и еще раз свидетельствует в пользу его создания в старший период развития восточнославянской письменности.
Глава IV содержит анализ некоторых синтаксических явлений древнейшего перевода. Данные, полученные в ходе исследования, значимы для характеристики синтаксиса церковнославянского языка, а также техники древнейшего перевода.
Синтаксические данные древнейшего перевода демонстрируют его ориентацию на стандартные образцы церковнославянского языка. В этом древнейший перевод ЖВН вполне соответствует сложившейся житийной норме своего времени и разделяет особенности таких оригинальных церковнославянских памятников русского происхождения, как сочинения митрополита Илариона, Кирилла Туровского, Житие Феодосия Печерского.
Так, при передаче различных греческих конструкций со значением цели на 56 случаев употребления модели дд с презенсом (из них 14 раз в косвенно-побудительных предложениях без учета
5 См. об этом: Гиппиус A.A. Древнерусские наречия на базе компаратива // Problemi di morfosintassi delle lingue slave 4. Firenze. 1993, p. 33-44; Пичхадзе A.A. Языковые особенности древнерусских переводов с греческого (в печати).
косвенно-побудительных предложений со значением приказа) приходится всего 7 случаев модели да с конъюнктивом (из них 1 раз в косвенно- побудительном предложении). Таким образом,
соотношение получается 8:1. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что в этом переводе ЖВН часто используются союзные сочетания га ко да (14 раз, из них 6 раз в косвенно-
побудительных предложениях) и да нскълн (6 раз, из них 1 раз в косвенно-побудительных предложениях), которые употребляются в старославянских и староболгарских памятниках в придаточных цели.
В заключении подводятся итоги исследования и формулируются основные выводы. Несмотря на небольшое количество дошедших до нас полных списков древнейшего перевода ЖВН, можно полагать, что перевод этот пользовался авторитетом в Древней Руси, о чем говорит его включение в состав Повести временных лет и сборников различного содержания, прежде всего, Пролога и "Мерила Праведного". Поэтому изучение этого перевода имеет важное значение для разработки вопросов истории русского литературного языка. Изучение текстологических особенностей списков показывает, что черты архетипа древнейшего перевода лучше всего отражаются в старейшем из известных его списков - РГБ Егор. 162 XV в. Включение древнейшего перевода в состав Великих Миней Четьих митрополита Макария сопровождалось небольшой редакторской правкой, целью которой было привести лексику этого перевода в соответствие с нормой XVI в. Правка не затрагивала текстологический уровень перевода, поскольку проводилась без обращения к греческому оригиналу. Лексические и словообразовательные особенности древнейшего перевода ЖВН указывают на его связь с восточнославянской территорией. В связи с
этим встает вопрос о соотношении этого перевода с другими произведениями, перевод которых, как это показывают современные исследования, был выполнен в Древней Руси приблизительно в то же время (Житие Андрея Юродивого и История Иудейской войны). При том, что каждый из этих переводов характеризуется совокупностью лингвистических особенностей, неизвестных за пределами восточнославянских языков, между ними не наблюдается единства в области языка и переводческой техники. Этот феномен может объясняться по-разному, но в шобом случае он вступает в противоречие с понятием "переводческая школа", используемым при характеристике так называемого "киевского" периода истории церковнославянского языка.
В приложении представлено наборное воспроизведение текста "Жития Василия Нового" по наиболее репрезентативной в текстологическом отношении рукописи памятника Егор. 162 XV в.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Об одном старинном названии обуви // Русская речь, 1997, №5, с. 106 - 108.
2. Об одной синтаксической особенности Жития Василия Нового // Тезисы конференции "Проблемы сравнительно-исторического языкознания в сопряжении с лингвистическим наследием Ф.Ф. Фортунатова". М., МГУ, 1998,1?—^чб,
3. Лексические данные Жития Василия Нового (к проблеме локализации древнейшего славянского перевода) // Сборник аспирантских работ филологического факультета МГУ. Москва, МГУ, 1998.
4. О Житии Василия Нового // Русская речь, 1998, № 2.