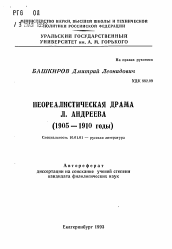автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Неореалистическая драма Л. Андреева (1905-1910 годы)
Полный текст автореферата диссертации по теме "Неореалистическая драма Л. Андреева (1905-1910 годы)"
РГ6 од
науки, высшей школы и технической
о ь1ли ^политики российской федерации
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. М. ГОРЬКОГО
На правах рукописи
БАШКИРОВ Дмитрий Леонидович
УДК 882.09
НЕОРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ДРАМА Л. АНДРЕЕВА
(1905-1910 годы)
Специальность 10.01.01 — русская литература
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Екатеринбург 1993
Работа выполнена в Белорусском государственном университете на кафедре русской литературы.
Научный руководитель — доктор филологических наук,
профессор П. И. Ткачев
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор Л. А. Колобаева, кандидат филологических наук, доцент В. В. Химич.
Ведущее учреждение — Пермский государственный университет.
Защита диссертации состоится « . 1993 г.
в . . . часов на заседании специализированного совета Д.063.78.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук при Уральском государственном университете им. А. М. Горького (620083, Екатеринбург, К-.83, пр. Ленина, 51, ком. 248).
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Уральского университета.
Автореферат разослан «. . .»......... 1993 г.
Ученый секретарь специализированного совета, кандидат филологических наук, доцент
Л. П. БЫКОВ
Исследование драматургии Л.Н.Андреева (1871—1919) имеет принципиальное значение. Созданный им театр — одно из выдащихся явлений русского искусства начала XX века. Неореалистическая драма Л.Андреева, обращенная я поиску духовно-нравственных, эстетических и интеллектуальных основ бытия, впитала многие идеи своей эпохи и в перспективе предопределила некоторые новации мирового искусства XX века. :
Актуальность проблемы "Неореалистическая драма Л.Андреева (1905—1910)" обусловлена необходимостью концептуального и целостного подхода к драматургии этого художника. Объективный процесс освобождения нашей культурно-исторической памяти позволяет, по-новому осознать смысловую глубину имеющегося худокественного нг }ла-дия. Драмы Л.Андреева не "отраяают" или "осмысливает" действительность, конкретные реалии сложно опосредованы художественной интуицией, картина человеческой жизни и мира создается средствами искусства, избегающими идеологической определенности. Лпалиа пьес Андреева актуален и в историко-литературном смысле, я в аспекте теории литературы, особенно в части системного'подхода к выявлению эстетических и философских основ неодраш Л.Андреева, ее архитектоники .
Степень разработанности проблемы. Творчество Л.Н.Андреева в целой и особенно его драматургическая часть — одна из самых дискуссионных проблем филологии. При лизни писателя его ¿1 пьеса и 7 сатирических миниатюр, "Письма о театре" вызывали оживленные споры представителей всех литературных течений и социально-политических доктрин. К творчеству Андреева обращались Н.Михайловский, Г.Плеханов, В.Боровский, А. Луначарский ."писатели -А. Блок, Андрей КелыЙ, М.Горький,М.Волошин и многие друтне;режиссерн-Вл.Н&шроРИч-Ланчэнко, К.Станиславский, Вс.Мейсрхрльд. В дореволюционной критике собственно художественные особенности драматургии Л.Андреева не акцентированы. В ¿0-е годы К.Дрягиным был впервые поставлен вопрос о связи художественного метода Л.Андреева с экспрессионизмом. В 50— 70-е годы социалыю-филооо^ский цикл пьес Андреева рассматривался, в основном, в вульгарно-социологическом ключе, что хлршиегио для исследований А.Рубцове, Е.Бугрова, З.Чувакова. В 70--80-0 годы наметился значительный сдв;;г в изучении драматургии этого писателя. В работах У.Еабичевой, Ь.Зеззубова, А-.Григорьзва, Л.ИезуитовоЛ, Ю.Чирвы творчество Л.Андреева приобретает новое измерение, яолэе становится масштаб и истинное значение его наследия. Однако замечание ВЛелдыла о недооценке обо&ценно-.й'илосо^мого содердплия
3
пьес "в угоду содержанию исторически-конкретиоцу, значение которого подчао преувеличено", справедливо до сих пор. Современный уровень изучения Л.Андреева определяемся ц зарубежной славистикой. Дй.Вудворд, Д.Каун, Ц.Цуыбловскар-Лобода; Л.Силард и Р.Дэвнс 'указывает на влияние драмы Л.Андреева на творчество таких худоа-ников, как Б.Ерехт, О'Нял, Д.Ануй, Ж.-П.Сартр.
Цйлостноиу изучении драматургии'Л.Андреева способствует подготовленное Е.Чирвой издание в двух токах "Драматургических произведений" (Л.: "Искусство", 1989), научный аппарат которого со-дерзит обширный историко-культурный контекст и сведения о сценической оудьбе пьес этого автора. Нодводп итоги изучения творчества Л.11.Андреева, приходится констатировать, что основы его худо-аествеиного ишеиия, структура пьес, специфика эстетических и философских новаций, сац метод образного претворонин пара в неореалистической драма остаются евд но вполне проясненный, дискуссионные проблемы пока доминируют над неоспоришш результатами.
Цель исследования — на нате риале текстуального анализа пьес "К авездаи", "Савва", "Яизкь человека", "Царь Голод", "Черпиа наски", "Анатэ^а" и некоторых других выявить художественные основа, архитектонику и поэтику неореалистической драш Л. 11.Андреева в органической овкзи с его воззрениями и двиаениеи эстетической и театр-1ЛЬноа ицсли конца XXX и начала XX века.
В соответствии о цзльа диссертации определены основные ис-слецоьатедьскис задача:
— раскрыть принципы архитектоники драматургии Л.Андреева;
-- проследить соотношение "идей" и "реальности" в парадок-
сьлыюИ подели шра, созданной воображенной драиатурга;
.— выявить коатури диалектической систеш духовных ценностей, утверждаемых драматургом;
— проанализировать принципиально новаторские стороны неоре-алис-ичеокой драиы Л.И.Андреева, повлиявшие на развитие как оте- ' чеот.енной, Tais и ыировоЛ драматургии.
^.токологической и теоретической основой исследования слукат принципы литературоведческого анализа, сочзтаюцие системно-типологический и исторнко-генетический подходы к материалу и позволяющие ¿иявать вкутрзннне законы художественного развития идиостиля «изатоаа.,
Иаучн&ч новизна исследовании Впервые предпринят анализ ху-доьвстмииой ткани драматически» произведений Л.Андреева с точки гре;ыя îîx архктектои/кй, а тагмо реконструкции процесса станоале-
4
ния андреевской эстетики и философии искусства и способов дости-кения автором целостности и гармоничности текста, но "выпряшшю-аего" действительность, а изображающего ее как становящуюся живую жизнь.
Нетод художественного отрааения действительности Л.Н.Андреева может быть назвал неореалистическим, так как писателю в лучших своих произведениях удалось найти ту художественную форму выражения, в которой человек существует в мире, а но "переделывает" его. Данный момент определил и отношение в исследовании к культурно-историческому фону, который претворен природой художественного мышления Андреева в контекст, "отражающий" жизнь, а не "узнаваюций" ее. Рассмотрение драм Андреева в этом аспекте позволяет по-новому увидеть суть традиционности и новаторства автора, в художественном образе сохраняющего свободу и самоценность каждого Еизнепроявлвния.
Положения, выносите на защиту:
— Исходные принципом:архитектоники драш Л.Андреева является изображение не развития'событий, а представлений о них. Драматическая коллизия возникает .в результате разруша;ощихсп и приходящих к абсурдному самовыражению представлений (идей) о жизни, пре-тендуацих на самодостаточность. Это особенно характерно для пьес "К звездам", "Савва".
— С драмах "Кизнь человека", "Царь Голод" одновременно реализуются разнонаправленные "ззгллд извне" (трансцендентный) и "взгляд изнутри" (обывательский) на "жизнь текущую" и эе абсолютный, вневременный скисл. 2го позволяет автору в действии-схоиз и образе-тезисе выялить оп'оС мноа и частное, абстрактное и конкретное, вневременное и становящееся, рациональную логику событий и их абсурдность.
— "Идеи" в худокествоннои пространстве пьео Л.Андреева играют конструктивную роль, именно "идея" организовывает в сознании героя мироьоЯ хаос, и она де, в момент своего высшего развития,. разрушает равновесие, "взрывает" привычную картину мироздэ-ния. 2то ведет к экзистенциальному, а не умопостигаемому бытию. Драматург создает парадоксальный образ реальности, в котором собственно художественно« и гн^уально дийсавитсльноо исходят за свои гределы.
Л.Андреев рлзмдаает границы между изийршпе^м и иззбраж.чк-
Худохастьеннос прострмстно его пьес сслобулдаетсн от лохной
достоверности.. Драматическое действие в "Черных касках", "Акатэ-ыа", "Океане" осиов'ано на двойственности изображения, которое и воссоздает аизнь, и претендует на цакси'цальнов сближение с нею. При этом эпизод, ситуация, персоная являются и частью обыденной ни8ни, и деталью »ара-провокации, шра мистифицированного, и наделяются автором сверхсшслои притчи и символа.
— Андреев создает принципиально новый тип организации драматического конфликта. Автор максимально заостряет неизбывное противоречие кежд'у "жизнью текущей" и киз.ныо. человеческого духа, которое и есть, по шсйи драматурга, трагедия, утверждающая йети иную и подлиднуо жизнь. :
' .— Драматургию Л.Андреева иожно назвать неореалис^ичеокоИ. Изображение существования в проохраиствепно-време-шюй .и причинно-следственной последовательности уступает место изображению кизни-страдания, кизни-люйви. Противоречия исторического и общественного бытия трансформируются в экзистенциальное их переживание.
Научно-практическая значимость исследования. Результаты, практический штериал, впервые вводимые в научный оборот факты могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской программы: "XX век: русская литература в контексте отечественной и мировой культуры", в исследованиях по истории русской литературы и культура,, а такке истории и теории театра, в процессе преподавания русской, литературы в лекционных курсах и спецкурсах.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре русской литературы белорусского государственного университета, основные положения излагались из У научной конференции, посвященной Н5-ле-тиа Леонида Андреева (Ленинградский госинститут им. Н.К.Крупской); ХЛ1 !.!о«дународних Достоевских .-чтениях (Санкт-Петербург, 1992 г., тема доклада Достоевский, в драштургии Л.Андреева).
Содержание работы отражено в публикациях, список которых — в кс-нца реферата.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения.» списка использованной литературы. Диссертация изложена на 232 страницах машинописного текста, библиография включает 218 наименований.
РОВНОЕ содзРШйЕ РАБОТЫ • ; -
Во введении. ЬббсновыЬаетса актуальность темы диссертации, стаьягся цели!.и задачи исследования, проясярзтся лотнка ,анализа,
определившая структуру работы. Здесь же дан краткий обзор современного андрееведения и обоснован предмет исследования, касающийся архитектоники и худозественных особенностей неореалистической драмы Л.Андреева.
В первой главе "Драматургия парадоксов мысли", состоящей из трех параграфов, исследуются природа художественного мышления Л.Андреева, его идиостиль и философия иску'сотва, возникшая в особом историко-культурном контексте пересмотра эстетических.установок критического реализма; , на основе анализа драмы "К звездам" выявляется архитектоника 1,драшз идей" и ее. саморазвитие в пьесе "Савва". Традиционное'социалыю-философскоо содержание трансформируется драматургом в проблему соотношения рационального и иррационального, "идеи" и первичных, естественных, начал бытия, что и позволяет говорить о неореализме Л.Андреева.
В первом параграфе "К проблеме неореализма Л.Андреева" выяв- . лены общие черты худокествзшгой концепции Л.Андреева в контексте культурно-исторической ситуации, эстетических и идейно-философских тенденций,'сложившихся я конце XIX — началь- XX века. Мировоззрение Андреева, модус его — индивидуального и творчески никем неповторимого — понимания проклятых вопросов бытия выкристаллизовывается из противопоставления обывательски-догматического и экзистенциального, глубинного восприятия /.яра.
Термин "неореализм", характеризую:/^, й идиостиль Л.Андреева (пн никак но связан с направлением, возникшим в итальянском кино и литературе в 40—50-е гг. XX' века, а так.ъе о философски/1 течением начала зека, известии): под там же названием), обосновывается следующим. Писатель никогда резко не расходился с реалистической традицией, однако стремился освободить изображаемое от логики, диктуемой содержанию формой,-Сознательная деформация действительности во имя преодоления иллюзорного сознания, отрицание обыденности как. помехи для творческого прорыва личности к реальному восприятию Вселенной, тяга к иррациональному и фантастическому были реакцией Андреева на иозитивизм в науке и натурализм в искусстве. Сближение художники с- экслресси'оии'звд'к или неоромантизмом не адекьатно отражает суть художественного стиля этого писателя.
Неореализм Андреева — это такой «игод эстетического претворения жазнн, который -дает ё'Ьзмшосгь, но пачеуквьая реальность как такЬву.о, заглянуть в ее чесальную оуднаать, ¡¿ияьить ее онтд-
логические глубины. Необычность идиостиля, философии искусства Л.Андреева определяется не столько формальными признаками, сколько особым .мироощущением х.удодника, остро чувствующего несомасш-табность имеюцихсп позитивных ценностей и мучительных диссонансов человеческой кизни. "Реальное" стало означать некую "неочевидную сферу", которая моиет представлять собой и бытие, и ничто, и жизнь, и смерть. Ей присущи как непредсказуемость, так. и абсолютность. Это приводит к переосмыслению общих задач искусства и переориентации субъектно-объектных отношений в самом произведении, к изменению общих принципов эстетики на всех уровнях — и формальных, и содержательных. Ядром нового эстетического видения становится не привычная связка "Среда — человек", генетически связанная с критическим реализмом, а многоуровневые отношения человека и мира, человека и Вселенной. Герои писателя приходят к свободе через отрицание как будто бы очевидной разумности устройства мира. Именно сознание Этого свободного, а точнее, порвавшего свою связь с ущербным миром человека становится объектом творчества Л.Андреева. '
Принципы новой драмы определяются автором как "упразднение натуралистической видимости при сохранен!«! строго реалистических основ". Драматическая форма, в понимании Л.Андреева, не представ- " лвет реальность, а выражает ее, не отражает существующее, что в принципе невозможно, так как Сущее неизбеано будет искажено, а освоОоь:^ает его от временно-пространственной протяженности, ложно понятых причинно-следственных связей.
Драматургическая эстетика неореализма вызревала в прозе Л.Андреева ("2йзнь Василия Фивийского", "Красный смех" и Др.), наделенной динамикой.мизансцен, психологических состояний, напряженностью нетривиальных конфликтов.В произведении, автор снимает с "факта" слои разумности, покров привычных представлений, обнажает чудовищный смысл событий,'из потока которых горой "выламывается"," обрз.тая новое ярение. Эпицентром х/докествениого пира Андреева становится не собственно событие, а его осмысление, протест против подавления личности отчужденными от иего внеиними силами.
Драматург издт синкретичных форм восприятия мира, для него характерен не просто скелскс, унас перед развертывавшимся алока-'лкаоисом современной цивилизации или пессп'иИэы, а!, "пессимизм сила",. саоЛстьешши но аидкой драме битового разлада, а трагедии бс>)'Ьб^ с уокоц и "слепка^" смллсиш во кип. универсума.
Л.Андреев вводит новую "нерациональную" логику творчества, наиедшую развитие в западно-европейском искусстве XX века. Он зафиксировал крушение, идеалов,'неустойчивость сознания, влекомого к эксперименту, а затем и духовному краху. Поиск Л.Андреевы:! новых форм и художественных" средств, создание • неореалистической драмы продиктованы потребностьо прорваться за рамки узколичного "Я", застившего в пока так ае, как и его герои, пород "голой бесстыдной действительностью", и активизировать воздействие искусства на современников.
Во втором параграфе "Архитектоника "драмы идей" "К звездам" исследуется двкаениа художественной мысли Л.Андреева, направленной на создание особого типа социально-философской драш — "драмы идзй", выстроенной яа принципиально новых копструг.тивно-архи-тектонических началах. Анализ первого варианта пьесы и ее окончательной редакция показывает, что автор сознательно услоняяет многоуровневые связи между содержанием и формой. Идеи, взгляды героев, по замыслу, относятся, скорее, к эмпирическому плану выражения и включаются в понятие "формы", содераанием не становится мо-тасмысл всей пьесы, расширяющий социально-идеологич^скуп проблематику до общечеловеческой трагедии мысля. Особенность архитектоники "К звездам" состоит я в том, что здесь не характер мотивирует действие, к но в действии выявляется характер, а система характеров (мировоззрений), определяет действие драш. Столкновение идей (воль), которые невозможно однозначно истолковать как положительные или отрицатеомше, то возводится в степень вселенской мистерии, в которой созидается душа "окна вечности", то приобретает земное обличье — гора матери, оплакивающей погубленного сына.
Архитектоника пьесы насквозь двухплснова. План непосредственного действия, конкретно-исторического фона не диктует сценическую логику событий, которая преднамеренно сужена до замкнутого пространства удаленной от суеты обсерватории. В основе развития действия левит не участие героев в событии, а отношение к ним. План соотнесения — само эт.5 событие (революция) присутствует лишь в Ьорме рэ^лекси-и. Персонифицированный образ революции — Николай так и не появляется на сцене, и его появление так ае яе-: озможно, при данном качестве мировидения героев, как для автора невозможна и революция, перестраивающая мир на абсолютно новых началах. 3 пьесо один круг идей не сталкивается с другим, а-вкле-
Э
чается в более широкий и универсальный, широкомасштабная картина человеческой жизни и борьбы входит в еще более грандиозную картину всей Вселенной* Этот конструктивный принцип позволяат Л.Андрееву создать драматургию парадоксов мысли. Идоя заключает в себе с мнокеством нюансов процесс духовной деятельности, но в готовом, завершенном виде становится "клеткой", "тюрьмой", конструкцией, выпрямляющей сложность жизни. Мир становится похожим на слепок о имеющегося представления о нем. Л.Андреев, увлеченный событиями 1905 года, не разрушая традиционное конкретно-социальноэ обличив драш, вводит неореалистическую проблематику. Идеи в пьесе "К звездам", утверждающие справедливое и разумное устройство мира, сталкиваются не с социальный злом, а сами в себе обнаруживают такую бездну внутренних противоречий, порождают такие ирреальные, неподвластные сознанию силы, что собственно социальная проблематика пьеса отходит на второй план. ..
В неореалистической драме Л.Андреева прослеживается низнь мысли, экзистенция идеи, ее парадоксы и трагедия в переломную для истории эпоху.
В третьем параграфе "Савва". Идея — бунт и низнь текущая" анализируется драма "Савва", внутреннее движение которой сообщают не перипетии развития событий, а парадоксальное смещение рационального .начала в иррациональное, которое происходит,когда "идеи"на-правдепы на:то,чтобы реконструировать действительность."Идея" в атом своем значении выступает как внешняя оболочка, стремящаяся удержать знакомый облик мира или изменить его к лучшему, что приводит к прямопротивопойокнону результату. У автора отсутствует интерес к специфике той или иной политической или философской доктрины. Идейно-образная концепция этого произведения основана на ми ели, что крайности религиозного, аскетизма или воинствующего атеизма, анархизма или мистицизма имеют общие морально-психологически истоки: невозможность примирения с непомерным злом и страданием жизни«
3 итоге в "идеях", исповедуемых героями драмы "Савва", соединяются противоречия, взаииоотрицаеше тенденции, что находит свое воплощение в гипертрофированности различных проповедуемых героями "идей"-буитов. "Гипэртро^ированност.ь" образов выполняет функции основного элемента воплощения проблематики этого произведения.
Хонцовка пьесы "Савва" не случайна. Драма "идей" выходит за
свои пределы. Попытка представить противоречия жизни через противопоставление в действии внутренне динамичной картины "отношения человека к действительности",статичной картине "человека в действительности" обнажает иллюзорность попытки реализовать возможности человека, стремящегося с помощью "идеи" изменить окружающую его жизнь.
И в пьесе "К звездам", и в "Савве" чудовищное напряжение "идей", которыми руководствуются персонажи, выводящее их порой за рамки умопостигаемого, — напрянение, искажающее "идею" до такой степени, что ее способны выразить только высочайшая экзальтация чувств, психический срыв или дане безумие, — это напряжение не является следствием сопротивления "идее" "жизни текущей", а лишь свидетельством неспособности этой ."идзи" выйти за пределы обыденности, на что она и претендует. А противоречия жизни, существования, трагизм бытия остаются за скобками и борьбы "идей", и "яизни текущей". Андреев нз только скептичен по отношению к способности "идеи" — бунта изменить жизнь. "Идея" является как бы посредником между "яизньй текущей", обыденным и миром дутаи героя, между Данным и чаемым, примиряет их, а точнее, осуществляет себя как факт бытия. Художественное выражелио парадоксального про- • странства пересечения "идеи" и обыденности находит з пьесе свое воплощение. Именно' "идея", стремясь изменить данное, делает это-данное полем деятельности человека, именно против этого данного бунтует человек — и рондае-тся его "идея". Взаимообусловленность и взаимозависикоог, а вместе с тем и взаимоотрицаемость "идеи" — бунта и "жизни текущей" — таково пространство, в котором существует человек и которое является одновременно и мирабом и "чудовищной реальностью".'
Во второй главе "Траге-диз -- утверждение у. из ни", состоящей из двух глав, исследуются-пьесы "Еизнь человека" и-"Царь Голод". Движение 'художественных поисков. Л.Андреева раскрывается на коллизии предельных состояний кнра: хаоса и гармонии, жизни и смерти, с!,:ысла и абсурда. Автор исследует условность и неподлинность нравственно-этического смысла бытия, который' способен в качестве рационалистического начал« искажать сложность и противоречивость казни и сводить "хивую жизнь'! к некой, умопостигаемой и абсурдной „улшости. Художник ищет вез Сонность ..выразить саму стихию низни л сущестлозание человека, а но то или иное "понимание" их.
.'1ор!зЫ;1 параграф "Казнь^¿злозока",. С;.цсл и абсурд бития",
"¿.изяь человека" — яаУАиие-.ве случайное как. в таорчзств«}
писатели, как и вообще в искусстве начала XX века, ого появление совпало с новаторскими поискаш К.Станиславского н Вс.Мейерхольда. Автор стремится "обобщить целые полосы жизни" человечества. Картина отрицаемой зчзни не сопровождается всзразрушающим нигилизмом. но он направляет твсрчэский поиск писателя,
Андреев создает своеобразную пограничную область, тот особый андреевский гротест, в котором "факты" представлены на пересечении двух планов: правдоподобного, реального и ирреального, естественного и аномального, рационального и алогичного. Гротеск Андреева включает взгляд на явленно как изнутри, так и извне одновременно, что рождает резкое смещение и трансформацию "форм саиой низни" до обнаружения их глубинных смыслов. В фантасмагорическом мире "Жизни человека" синтезированы современность и условность, предвосхищающая новации мирового театра XX века. За условным сатирический планом изображаемого обнаруживается трагическая и непостижимая "игра" добра и зла, света и. тьш, жизни и смерти. Для автора валша прежде всего "логика искусства", он ищет необходимые для собственного письма, алемонгы в античном и средневековом искусство, русском лубке, театре Петрушки, обращается к музыке и живописи А.Дюрера.
Форма драш во многой предопределена атмосферой перестраивающегося мира, гибели и возрождения человеческой цивилизации, единством умирающего и рождающегося. Мысли, изложенные в прологе, фазы жизни человека, бессмысленно трагический круговорот их, Некто в старом, ого функции в пьесе — но собственно содержательная осноза, а, скорее, "фабула", та своеобразная андреевская форма, которая и позволяет автору воплотить волнующие его.проблемы.
Форма созданной Л.Н.Андреевым пьесы "Жизнь человека" подобна картине, обращенной к зрителям. Содержание драмы выходит за пределы сцены, действие поглощает зрительный зол; рождается пошлый уродливый театр человеческой жизни, на.который с ужасом смотрит автор. Архитектоника пьесы отражает двойственное отношение к человеческой жизни. Она рассматривается и как "круг железного предначертания", как явление, замкнутое в самой себе, и как великое свгрэо'ние в мироздании. Это противоречие пронизывает всю.пьесу.
Форма драш реализует скрытый и вечный трагизм конкретной чглоьаческой жизни, Пролог и пять картин пьесы, связанные одной идеей, подчинены задаче представить человеческую жизнь в виде "готового заверенного бытия*. .
Пьсса пронизана чувством-трагического несоответствия формальных проявлений зсизни человека и ее глубинного содержания и предназначения. Иичтоаность первого не умаляет однако созидаюцо-гося в зечности величия второго. Абстрагируясь от многообразия происходящего, превращая его з схему и в ничто, автор достигает через трагическое созерцание этой пустоты а никчемности нового поникания экзистенции человеческой жизни во временно-пространственной единстве актов рождения и счерти.
2то сукноотное, онтологическое содержание судьбы человека представлено самой эстетикой неореалистической драш Андреева, которая вне морализаторского начала выявляет изначальное и неизбывное противоречие мзнду бессмысленностью "круга железного предначертания", бренностью дел и поступков Человека и бесконечностью величия Яиэни. Действие пьесы определяется образок героя, в котором сосуществуют и изначальная связь человека и Вселенной, и процесс разрушения этой связи. Не драма, которую переживает герой — рождение, бедность, любовь, успех, гибель сына, смерть, не уродливый фарс, которые разыгрывают куклы — друзья, враги, родственники, гости, являятся сутью судьбы героя, а трагедия, которая состоит в том, что человек сгорает в замкнутой некивои пространстве, не исполнив своего великого предначертания в ¡дароэдании.
Во втором параграфа "Царь Голод". Трагедия социального обновления" исследуется пьеса "Царь-Голод", основа драматического действия которой заключается в попытке "выпрямить" искаженный, деформированный облик действительности, введя его в жесткий каркас социально-политических коллизий бунта.
Анализ фактов, связанных с историей создания пьесы, и ее зосприятия современникам, приводит к вопросу, почему в центре сюхета пьесы лежит изображение бунта, а на революция. Для Андреева революция — это трагедия вечного обновления, ДЕигсенкз человечества вперед через страдания, отчаяние и сомнение. Баз этого ло-бая повода бунтукздх звучала бы для художника как рефрен из его рассказа—"так было, так будет". ,
"Бунт" Андреева номыслимо рассматривать вне его двуплановос-та: плана социально-исторического и алана мировоззренческого.
В последней случае бунт — это одна из ипостасей инра-хг.зт-ки, одно из-иллюзорных представлений о действительности, стремящееся изменить ег деформированный и искадевйый облик- чарчэ обрь-гаите иаой сиотеаа социальных связей а отйоаениз.
В предыдущей пьесе Андреев находит своего героп, утверждая жесткий факт абсурдности его жизни. "Взгляд извне" — это не только картина условной и неподлинной действительности, это акт самоотрицания и вместе с тем момент наивысшего духовного возрождения. Однако "взгляд изнутри" порой опять подчиняет себе изображаемое, когда келание обрести гармоничный и разумно устроенный мир связано с очередной попыткой его "выпрямления".
Внутренняя природа образов пьесы "Царь Голод" напрякена, так как представляет собой единство двух противоречивых элементов. С одной стороны, событийный эмпирический материал вопиет, требует "акта немедленной справедливости", о другой — подводит к пониманию того, что кроме человека в этом мире нет никого и ничего, и только он ответственен за то, что есть и что будет.
Мысль о том, что схематичное, абстрактное изображение бунта в "Царе Голоде" — это проекция конкретно-исторических событий, определяемая заданной идеей, не совсем верна. Природа абстрактного, схематичного в пьесе не однородна. Схематичная, абстрактная образность изображения борьбы "верха" и "низа", "света" и "тьмы", "сытну" и "голодных" на событийном уровне "взгляда изнутри" , услоаняется^абстрагируюцим элементом, который привносится "взглядом извне". Двуплановость образов пьесы иохно увидеть в том, что сущность ее конфликта заключена не только в событийном потоке, изображающем движение "голодных" вверх, а в представления бунта как картины уже соверленкого действия. .'Дойно говорить о противоречивом единстве функционирования изображаемого на абстрактном и событийном уровнях.
Заданность результатов бунта как конкретного социально-политического явлешш, иериодичность возникновения бунта в системе связей и отношений человеческого общества,. при отсутствии каких-чибо коренных изменений ü это:! системе, ведет к тому, что автор рассматривает, данное- явлевие абстрактно. В этой случае последовательность и нэлравленность событий утрачивают свое значение ступеней лестницы, ьедудей к результату, и приобретают иное качество, сталоаяеь элементами схеки, а которой начало и конец события соединены. Яахдый экизрд, каждая деталь данной схема суцествует одновременно в .'как выражение определенного комента развития стихии букга, об/сдозлевные законами его дмл'екия, и как изображение уде созеркенного действия.
Событийная сторона буита трансформируется в вы ранге и и е внут-
ренней сущности системы, каждая деталь Функционирует в двух взаимоотрицающих планах — как элемент системы а как этап развития стихии, стремящейся уничтожить систему. В результате рационалистические формы ■пьесы испытывают чудовищное напряжение, которое выражается в деформации, гиперболизации ряда образов. Замкнутость бунта перерастает трактовку этого понятия как безрезультатного, а представляет вею систему связей и отношений человеческого общества как некую замкнутую изолированную от реальности сущность, и за этой замкнутостью и угадывается всеобщее.
Внутренний динамизм пьесы, таким образом, переносится с изображения движения, стремящегося уничтожить что-то, к изображению целостной картины жизнеустройства, находящегося в стадии самоотрицания и близкого к самоуничтожению, картины, где нет ни отрицательных сторон,.слагаемой из элементов, каждый из которых представляет собой единство взаимоотрицающихся начал.
Общество лишено внутреннего смысла — таким предстают "сытые" в третьей картине. Это общество, откуда неудоршшо вытекает с:шсл, и поэтому облик этого мира способен удержать лишь его формальный аспект. Движение, направленные динамические процессы условны и относительны для этого общества. Реальна и устойчива только форма, но, чтобы удержаться» не распасться, она становится все более определенной, насыщенной деталями, о одной стороны, а с другой, — однообразной, схематичной, статичной. Ее элементы все более поддаются обобщению, а с другой — чрезвычайно напряжены и поэтому искажены и гипертрофированы. Реальность, действительный облик которой стремится удержаться в форме через чрезмерность, насыщенность, гипертрофированность ее элементов, —реальность, сущность которой заключается в отсутствия смысла, внутреннего содержания, соответствующего данной форме, условна, ибо в основе ео лежит Не внутренняя необходимость, а знание о том, в каких способах и средствах, поступках и положениях эта внутренняя необходимость себя проявляет. Лишенная сшсла форма — это и сатирический образ действительности, но в. ней угадываются уже,и иррациональные моменты. Форма, утратившая смысл, заполняется нойии содержанием, которое она собой выразить уже не может и которое проявляется в ее гипертро^ированности, дефори1рованности.
Данный ракурс изображения жизни — "взгляд извне1'. Андреев представляет на сцене свое отношение к сложивиемуся образу действительности, когда истины, казавшиеся абсолютными и вечными, ис-
хины очевидные, истины, на которых зиждется миропорядок, выступают как атрибуты игры, театрального представления — к пружиной .этого представления являются как раз привычные рамки правдоподобия.
Форма, пытающаяся компенсировать свою внутреннюю пустоту, удержать ускользающий смысл в системе внешних связей и омовений, перенапрягается. Сосредоточение всего в форме, попытка в ней представить облик действительности оборачивается своей обратной стороной. Продольная "закостененность", статичность частей формы, как образ реальности, их гипертрофированная рационалистичность, деформируется, искажается, становится иррациональной. И одна грань этой иррациональности -- исчезающий смысл, который пытается удержать в чудовищном напряжении форма, другая — лежит в области • новых, до сей поры неизвестных-представлений о мире, но поддающихся четкому выражению.
В пьесе Андреева бунт на действие, на прэцесс, а переживание. Он развернут не во времени и пространстве, как последовательность поступков, действий, событий, а переживается героем, дан не как динамический объективный процесс, а представлен как субъектиыю-эыоциональное и вместо с тем катастрофическое всеобь-еилющее состояние.
В образе главного героя пьесы сущность бунта — отрешенно шра уничтожить негативное свое качество, оставаясь том, чем он ц бил всегда, преодолевает свою замкнутость. Бунт перерастает сем себя потому,, что представлен не как объективный процесс — ристалище действий, жизней и .смертей, а как переживание, страдание личности.
Внутренняя пружина развития действия в пьесе "Царь Голод" заключена не столько в социальном, сколько в зтическом аспекте. Трагедией становится не отсутствие смысла, а его наличие. Рацио- . иадьиал связка добро — зло ужасна именно своим наличием, возмож-ностьи перетекания добра в зло» свободой перемещения верха и низа. Этическая проблема: слишком того зла — нет смысла, — превращается в экзистенциальную проблему: смысл есть, ц именно поэтому тик безисхсдко все, ибо смысл порождает ¡анипуляции этическими нормами.
Непосредственно данный момент связан с проблемой двойственности человеческой мисли, самого человека. !.Ьсль — и творец действительности, окружающей людеЛ, и ведет к бунту против данного.
Страдание героя выводит его за границы данного противоречия.
Страдание, в данном контексте, это и состояние человеческой души, и новое качество отношений незду обществом и космосом, от которых он пытается укрыться о помощью мысли и к который его толкает все та яе мысль.
В третьей главе "На границе низни и искусства" исследуется двухнлановость протекания событий в пьесах "Черные маски", "Аиа-тэма",'"Океан". Драматическая коллизия и воссоздаст хизиь, и претендует на максимальное сближение с нею. Обнажение условности и неподлинности бытия достигает такого качества, при которой размывается граница между изображаемый и изображающий. Автор таким образом освобождает худоаественное пространство пьес от ложной достоверности, диктуемой событиями и отношением к ним; изображает жизнь в Ьормах самой жизни, вскрывает противоречии меяду разумом и духом, умопостигаемым несвободным, конечным и свободным, вечным, антиномии между мироа, который человек стремится уподобить себе, и миром бесконечной свободы.
В первом параграфе "Чернее маски": Реальное и ирреальное" исследуются поьесть "!,!оа записки" и пьеса "Черные /.иски". Сложная архитектоника драш представляет собой реализацию парадоксальности, непредсказуемости метаморфоз, происходящих с сашми устойчивыми и основополагающими истинами.
Обращение к прозе Л.Андреева обусловлено тем, что в ней как бы расшифровывается, разворачивается структура худокестзенного пространства его пьес, где трагический драаамческий иолом возникает не как последовательность фактов бытия, а в способе существования этих фактов в сознании.
Маскарад в замке героя пьесы "Черные маски" вряд ли можно сводить только к узнаванив в масках действительно»! правды о мире, к образу, который выражает происходящую в дуло Лоренцо борьбу "света" и "тьмы".
Представление о уире, закрепленное в словах и ицранае^ое через различные сферы деятельности человека, спрег.еля&яце, в свою очередь, самого человека, утрачивает связь с реильлоотьэ. Подлинное битие становится областью невыразимого, и челои его лред-ставлзнал о ¡г'.ре-аас::арадом. Образов Невыразимого является Черны з маски. ■ .
!йтаь:ор^сза, происходящая с реальностью, где каадий оказиьа-ется маской, его ¿.умкцик — ритуалом, затрагивает вся а псе*. В
тон образе действительности, который дан в пьесе, нет ни правды, ни лжи, ни добра, ни зла.
В "Бале у человека" и в "Суда над голодными" бытие условно и нвподлкнно, потому что оно ¡тдег-яет маску аизпеподобия, за которой скрывается уродство и безобразие, и ншзнеподобность становится игрой, уродство — действительностью. В "Черных масках" условно и неподлияно прекрасное, оно оборачивается своей непредсказуемой стороной, и суть этого процесса не столько в том, что границы между "игрой в жизнь" и жизнью размываются в художественном пространстве, а в том, что они размываются для самого автора, и то, что раньше угадывалось им как реальность, пусть в мрачных тонах, на что он опирался, начало проникать, втягиваться в этой пьеса в пространство иллюзорной действительности. . .
Иррациональность маскарада как событийного потока и бессмысленность, абсурдность духовных ценностей, отраженная в маскарада на нзтароричоском уровне и смыкающаяся с реаг-люстью, находят в дзйствии единственную область пересечения: безумие героя. Таким образом, "безумие" используется и как праай, а помочь» которого преодолевается сближение представляемого и представленного, и является том единственный состоянием, в котором герой способен освободиться от условности, неподлинности, бытия1, еще более уродливых, чем хаос, который открывается за их пределами, становится безумием. Оно является и возможность» приобщения к глубинным тайнам мироздания.
Во второ'' параграфе "''лр — провокация "Акатэ?.^" в л я в л пет о я как жизнь' и "игра в жизнь" а художественном пространстве пьесы иарадоксальньш образом поменялись местами. Имвнно в "игре" угадываются проблески подлинной реальности, намечаются еще неясные черты облика человека.
Иллюзорность бытия человека выражена именно в обыденности, в эмпирической правдоподобности событийных нроявлений его существования. Они, говоря словами Андреева, — "наряд дьявола".
Изображаемое, представляет иллюзорное через обыденное.
Следующий шаг, который делает -Андрзов для того, чтобы оторваться от всепроникающей и асоразруиагзадй иллюзорности, и непод-дчшноиц, — освобождение действия от '.гнета событий.'
По-мнению писателя, трагическое и драматической различается как. раз тем, насколько превалирует соб:.:тийш;;| материал- и сформированное логикой его 'внутреннего развития. отиоаоние'-к нзобраяае-
кому в художественном пространстве произведения. Трагизм—это соприкосновение с яивым человеком и с правдой кизни. Для выявления трагизма, его нухно освободить, говоря словами Андреева, "из толстой скорлупы" эмпирической достоверности и различных форм отношения к этой эмпирической достоверности, различных "идей".
В "Анатэме" образ действительности сливается с образом мира-провокации. Факты, события в художественном пространстве пьесы мерцают своей многозначительностью и многофункциональностью. Особенность трагедии — постоянная трансформация образно-худозест-венной ткани, то претендующей на эмпирическую достоверность (бытовой фон), то представляющей выраненное в сюжетных схемах и в ритме ряда сцен действие, ассоциирующееся с 6:1 блей с-.сими легендами, то оперирующую символами, за которыми стоят целые пласты духовной деятельности человечества. В результате .вырастают "аа событийных потока, два образа действительности, и в основе обоих ленат духовные ценности общества. Один— шр-провонацин Лнатэмы, второй — как бы генерируется первым, возникает в неуловимых очертаниях из его противоречий.
Для Анатэмы, героя-рационалиста, необходимо одно — умопости-гаемость мира. Его законы могут быть абсурдны, его истины могут находиться в состоянии постоянной трансформации, метаморфозы, постоянно менять маски, ото мояет быть чудовищная комедия, ко у нео будут своя законы, понятные Анатэме. Этим объясняется основное требование Анатэмы: "чуда". Все грозное и прекрасное, слоаное и противоречивое, зло и добро, безобразие и красота — все то подлинное я непостижимое, что есть в аизни, что неподвластно рационалистическому подходу'Анатэмы, в контексте "чуда" перестанет существовать. Не будет.больше Непостижимой дистанции мевду добром и злом, жизнь» и смертью, которую нельзя понять, а лукно прочувствовать, прожить; будет .комедия масок, постоянная трансформация, одних "идей" в свою противоположность, и легкость, с которой будут происходить эти цетаморфози,. приведет к разиывааив жизненного содержания, значения и смысла этих идей, они станут иллюзорны и значит — перестанут существовать для Анатэш как источник мук и страданий. -
Внутренняя природа действия пьесы предполагает няобравение-иэ яизни, а представления о ней. 3 основе переаэплс-деняя жизни в представление о ней, не изображения действительного существования человека, а "взгляда изме" легит угадываеш2 з'азеочяацд/пс слой
традиционных человеческих ценностей, который делает условный не только художественное пространство пьесы, но и сто представление о мире и лощащих в его основе вере, любви, сострадании, разуме, красоте. В этой аспекте образно-художественная ткань пьесы смыкается с ее Фантастической фабулой, с тени сюжетными ситуациями, в которых событийный уровень является провокацией, замысленной'Ана-тэмой.
Художественное пространство трагедии "Анатэма" — совмещение двух представлений о жизни, основанных на стремлении к гармонии. В гротескном мире-провокации Анатэш, возникающем из желания героя-рационалиста обрести устойчивоэ и ясное знание о мире, духовные ценности условны, неподлишш, выполняя конструирующую функцию при создании ускользающего образа действительности; устойчивость и самодостаточность они обретают в атмосфере трагической безысходности, в которой протекает- жизнь Давида ЛеЙзера. .
В третьем параграфа "Трагедии "Оксан" укчзивазтея на то, что в этом произведении отсутствует постоянно тяготеющая над мирами художественных образов Андреева разорванность изображаемого в противостоянии добра и зла, "света" и "тьмы". Даннап первооснова развития событий становится игрой, добро и зло, "свет" и "тьма", правда и ложь гак маски облекают героев пьесы, накладывают в этом своем качество отпечаток на события и ситуации. Литературность, искусственность, угадываемость сюжетных линий и образов не столько характеризуют героеи пьесы, сколько подчеркивает их традиционность. Кз с[оры жизни в сферу игры переносятся мотивация поступков порсоиаьоП, их движение от зла к добру, от тьмы к свету, от правды ко лжи.
5са ото :зедег к тому, ч^о для драматурга за сферой жизни, познанной разумом, открывается икем сфера — сфера бессознательного, ь которую вступаад герои Андреева, и уделом их становится безумно. 1'о бессознательное, овладовме душой человека, может выступать и в ил ой ипостаси» ипостаси лд&ш. Поиски смысла приводят героев Андреева к отрицании мира, в котором они не 'логут отыскать ого, Давид -10.1зер и Анатзма в "Анит^ме", Хаггарт и рыбаки в "Океане" — вес они живут в бессмысленном мире, но но разную сторону от смысла. И Анатэма, и обитатели берега ищут смысли, стремясь сйуздйть свободную стихию жизни. Узгивая ее через понятия добра и зла, правды и лжи, они стремятся через отрицание-негативных нравственно-этических категорий к следование пелг-хитель^ым .•: обладало
нив, к власти над стихией, а в конечном итоге к насилии над ной. Любовь Давида Лейзера, мгновение любви Хаггарта выводят героев за пределы смысла, понимаемого в данном случае как стремление упорядочить Бяическуп сторону бытия. Жизнь в любви Еыае стремления к добру и свету, отрицания зла и тьш.
Б заключении подводятся основные итоги исследования. Обосновывается, что худоиественное пространство пьес Лоснида Андреева заключает в себе стремление воплотить в слова стихии низин, не поннть, не осмыслить ее в образе, не приблизить ее к данному эмпирическому опыту существования человека, а дать ей свободу, а значит — и освободить человека. Худокник находит оригинальную драматическую форму на пересечении универсального и частного, традиционного и новаторского, в которой все проблемы современной ему аизни раскрываются в области духовного, где проблема бытия представлена как терзания вечного восхождения и обновления человеческой души.
Единственно возмоаной формой выражения сути бытия человека является любовь. Любовь — жизнь, любовь — трагедия, когда существование человека, следующего не к результату, к конечному исходу чаяний его духа, а к бесконечному восхождения, не имеет возможности обрести покой и смысл, о только муку и страдание, так как только что осуцеста/генное в своой конечности враждебно бесконечному восхождению человеческой дули.
Основные положения диссертации отражены в публикациях автора:
1. Рационализм и иррационализм художественной систеш в пьесах Л.II.Андреева 1905—1907 гг. // Вестник БГУ, 1991, Сер. 4; №2.0.10—12.
2. К проблематике архитектоники драматических произведений Леонида Андреева // Войтннк БГУ, 1992, Сер. й 4. С. 8—II.
Злх. ¿во . Тир. :йО. Отпечатано на ротопринп: в Полиграфическом предприятии Главного управления произаодствеило-хозяйстаентлх служб и заповедников СМ РБ.