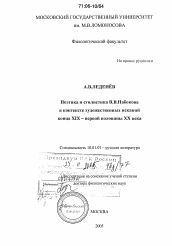автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Поэтика и стилистика В.В. Набокова в контексте художественных исканий конца XIX - первой половины XX века
Полный текст автореферата диссертации по теме "Поэтика и стилистика В.В. Набокова в контексте художественных исканий конца XIX - первой половины XX века"
На правах рукописи
Леденев Александр Владимирович
Поэтика и стилистика В. В. Набокова в контексте художественных исканий конца XIX - первой половины XX века
10.01.01 - Русская литература
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук
Москва 2005
Работа выполнена на кафедре истории русской литературы XX века Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор Анастасьев Н.А. доктор филологических наук, профессор Орлицкий Ю.Б. доктор филологических наук, профессор Ревзина О.Г.
Ведущая организация - Воронежский государственный университет
Защита диссертации состоится 24 февраля 2005 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета Д.501.001.32 при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
Адрес: 119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, МГУ им. М.В.Ломоносова, 1-й корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет.
С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Московского государственного университета.
Автореферат разослан
Общая характеристика исследования
Предметом исследования в настоящей диссертации является творчество В.В.Набокова, анализируемое в контексте собственных представлений писателя о реальности как о «бесконечной последовательности ступеней, уровней восприятия, двойных донышек». Такой «многоуровневостью» обладает, по нашему мнению, и сама историко-литературная реальность «феномена Набокова».
Суждения о сути писательской индивидуальности во многом зависимы от культурно-эстетического фона, на который соответствующие произведения писателя проецируются исследователем или рядовым читателем. Отсутствие контекста, «нулевая» степень историко-литературного фона приводит к тем же малопродуктивным результатам, что и его безграничное расширение. В последнем случае любая историко-культурная аналогия оказывается произвольной, внеиерархичной и служит не конкретизации, а, напротив, размыванию историко-литературного статуса изучаемого автора.
В этом смысле имманентный, сугубо формоориентированный анализ набоковских текстов, как и противоположная филологическая тактика - «телескопический» взгляд на Набокова в контексте «мировой литературы», — дают в качестве исследовательских результатов намного менее ясное представление о сути его поэтики и стилистики, чем «специализированное» изучение их компонентов на фоне современных писателю художественных тенденций.
Главной целью нашей работы является системное описание контактных связей и типологических соответствий творчества Владимира Набокова с художественным наследием сформировавшей его как писателя эпохи рубежа XIX-XX веков. На наш взгляд, подобная систематизация необходима прежде всего для того, чтобы в конечном счете ответить на главный вопрос, встающий перед любым исследователем, имеющим дело с наследием автора набоковского калибра, -на вопрос о смысле его творчества.
Говоря об актуальности и степени научной разработанности темы, стоит отметить, что общее направление набоковедения за сорок с лишним лет своего существования радикально изменилось. От преимущественно мотивно-тематического, «изолированного» анализа набоковских произведений исследователи перешли к выявлению их эстетической генеалогии.
При этом доминировавший поначалу фон западноевропейского и американского постмодернизма к началу 1990-х годов перестал быть единственной «контекстуальной призмой»; весомые результаты были достигнуты в изучении связей Набокова с русской художественной традицией; наконец, стали появляться работы о взаимодействии Набокова с современными ему писателями русской эмиграции.
Однако представлениям о Набокове-писателе по-прежнему недостает историко -литературной системности.
Почти любая историко-литературная параллель, опробованная набоковедением, потенциально способна быть продуктивной. Так, не вызывает никаких сомнений перспективность изучения литературных «диалогов» Набокова с русскими классиками XIX века или его взаимоотношений с классиками европейского модернизма Марселем Прустом, Джеймсом Джойсом, Францем Кафкой.
Однако мы исходим из убеждения в том, что стилевая тональность этих взаимодействий, а также их смысловая направленность определялись творческими импульсами, рожденными ближайшей Набокову художественной эпохой. Поэтому приоритетным для автора исследования стал анализ творчества Набокова именно в контексте русской литературы конца XIX - первой половины XX века.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней приводятся в систему накопленные в набоковедении наблюдения о влиянии русской литературы конца XIX - начала XX века на русскоязычное творчество писателя и, что особенно существенно, эта же контекстуальная призма используется в анализе его англоязычного наследия, что дает возможность выявить новые грани смысла набоковских произведений. Мы стремимся показать, что «русская муза» не покидала писателя и в годы его англоязычного творчества, определяя стилистический тембр его «американской» прозы. Даже металитературные суждения писателя, собранные в книге «Твердые мнения», отражают никогда не прерывавшуюся связь Набокова с интеллектуальной и художественной атмосферой русского «серебряного века».
Материалом изучения в диссертации являются произведения В.Набокова разной жанрово-родовой принадлежности (стихотворения, рассказы и романы), в которых отчетливо преломились художественные традиции русского Серебряного века, а хронологические границы исследовательского обзора (1920-е — 1950-е годы) позволяют выявить стилевые механизмы и динамику этого преломления. Особенно подробно анализируются семь романов писателя - «Машенька», «Защита Лужина», «Подвиг», «Приглашение на казнь», «Дар», «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» и «Лолита».
Типологическое сопоставление поэтики и стиля Набокова с индивидуальными поэтиками и стилями (или стилевыми манерами) других мастеров слова представлялось нам более предпочтительным, чем изучение его персональных контактов с предшественниками, хотя последнее не исключалось. При этом нас интересовала серия сопоставлений не только по историко-литературной «вертикали» (с русской классикой начала XX века), но и в «горизонтальной» плоскости взаимодействия Набокова с другими «младоэмигрантами» - прежде всего, Гайто Газдановым и Борисом Поплавским.
В диссертации была учтена степень историко-литературной разработанности тех или иных аспектов сопоставительного изучения творчества Набокова и мастеров предшествующей эпохи. Вот почему, например, «бунинский контекст» восприятия набоковской поэтики представлен в работе лишь конспективно, в то время как параллелям с наследием Леонида Андреева посвящен цельный самостоятельный фрагмент исследования. Подобными же соображениями обусловлено приоритетное внимание к сопоставлению Набокова с теми из русских поэтов-модернистов, кто до сих пор почти не привлекал внимания исследователей и комментаторов его наследия, - Валерия Брю-сова и Иннокентия Анненского (темы «Набоков и Блок» и «Набоков и Белый» к настоящему времени изучены существенно основательнее).
Методология работы вытекала из необходимости установить связи между внешне разнородными (по жанровой принадлежности, тематическому материалу, времени создания и даже языку), но имеющими внутреннюю проблемно-стилевую связь элементами творчества Набокова, его предшественников и эмигрантов-современников.
Для реализации этой установки оказалось необходимым сочетание макро- и микроскопического путей анализа, соединение литературоведческого и языковедческого способов описания. «Любой крупный поэт образует школу не только благодаря непосредственному воздействию, но и потому, что его рабочая комната является кафедрой стилистики»1, - писал один из литературных учителей Набокова Андрей Белый. Вот почему в настоящей работе используется синтетическая описательная модель, спроецированная на пограничную (одновременно литературоведческую и лингвостилистическую) сферу взаимопроникновения «содержания» и «формы».
В этом смысле методология исследования основана на сочетании принципов сравнительно-исторического (компаративистского) изучения литературы с подходами структурного анализа текста. В качестве образца такой методологии можно назвать труды Е.Г.Эткинда. «Форма как содержание» - вот одновременно название его академического исследования и предельно краткое обозначение той филологической традиции, которой мы пытались следовать в работе.
«Материя стиха» - вновь и название капитального труда Е.Г.Эткинда, и указание на стержневую идею диссертации: прозаическое наследие В.Набокова в ней истолковано как поэзия, «притворяющаяся» прозой, как искусство «перевода» высших поэтических свершений начала XX века - через опыты поэтической драматургии -в новое жанрово-родовое пространство.
Исследование ставит своей целью вовсе не сплошной охват всех литературных произведений, влияний либо параллелей к наследию Набокова: оно стремится установить границы, структуру и ос-
1 А. Белый. Символизм. М., 1910. С.241.
новные стилевые механизмы того воздействия, которое оказало на Набокова искусство Серебряного века и которое побудило его сказать, что он был «взращен» и сформирован интеллектуально-эстетической атмосферой этой эпохи2.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее результаты могут найти применение в рамках учебных курсов по истории русской литературы XX века, истории литературы русской эмиграции, литературной компаративистике, а также при разработке учебных и методических пособий. Отдельные наблюдения автора работы могут быть использованы при составлении академических комментариев к текстам В.Набокова и учтены в переводческой практике.
Основные положения диссертации были апробированы в научных докладах, прочитанных автором на региональных, российских и международных конференциях и конгрессах. В ряду этих конференций - «Ломоносовские чтения» в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова (1997-2004), конференция «В.В.Набоков в русской и мировой литературе» в ИМЛИ им. А.М.Горького РАН (1999), «Крымские Набоковские чтения» (Симферополь, 2000-2004), международная научная конференция в польском Институте Русистики (Варшава, 2000), «Брюсовские чтения» (Ереван, 2002), конференция «Синтез искусств и рождение стиля» в ГМЗ «Царицыно» (2004), «Эйхенбаумовские чтения» (Воронеж, 2004), 1-й и 2-й Международные конгрессы исследователей русского языка (Москва, 2001, 2004), «Виноградовские чтения» в ИРЯ им. В.В.Виноградова РАН (2003), конференция «Диалог культур» (МГУ, 2002) и др.
Материал диссертации использовался в лекционных курсах «Литература русского зарубежья» и «Перекрестки взаимодействий: сопоставительное изучение русской и западноевропейских литератур XX века», а также в специальных курсах по творчеству В.Набокова, читаемых с 1998 года по настоящее время на филологическом факультете МГУ.
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, семи глав, Заключения и Библиографии. Она построена таким образом, чтобы выявить влияния литературной традиции конца XIX - первой половины XX века на разных уровнях произведений Набокова - от проблемно-тематического до микростилистического.
Основное содержание диссертации
Во Введении мотивируется выбор предмета и аспектов исследования, формулируются цели и задачи работы, определяется исследовательская методология и очерчиваются хронологические границы исследовательского обзора. В качестве исходной установки формулируется тезис о том, что главным героем набоковского творчества яв-
2 The Nabokov - Wilson Letters: 1940-1971 / Ed. By S.Karlinsky. N.Y., 1979. P. 220.
ляется русский язык, творящий великую литературу - даже и в иноязычной оболочке.
Первая глава диссертации «В.Набоков и другие: проблема контекстуальных связей его творчества в критике и литературоведении» посвящена истории вопроса. В ней дается обзор литературно-критических суждений и литературоведческих трудов, в которых творчество Набокова связывалось с традициями русского Серебряного века. В числе первых критиков, отметивших влияние на писателя опыта мастеров начала века, назван Г.Струве, который еще в 1930 году указал на преемственность Набокова по отношению к наследию Андрея Белого. В целом же эмигрантская критика в поисках стилевых параллелей гораздо чаще сопоставляла молодого писателя с Гоголем, Достоевским, Чеховым и даже Салтыковым-Щедриным, чем с художниками начала XX века. Это было связано с тем, что уже к концу 20-х годов Набоков, во-первых, уходит от сугубо «ностальгической» тематики, а, во-вторых, вырабатывает такую прозаическую стилевую манеру, которая не имеет прямых аналогов в творчестве ближайших предшественников.
В зрелой набоковской прозе «контактные» влияния, связанные с усвоением конкретных индивидуальных стилей начала XX века или персонально окрашенных тем, намного менее заметны, чем в его ранней поэзии. Это объясняется тем, что Набоков-прозаик наследовал не столько мастерам художественной прозы, сколько поэтам, будто перенося или «переводя» в иную жанрово-родовую сферу стилевые находки, совершенные в области поэтической выразительности.
Важно и то, что подобная «гибридизация» прозы шла не по линии избирательного усвоения приемов того или иного конкретного мастера: по отношению к индивидуальным стилям Набоков почти всегда предпочитал тактику пародирования. Для Набокова было более характерно не столько прямое или скрытое цитирование тех или иных «персональных» образных знаков, сколько тонкое использование самих принципов лирической поэтики. А потому наиболее интенсивно обновлялись в набоковской прозе глубинные, так сказать, музыкально-лирические компоненты стиля — не столько сюжетно-фа-бульные связи или образный строй, сколько субъектная организация, ритмика, фонетическая ткань текста.
Все это объясняет, почему приведенное выше суждение Г.Струве о близости набоковского стиля поискам Андрея Белого не получило существенной поддержки и развития в эмигрантской критике. Сам же Набоков внешне занимал позицию молчаливого невмешательства или даже подчеркнутого равнодушия по отношению к оценкам критики. Таинственность писательского «происхождения» уже в 20-е годы стала для Сирина-Набокова важным компонентом его публичной «персоны», существенной гранью его художнической самоидентификации.
Одним из первых заговорил о необходимости системного соотнесения набоковского наследия с эстетическими поисками начала века - вне зависимости от интенсивности тех или иных «персональных» влияний на Набокова и поверх родовых различий поэзии и прозы - редактор и комментатор набоковской переписки с Э.Уилсоном С.Карлинский. Важным было и указание С.Карлинского на литературу «серебряного века» (воспринятую вне направленческих перегородок) как на важнейший стилевой «субстрат» не только русско-, но и англоязычной набоковской прозы.
Эта исследовательская установка была развита в монографиях Д.Б.Джонсона и В.Е.Александрова, а также в серии работ А.Долинина, О.Сконечной, Б.Аверина, Ю.Левинга, В.Шадурского и других набоковедов. Эти исследования обозначили новый этап в развитии набоковедения, которое в 90-е годы все чаще и последовательнее обращалось к изучению творческих связей Набокова с Серебряным веком. Заметим, однако, что это изучение чаще всего шло по линии «Набоков - символизм». Главное, что объединяет эти работы, -верность принципам системности в истолковании Набокова и, что еще важнее, - нацеленность на выявление смысла (философского, психологического, эстетического) творчества писателя.
Противоположная литературоведческая концепция, сторонники которой считают стилевой доминантой творчества писателя игру как таковую, а потому анализируют его наследие как самодостаточное, вне связей с ближайшим литературным контекстом, представлена работами А. Люксембурга и Г.Рахимкуловой. На наш взгляд, исследовательская ориентация на игровой принцип как на ведущий в творчестве Набокова не способствует выявлению подлинного, «сверхреального» содержания его произведений.
В последнее время спектр сопоставлений творчества Набокова с Серебряным веком расширяется: отмечены типологические параллели с наследием М.Цветаевой, затронута проблема сложного взаимодействия стилевых систем Набокова и А.Ахматовой. В основном собран и прокомментирован историко-литературный материал об отношениях Набокова с бывшими «младоакмеистами» Г.Ивановым и Г.Адамовичем (речь идет прежде всего о работах Н.Мельникова).
К работам, в которых содержатся концептуально значимые обобщения, касающиеся отношения творчества Набокова к наследию предшествующей эпохи, можно прежде всего отнести статью МЛиповецкого «Эпилог русского модернизма (Художественная философия творчества в "Даре" Набокова»)». Русскоязычное творчество Набокова толкуется автором статьи в терминах «системного синтеза», «теснейшего взаимопроникновения символистской и акмеистической эстетик». М.Липовецкий одним из первых ясно сказал о степени на-боковской преемственности по отношению к символизму и акмеизму, о мере наследования им этих эстетических систем.
Из отечественных работ последних лет, посвященных творческим связям Набокова с писателями Серебряного века, тематической широтой выделяется шестой выпуск сборника «Набоковский вестник», который включил в себя статьи В.Старка, Л.Бугаевой, А.Филимоновой, В.Полищук, Е.Трубецковой, О.Ворониной и др. Большинство исследователей - участников сборника - избрали в качестве метода работы поиск мотивных или образных параллелей между произведениями Набокова и таких писателей, как Н.Гумилев, Ф.Сологуб, А.Блок, В.Брюсов, В.Ходасевич.
В завершающем фрагменте главы формулируется историко-литературная гипотеза диссертации. Едва ли не главный вклад Владимира Набокова в русскую и мировую литературу — освоение тактики «бесконечного расширения» художественного смысла, «матрешеч-ного» умножения семантических валентностей текста (признак подлинного символизма) при внешней отделанности и акмеистической завершенности отдельно взятого произведения.
Иными словами, символистская практика поиска и порождения множественных смыслов сплавлена Набоковым с акмеистическим «музейным» стремлением текста к статусу артефакта, с подвижной, но все же устойчивостью смысловых опор текста. В этом отношении ближайшими предшественниками Набокова можно считать: в русском символизме - Валерия Брюсова, в акмеизме - Николая Гумилева, а во «вненаправленческой» поэзии 1910-20-х годов — Владислава Ходасевича. Владимир Набоков принадлежал поколению писателей-эмигрантов, выросшему внутри модернизма. В этой связи вполне закономерно, что восприятие, время и память стали фундаментальными категориями набоковской эстетики. Закономерно и то, что В.Набокову всегда был присущ острый интерес к «оформляющей» работе художнического сознания, к тому уникальному отпечатку, который оставляет на «реальности» гений.
Во второй главе диссертации («Литература первой волны русского зарубежья: панорама идей и стилей») речь идет о преемственности литературы первой волны эмиграции по отношению к художественному наследию Серебряного века. Эмигранты «первой волны» сумели, по сути дела, воссоздать в миниатюре российское общество начала XX века — на первых порах менее «открытое» западным влияниям, чем это было в предреволюционной России. Эмигрировала
— не только в пространственном, но и в хронологическом отношении
— целая культурная эпоха. Хронологическая точка Серебряному веку в России была поставлена в 1921 году смертями А.Блока и Н.Гумилева, а следующие два года можно считать временем организационного и эстетического самоопределения эмиграции.
Именно культура серебряного века и стала духовной «почвой» русского зарубежья. Преемственность литературы русского зарубежья по отношению к отечественной литературе начала XX века оче-
видна уже по составу наиболее ярких имен: в эмиграции оказались бывшие реалисты-«знаньевцы» И.Бунин, И.Шмелев, Л.Андреев, А.Куприн, Б.Зайцев, символисты Вяч.Иванов, К.Бальмонт, З.Гиппиус, Д.Мережковский, «младшие акмеисты» Г.Иванов, Н.Оцуп, Г.Адамович, футуристы И.Северянин и Д.Бурлюк. Высокая степень витальности русской культуры, сила художественной инерции, заданной серебряным веком, проявилась в том, что за рубежом были во многом воссозданы традиционные формы консолидации литераторов — формальные писательские объединения и неформальные кружки, складывавшиеся вокруг признанных мастеров, а также сугубо «русская» практика «толстых» литературно-художественных журналов.
Однако преемственность литературы эмиграции по отношению к литературе предшествующей эпохи не была абсолютной: если в России начала XX века динамика литературного развития определялась оппозицией «реализм - модернизм», то в литературе диаспоры эта оппозиция оказалась во многом снятой. Прежние эстетические и тем более идеологические расхождения «бытовиков» и «декадентов» (так называли друг друга писатели противостоявших прежде направлений) отошли на второй план.
Дело, разумеется, не только в резко изменившихся внешних обстоятельствах литературного быта и возникновении принципиально нового политического рельефа, определявшегося противостоянием «мы - они» (эмигрировавшие и оставшиеся с большевиками). Уже в предреволюционное десятилетие контуры реализма и модернизма, прежде казавшихся относительно цельными художественными системами, оказались размытыми, главной эстетической тенденцией 1910-х годов критика считала стремление к «синтезу» достижений реализма и модернизма, а самым популярным обозначением нового стилевого синтеза стал термин «неореализм».
Этот термин фиксировал новую стадию эстетических поисков, но вовсе не обозначал нового литературного направления («направ-ленчество» предполагает сравнительно высокую степень мировоззренческого единства писателей). Значительно слабее сказался в литературе эмиграции тот элемент «артельности», солидарной работы во имя общих социальных или эстетических целей, который был весьма ощутим у писателей «горьковской» группировки или симво-листов-«скорпионовцев» до революции, у «новокрестьянских» или «пролетарских» поэтов Советской России. Творческое наследие большинства крупных мастеров зарубежья - это почти всегда замкнутая художественная система, автономный «художественный мир» со сравнительно однородным жанрово-стилевым регистром.
Ситуация своеобразного социально-психологического и эстетического «кокона», в которой оказались писатели-эмигранты (прежде всего старшего поколения), привела к сужению в их творчестве тематического репертуара, нарастанию металитературности (историко-
культурных и литературных экскурсов) и к параллельному углублению метафизической и экзистенциальной проблематики. Соотношение конкретно-исторических и общечеловеческих, «бытовых» и «бытийных» вопросов в творчестве эмигрантов в большинстве случаев (разумеется, в «высокой», а не в «массовой» литературе) складывалось в пользу последних, описательность уступала место лирико-фи-лософским обобщениям, социально-психологический детерминизм -рассмотрению человека в контексте вечных «радостей и скорбей».
Вытеснение конкретно-исторических принципов письма мифо-поэтическими особенно заметно в зарубежном творчестве писателей, предпочитавших прежде жизнеподобные формы литературы условным, любивших бытовую конкретность, материальную «фактур-ность» изображения (И.Шмелев, А.Куприн, И.Бунин, отчасти Б.Зайцев). Звучащий и пахнущий, сверкающий всеми красками радуги дореволюционный быт в их эмигрантских произведениях - это мир, трансформированный памятью и просветленный воображением, не столько воссозданный, сколько преображенный творческой волей.
Сам статус «объективной», не зависящей от восприятия человека реальности был решительно пересмотрен вчерашними «реалистами», сблизившимися - подчас неосознанно - с былыми оппонентами-символистами. Стремление сквозь «морок» повседневности прозреть «изначальное», поэтизация чувственно-прозорливого, «приметливого» мышления - все эти особенности (общие для многих мастеров старшего поколения эмиграции) существенно размывали их прежде фундаментальные расхождения с теоретиками и практиками модернизма. Сохранявшаяся разница стилевых предпочтений тоже не выглядела в литературе эмиграции столь отчетливой, как это было в дореволюционной России.
Едва ли не единственным общим убеждением большинства эмигрантов было страстное неприятие большевизма, но при всем разнообразии их мировоззренческих поисков можно выделить два преобладавших типа реакции на ситуацию изгнания и, соответственно, два варианта эстетического «выживания» на чужбине. Один из них, вызывающий ассоциации с консервативным изводом французского романтизма и, в частности, с творчеством Шатобриана (в свое время тоже эмигранта), заключался в поисках духовной опоры в ценностях традиционной веры. Другой, преемственно связанный с традициями романтического богоборчества, исходил из внутренних духовных ресурсов личности.
После двух десятилетий религиозно-философского «еретичества», попыток обновления христианства часть русской художественной интеллигенции, оказавшейся за рубежом, обратилась к традиционным конфессиям (например, Вяч. Иванов - к католичеству, И.Шмелев и Б.Зайцев — к православию). Сверхличное для этих писателей было принципиально важнее, чем индивидуально-субъектив-
ное. Иной, экзистенциальный вариант мировидения, получил в литературе эмиграции еще большее распространение, чем тяготение к христианской духовности.
Ретроспективный утопизм религиозных писателей и мыслителей, при всей его привлекательности для измученных изгнанием эмигрантов, был все же неприемлем для многих «детей» серебряного века, хотя еще большее отталкивание вызывал у них утопизм «перспективный» - большевистская идеология «коммунистического рая». Среднее и в особенности младшее поколение эмиграции (дебютировавшие в литературе, соответственно, в 1910-е годы или уже в период зарубежного «безвременья») опиралось в своем творчестве на личным опытом оплаченные и своей жизнью взращенные истины. Именно в литературе русского зарубежья нашло предельное выражение экзистенциальное сознание человека XX века.
На этом мировоззренческом фундаменте сложилась одна из ветвей эмигрантской литературы, представленная плеядой молодых парижских поэтов и прозаиков, тяготевших к старшим по возрасту Г.Иванову и Г.Адамовичу. Большая часть этого «незамеченного поколения» (термин В.Варшавского) избежала в своем творчестве мировоззренческой безнадежности и стилевых крайностей, присущих поздним произведениям Г.Иванова (прежде всего книге «Распад атома»). Тем не менее тематическое и, главное, интонационное сходство их творений заставляло воспринимать этих авторов как пусть аморфную, но эстетически самостоятельную группировку.
Ее идеологом и главным эстетическим арбитром стал поэт и критик Г.Адамович, обобщивший творческие принципы близких ему литераторов «лирическим» термином «парижская нота». Примером подлинной литературы он считал творчество И.Анненского, называя этого «старшего» символиста «единственно возможным, вместе с Блоком, претендентом на русский поэтический трон со смерти Тютчева и Некрасова». Главной для Адамовича мировоззренческой проблемой стала проблема «оправдания творчества», поиска этической опоры, позволявшей заниматься «эстетикой» в обстановке социально-исторической катастрофы.
Резко отвергая «обольщение бальмонтовщиной во всех ее видах», т.е. увлечение формальными поисками в искусстве, Адамович выдвинул требование литературного аскетизма и предельной искренности самовыражения. В сфере человеческих эмоций критик больше всего ценил чувство «круговой поруки» перед лицом «слепых судеб», трагической солидарности с обездоленными и умирающими. Состав тяготевших к «парижской ноте» литераторов был непостоянен и, по признанию самого критика, случаен, поэтому соответствующего литературного течения или даже «школы» с более или менее определенными творческими принципами не возникло.
Заметнее всего эмоциональные и стилевые веяния «парижской ноты» сказались в поэзии Б.Поплавского, А.Штейгера и Л.Червинской, хотя близость этому комплексу настроений просматривается у большинства молодых поэтов первой волны, печатавшихся в парижском журнале «Числа» (это Д.Кнут, Ю.Иваск, Р.Блох и др.). Акцент на гибельности и призрачности мира, пафос экзистенциального отчаяния, проповедь самоотречения, стремление к поэтическому «минимализму» (антиметафоризм, противостояние «громкости», дневниковая манера выражения, тяготение к форме незавершенного фрагмента, вплоть до обрыва стиха на полуслове) — вот наиболее общие особенности этой поэзии
«Поэтом» всерьез может считаться лишь тот, кто сознательно отказывается от формотворчества, предпочитая ему спонтанное «прозаическое» самовыражение, - таким был главный эстетический «символ веры» большинства младоэмигрантов. Переход от поэзии к прозе — едва ли не важнейший внешний вектор творческой эволюции В.Набокова. Однако персональная цель и внутренний, художественный смысл этого перехода оказались в разительном противоречии общему «пораженческому» пафосу, инспирировавшему в кругу поэтов «парижской ноты» подобные призывы. Набоковская эволюция направлялась иной идеей — идеей внутренней свободы художника от гибельных влияний эпохи.
Тотальная сосредоточенность на творчестве, признание самоценности искусства, обращение к эстетическим ресурсам русской и мировой классики - подобная позиция, как выяснилось, оказалась наиболее перспективной для сознания, лишенного догматически-религиозных или общественно-сакральных опор. Персональное видение мира в его живом разнообразии, отказ от генерализации во имя изощренной точности в передаче эстетических реакций на частное и дискретное - вот мировоззренческий фундамент набоковского творчества, сложившийся под влиянием литературной критики и поэтической практики В.Ходасевича. Хотя В.Ходасевич, как и его постоянный оппонент Г.Адамович, не создал «школы» или даже литературной группировки (а может быть, благодаря этому), последовательная защита им «пушкинских» принципов «тайной свободы» и формального совершенства произведений повлияла на творчество В.Набокова больше, чем любая иная современная писателю эстетическая позиция.
То, что двумя центрами притяжения литературной молодежи в эмиграции оказались поэты Ходасевич и Адамович, косвенно указывает на жанрово-родовые предпочтения эмигрантской литературы. Именно поэтическая культура серебряного века стала стилевым фундаментом всего массива литературы зарубежья. Центральное место в жанрово-родовой палитре эмигрантской литературы заняли лирические жанры (в том числе лирическая проза), в то время как в советской литературе к середине 20-х годов на лидирующие позиции вы-
шел эпос. Лиризм модифицировал и повествовательные жанры: характерно, что едва ли не самым продуктивным в эмиграции стал жанр автобиографии, синтезирующий родовые признаки эпоса и лирики.
В третьей главе диссертации («Роман В.Набокова "Дар" на фоне жанровых и стилевых приоритетов эмигрантской прозы») предпринята попытка наметить общую жанрово-стилевую типологию эмигрантской прозы, выявить те ее эстетические принципы, от которых мог отталкиваться и в полемике с которыми мог оттачивать свое мастерство Набоков-прозаик.
К середине 20-х эмигрантская проза постепенно преодолевает жанрово-стилевые диспропорции, связанные с первоначальным уклоном в публицистику, и восстанавливает традиционный баланс эпических жанров — рассказов, повестей, романов. При этом складывается новая, на этот раз тематическая диспропорция: материалом для художественной разработки гораздо чаще оказывается дореволюционное российское прошлое, чем современная жизнь диаспоры. Главным объектом творческого осмысления и преображения для писателей-эмигрантов стал материал прошедшей жизни.
Важна и ведущая стилевая закономерность: единство крупного эпического произведения, как правило, обеспечивалось не столько последовательным развитием сюжетных схем и стабильностью ансамбля персонажей, сколько композиционными ресурсами иной - лирической - природы (единством эмоционального тона, повторами тематических мотивов, сокращением или даже устранением дистанции между автором и героем). Эти стилевые тенденции особенно ярко проявились в мемуарно-автобиографической прозе эмиграции.
Своего расцвета эмигрантская проза достигает в конце 20 - первой половине 30-х годов. Именно в этот период создаются самые значительные произведения писателей старшего и среднего поколений: достаточно назвать такие прозаические шедевры, как «Жизнь Арсень-ева» И.Бунина, «Лето Господне» И.Шмелева, «Сивцев Вражек» М.Осоргина, «Державин» В.Ходасевича.
Еще важнее, что на рубеже десятилетий ярко заявляет о себе новое, младшее поколение прозаиков зарубежья, представленное именами В.Набокова, Г.Газданова, Н.Берберовой, Л.Зурова, И.Одоевцевой, Ю.Фельзена, С.Шаршуна, В.Яновского и др. В отличие от своих старших коллег, молодые писатели черпали темы и сюжеты своих произведений главным образом из эмигрантской реальности, стараясь при этом не только опираться на отечественные традиции, но и учитывать новейшие европейские художественные веяния. Господствующей тенденцией в прозе молодых писателей стало последовательное обращение к миру личности и отказ от претензий на создание эпически «объективных» картин реальности.
Главный вектор самоопределения парижской литературной молодежи был задан позицией журнала «Числа», стремившегося к по-
становке острейших экзистенциальных вопросов, связанных с проблематикой веры и неверия, соотношения «цели жизни» и «смысла смерти», определения возможностей и форм творчества в условиях глобального духовного кризиса. Решающее воздействие на стилевую эволюцию прозы «младоэмигрантов» оказал тот или иной выбор ответа на вопрос о соответствующих духу времени формах художественного самовыражения, о возможности для эмигранта полноценно творить на чужбине.
В этом отношении прозаики молодого поколения разделились на две количественно неравные группы. Большинство сотрудников «Чисел» и унаследовавшего традиции этого журнала парижского альманаха «Круг» сочувственно восприняли эстетическую проповедь духовного лидера журнала Г.Адамовича. Вместе с близкими ему по взглядам редактором «Чисел» Н.Оцупом и одним из влиятельнейших сотрудников журнала Г.Ивановым Адамович считал, что в художественном творчестве по-настоящему ценно лишь то, что напоминает о переживаемой человеком катастрофе, что вскрывает гибельность современного мира.
Попытки творческого преображения жизни в этой связи истолковываются либо как инфантильные утопии, либо как безнравственное литературное «ремесленничество» и даже «пир во время чумы». Искренность автора - вот, по мнению Адамовича, главный критерий оценки современной словесности, которая, как он считал, должна преодолеть «литературность» и обрести статус «человеческого документа». Стилевые веяния «парижской» литературной моды 30-х годов особенно ярко отразились в прозаическом творчестве Б.Поплавского, автора романов «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес». В жанровом отношении они представляют собой специфическую модификацию «прозы поэта»: традиционная модель жизненного пути автобиографического героя радикально преобразована здесь путем последовательной лиризации повествовательных и описательных фрагментов.
Романы Б.Поплавского - пример общей для молодых прозаиков «Чисел» и «Круга» стилевой тенденции к разрушению традиционных повествовательных структур и субъектной иерархии в прозе. Универсальной стилеобразующей инстанцией в их текстах, как правило, становился «лирический мир» авторского сознания, растворяющего себя в имитирующем «музыкальную стихию» потоке повествовательных, суггестивно-поэтических и медитативных фрагментов.
В конечном счете главным импульсом их прозаического творчества было стремление выйти за пределы «литературы», добиться эффекта исповедальной спонтанности, придать «черновику» статус подлинного художественного произведения. В менее авангардном, чем у Поплавского, стилевом варианте это проявилось в прозе Г.Газданова; в столь же, как у Поплавского, или еще более «неклассических» формах - в произведениях Ю.Фельзена и С.Шаршуна.
Прямо противоположную творческую позицию заняли В.Набоков, а также близкая ему по взглядам на суть творчества Н.Берберова. Для этих писателей «апокалиптическо-апоплексиче-ские» (формулировка В.Набокова) настроения в литературе -проявление художественной ограниченности, а «жизнестроитель-ское» неразличение жизни и творчества, как правило, свидетельствует о литературной бездарности автора. Искусство, по мнению В.Набокова, начинается тогда, когда память и воображение человека упорядочивает, структурирует хаотический напор внешних впечатлений. Настоящий писатель творит свой собственный мир, дивную художественную фикцию. Для Набокова недопустимо отождествление жизни и творчества. Подобное смешение, согласно его взглядам, приводит к художественной, а иногда и к житейской пошлости.
Недопустимость прямолинейного автобиографизма в творчестве побудила писателя намеренно избегать «сопереживательной» стилевой манеры, когда читатель настолько сживается с близким ему персонажем, что начинает чувствовать себя «на месте» этого персонажа. Приемы пародии и иронии неизменно возникают в набоковских текстах, как только намечается призрак жизнеподобия. Используются эти приемы и по отношению к близким автору персонажам, и по отношению к заведомо несимпатичным ему действующим лицам.
Вершиной молодой эмигрантской прозы стал роман В.Набокова «Дар», в котором популярная среди литераторов «парижской ноты» идея «черновика» (как адекватной современности формы творчества) была формально использована, но по сути иронически остранена и преодолена. Мотив «черновика» вводится Набоковым уже на первой странице романа - но в явно пародийном контексте. Повествователь, наблюдая за жильцами дома, стоящими у перевезенной мебели, замечает в скобках: «А у меня в чемодане больше черновиков, чем белья». «Белье» противопоставлено здесь писательским «орудиям производства» по принципу утилитарной «полезности - бесполезности», но при перечитывании опознается как «вещная маска» самого будущего произведения - его белового варианта.
С тематической точки зрения «Дар» представляет собой «свободный» роман, соединяющий историю литературного роста главного героя, сюжет его счастливой любви к Зине, исследование субкультуры русского Берлина 20-х гг., описание воображаемого путешествия в Среднюю Азию, меткие литературно-критические комментарии к обширному корпусу русской лирики 19-начала 20 веков, пародийную литературную биографию и, наконец, размышления о прихотливых отношениях судьбы и личной инициативы.
В романе, весь материал которого замкнут на восприятие главного героя, появляются десятки действующих лиц — реальных исторических или полностью вымышленных, а еще чаще гибридных, балансирующих на границе вымысла, литературной пародии и доку-
мента. Огромный «эпический» материал подвергнут здесь интенсивной «лирической» переработке, а лирические мотивы тонко вплетены в повествовательную ткань.
Набоковский роман соединяет в себе качества завершенности и принципиальной открытости, будто его автору удалось совместить акмеистическое требование окончательной отделанности текста и знакомую по литературной практике футуристов нелюбовь к финальным редакциям. Видение реальности как сложной совокупности нескольких субъективных версий этой реальности — амальгамы знаний и предположений, верований и иллюзий, зависимых от конкретной позиции наблюдателя, — достигает в «Даре» апогея.
В основе субъектной организации романа лежит двойственность повествовательного статуса главного героя. Федор Годунов-Чердынцев — одновременно персонаж (описываемый извне или изнутри его сознания, соответственно, в форме повествования от третьего или первого лица) и повествователь разворачивающейся истории или, иными словами, одновременно художник и его модель. Однако повествователь не является единственной инстанцией, управляющей текстом: в нем есть один, более высокий уровень организации, неподконтрольный Федору. Отношение сознания творца к используемому им «документальному» материалу — особенно неоднозначное, если этим материалом оказывается жизнь самого писателя, — и организует проблематику романа.
В «Даре» прослеживается впечатляющий рост писательского таланта Федора, причем его литературное становление не только иллюстрируется конкретньши его созданиями, но и отражается в тонкой эволюции самих способов повествования. Тренируя свой писательский голос, Федор к финалу становится способным контролировать степень лирической вовлеченности в изображение и остраненного ясного его видения, а одновременно постигает во внешне случайном сцеплении событий ажурные «тематические узоры» судьбы — этого верховного мирового художника. Авторская точка в последнем предложении функционально оказывается запятой, потому что приглашает вернуться к первому предложению романа и перечитать его как авторский беловик, написанный поверх черновика Федора.
Так разрешается ключевая для эволюции русской эмигрантской прозы проблема преобразования «жизненного хаоса» в произведение искусства («черновика» в «беловик»), так экзистенциальный опыт на-боковского поколения получает эстетическое оправдание. Набоков-ский вариант стилевого развития окажется позднее одной из самых влиятельных художественных моделей для русской прозы последней трети XX века. В этом смысле именно набоковское наследие стало своего рода «соединительной дугой» между Серебряным веком и рубежом второго и третьего тысячелетий.
В четвертой главе работы («Проблематика воплощения и поэтика "присвоения реальности" в прозе В.Набокова») анализируются два русскоязычных и два англоязычных романа писателя, связанных между собой идеей результативного «воплощения» и общностью художественных решений («Машенька», «Защита Лужина, «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» и «Лолита»).
Стилевым фундаментом этой общности во многом является поэтический субстрат набоковской прозы, который дает о себе знать прежде всего обилием в тексте фонетических эффектов и значимостью для Набокова категории ритма. Глубинная логика композиции почти всегда определяется в его произведениях точно рассчитанной вязью «тематических узоров» - «музыкальным» взаимодействием избранных мотивов, своеобразной «рифмовкой» ситуаций, перекличкой малозаметных подробностей.
Актуальная для Набокова-прозаика проблематика «воплощения» восходит к метафизическим поискам русского символизма и одновременно - к акмеистическому пафосу художественного «строительства». Набоковская проза с самого начала отличалась высокой степенью внутренней организованности, но качество «центростреми-тельности» — не только атрибут художественной формы, но и важная грань мышления и жизненных устремлений набоковских героев. Более того, телеология «проявления» и «закрепления», иерархической определенности, выстраивания «лестницы» модальностей непременно присуща авторскому сознанию.
Конкретные тематические вариации этой общей целеустремленности набоковских произведений, их тяготения к непременному (пусть порой и неочевидному) разрешению внутреннего конфликта могут быть различными. Это, например, мотивы итоговой реализации присущих персонажу ярких способностей - или, напротив, окончательного краха его псевдотворческих устремлений; финальной трансформации «жертвы» в «победителя» (или наоборот); не оставляющего сомнений выбора между житейским хаосом истории и вневременной гармонией оформившегося воспоминания - символическим жестом «присвоения» реальности в противовес безвольному «растворению» в ней.
Последний из упомянутых вариантов - последовательное «раз-воплощение» ближайшей персонажу социально-бытовой реальности и параллельная кристаллизация замещающих ее персональных воспоминаний — был опробован Набоковым уже в его первом русском романе. Само место действия «Машеньки» — скромный берлинский пансион по соседству с городской железной дорогой — напоминало о неустроенности полувокзального быта эмигрантов, о призрачности их «теневого» существования на чужбине.
Один из обитателей пансиона с нетерпением ждет приезда из России его жены Марии. Однако своему ожиданию Алферов склонен
придавать более широкий смысл. Он провоцирует главного героя романа Ганина на «символистскую» интерпретацию того житейского недоразумения, которое на первой странице романа свело их вместе в застрявшем лифте: предлагает видеть «нечто символическое» в их «встрече», в «неподвижности», в «великом ожидании».
Если последовать этим интертекстуальным подсказкам, явно вложенным в уста Алферова автором романа, то выяснится, что загадочный для читателя образ Машеньки строится на не лишенной пародийных отзвуков реализации младосимволистской мифологемы Вечной Жены в ее наиболее характерном «блоковском» варианте. В общем контексте набоковской прозы в «Машеньке» проступают пока еще осторожные экскурсы автора в сферу пародийной интертекстуальности, обыгрывания тем и мотивов поэзии начала XX века.
Большая часть повествования ориентирована на точку зрения Ганина. С момента, когда благодаря фотографии герой узнает в алфе-ровской жене свою первую возлюбленную (Машеньку), он в течение четырех дней воссоздает в своей памяти образ России, который стремительно замещает в его сознании берлинскую явь и становится подлинной и навсегда сохраненной для героя реальностью.
Завязке этого «лирического» сюжета непосредственно предшествует «установочное» высказывание любителя «символов» Алферова: «Пора нам всем открыто заявить, что России капут,... что наша родина, стало быть, навсегда погибла». Принципиальные расхождения Набокова с младосимволистской идеей жизнестроительства часто мотивируют введение в его тексты скрытой полемики. Этой идее он противопоставляет убеждение в том, что жизнь, преображенная в роман, и есть единственная надежная, не отменяемая никакими историческими потрясениями реальность.
Вот почему в финале Ганин отменяет первоначальное решение встретить и увезти с собой Машеньку. Ганинские воспоминания о Машеньке в романе Набокова — персонализированный образ общей эмигрантской мечты, их надежды на возвращение милой сердцу России. Однако вернуться она может лишь к тому, кто обладает даром воспоминаний, для кого воспоминание и воображение более реальны, чем породившая их реальность, - таков очевидный смысл концовки романа. Менее очевидна, но в перспективе набоковской эволюции показательна откровенно антисимволистская тенденция финального авторского жеста, принципиально разводящего искусство и жизнь, мечту и биографию.
Это тем более важно, что в обрисовке героини, давшей заглавие роману, Набоков намеренно использует младосимволистские, главным образом «блоковские» образные компоненты. Подобная образно-стилевая переимчивость в ранних стихах Набокова выглядела слабостью - чрезмерной зависимостью от «чужих» интонаций и образов:
Набокову-поэту в его первых сборниках для «настройки лиры» почти всегда был необходим чужой «камертон».
Но уже в первом его романе эта переимчивость (по отношению к поэтическому наследию начала XX века) обернулась стилевыми обретениями: «литературность» стала просвечивать тонким авторским умыслом, в соответствии с которым «чужие» художественные краски придавали повествовательному сюжету новую глубину, связанную с тонким интонационным балансом между лиризмом и ироничностью.
Потеря главным героем родины (а потом ее новое обретение) благодаря густой сети лирических ассоциаций в романе «по-блоков-ски» приравнивается к потере возлюбленной и новой встрече с ней -но уже в неподвластном времени «тайнике» сложившегося воспоминания. Оставшаяся в прошлой России Машенька становится для Га-нина «лицом родины», ее лирическим портретом. В этой связи особенно важна в романе цветовая палитра эпизодов с участием героини. Так, показательна откровенно «блоковская» — «синяя» окраска начинающей внутренний лирический сюжет книги шестой главы.
Еще одна черта набоковского прозаического стиля, которая проявилась в «Машеньке» и получит последовательное развитие в более зрелых его произведениях, - интенсивная, но пока еще больше служащая орнаментальности, чем семантическому обогащению текста, звукопись. В диссертации приведены примеры перенасыщенных ассонансами и аллитерациями фрагментов, образная ткань которых типологически близка стилистике ранней поэзии В.Брюсова. Декоративно-стилевая «чрезмерность», которая в равной мере характеризует раннее творчество Брюсова и Набокова, приводит к тому, что часть предметного значения слов размывается, слово сигнализирует не только о предмете речи, и даже не только об эмоции, владеющей персонажем (или лирическим героем), но и о страстном стремлении автора утвердить персональную неповторимость своего восприятия мира, о его желании придать радикально пересозданной и тем самым «присвоенной» реальности узнаваемо «личный» отпечаток.
В романе «Защита Лужина» проблематика первенства воображения по отношению к обыденной жизни и многослойности создаваемой им реальности получила дальнейшую разработку, а стилистические эффекты, связанные с использованием звука и ритма, стали важнейшим «строительным» материалом композиции, интенсивно влияющим на продуцируемый текстом смысл. Этот смысл, как и в лучших образцах поэзии начала XX века, неотделим от звука и ритма, точнее говоря, неразлучим с ними.
Безымянность Лужина на протяжении всего повествования (имя и отчество героя произносятся, когда его самого уже нет на свете) отчетливо функциональна. Это значимое зияние сигнализирует о том, что полного воплощения героя в «коммунальную» реальность так и не произошло. Между тем мотив воплощения (как и в дебютной
«Машеньке) - один из центральных в романе, где он звучит в нескольких образно-семантических вариациях, то сопутствующих, то противодействующих друг другу. Каждый из близких Лужину персонажей романа проецирует на него собственные жизненные ожидания, в каком-то смысле пытается подчинить его своей «творческой» воле.
Так, отец мечтает о том, что мальчик будет развиваться в соответствии с его, отца, прекраснодушными представлениями об идеальном ребенке и превращает его в беллетристического «Антошу». Антрепренер Валентинов уговаривает Лужина сыграть одну из проходных ролей в снимаемом фильме. Невеста Лужина видит в нем загадочного великана, которого необходимо окружить заботой, «как это делали тургеневские девушки». Каждый — в соответствии с собственным представлением о Лужине - пытается помочь ему обрести себя в жизни, а на самом деле — воплотиться в той или иной мифической роли. И всякий раз воплощение оказывается ложным, а разнообразные версии «настоящего Лужина» — иллюзорными.
Шахматные образы и аналогии, которыми пронизан роман, принадлежат к двум параллельным друг другу субъектным сферам произведения. Одна из этих сфер очерчивает мышление героя, воспринимающего жизнь в образах шахматной игры, другая представляет собой мир авторского сознания. Причина болезни Лужина - несбыточная попытка «перевести» события и факты внешней реальности на язык шахматной нотации и тем самым предсказать течение собственной жизни, в буквальном смысле преобразовать жизнь в шахматную партию и тем самым присвоить ее, сделать ее полностью подконтрольной своей творческой воле.
Но герою не удается предвидеть каверзы противостоящей ему действительности, которую он интерпретирует как некоего могущественного шахматного игрока. В этой связи в текст встраиваются не замечаемые Лужиным шахматоподобные аналогии. Автор старается говорить на том же, что и герой, шахматном «языке», но занимает более выгодную «смотровую площадку». Он видит больше, чем его герой, а главное - получает в свое распоряжение не отмеренный шахматным регламентом ограниченный отрезок времени, а «вечность».
Наличие или отсутствие контроля времени - самое важное для Набокова различие между смежными сферами шахматной игры и шахматной композиции, которая всегда интерпретировалась им как «родная сестра» поэзии. Показательно и эстетически значимо в этом отношении внешне «эпатирующее» решение Набокова объединить под обложками одной книги стихи и шахматные композиции (в сборнике "Poems and Problems"). Характерные для поэтики и эстетики Набокова оппозиции «игра — композиция», «линия - спираль», «проза — поэзия», «чтение - перечитывание», «историческое время - вечность», «биография - стиль» - в конечном счете могут рассматри-
ваться как частные проявления (вариации) самой фундаментальной для него мировоззренческой антитезы «жизнь - искусство».
Главная ошибка героя романа, роковой изъян его мышления -именно неразличение игры и жизни. Пытаясь перенести законы шахмат на внешахматную реальность, герой теряет статус творца. Трагический финал романа - капитуляция героя-короля. В финальном эпизоде в единый тематический пучок собираются ключевые мотивные нити романа; важное место в этом тематическом узоре занимает и мотив бездны, обнаруживающий при перечитывании множественность референций или, иначе говоря, семантическую многослойность и композиционную полифункциональность.
В синтагматической «плоскости» текста повторение этого мотива служит композиционным целям связывания, «рифмовки» разнесенных во времени эпизодов. Эти эпизоды благодаря общему образному компоненту «обмениваются» значениями, получают мерцающую «символическую» многослойность. Так, например, устанавливается ассоциативная связь между напряженной сценой поединка героя с Турати (он понимает «ужас шахматных бездн, в которые погружался») - и внешне сугубо «мирным» и не лишенным трагикомизма эпизодом первой брачной ночи, когда жена Лужина выглядывает в окно, чтобы увидеть, как «вдруг все погасло, и была только черная пропасть». С одной стороны, тем самым обнажается условность человеческих представлений о счастье, с другой - вскрывается непомерная жизненная цена того, что в человеческом окружении Лужина воспринимается всего лишь как игра, несерьезная забава.
Мотив бездны служит в романе и иным целям: по мере повтора в тексте этого «смыслового пятна» оно обрастает намеками на литературный контекст, тем самым обогащаясь не только «по горизонтали», но и по «историко-культурной» вертикали. В романе есть два эксплицитных упоминания о Л.Андрееве, между которыми автор размещает еще одну реминисцентную отсылку. В намеренно пестром предметном контексте дважды упоминается экзотическая деталь: «на желтом паркете... лежала белая медвежья шкура, раскинув лапы, словно летя в блестящую пропасть пола».
В соседстве с мотивом бездны и в присутствии воспоминаний героини о Л.Андрееве «пропасть пола» оборачивается не только атрибутом комнатного пространства, но и не лишенным мрачной иронии маркером литературной аллюзии. Эта двусмысленная в таком контексте деталь определенно указывает на нашумевший в свое время рассказ Л.Андреева «Бездна», спровоцировавший в критике обсуждение «вопросов пола». Важная перекличка рассказа с романом Набокова - в том, что персонажу Андреева, подобно Лужину, кажется, «что когда-то с ним было нечто подобное». Финал рассказа Андреева явно перекликается с концовкой «Защиты Лужина» и не оставляет сомнений в том, что «андреевская» экспрессионистская манера по-
служила Набокову одним из источников его стилевых решений: «На один миг сверкающий огненный ужас озарил его мысли, открыв перед ним черную бездну. И черная бездна поглотила его».
На фоне стилевых параллелей между романом Набокова и прозой Л.Андреева (это и контрастная черно-белая раскраска мира в воображении персонажей, и внимание авторов к «смещенным» состоянием их сознания, и общая «фаталистическая» устремленность сюжета к неотвратимому финалу) заметна существенная разница общей «художественной философии» двух писателей. В «Защите Лужина» итоговое поражение героя одновременно означает победу его создателя. Лужин как воплощенный образ талантливого шахматиста остается в рамках книги, надежно ограждающей его от внехудожествен-ной реальности. В этом смысле именно автор романа дарует своему герою неуязвимую «защиту» от обыденной реальности, главный атрибут которой - безжалостное время.
В 1924 г. Набоков написал три «шахматных сонета», в которых последовательно соотнес художественные атрибуты поэзии и шахматной композиции. При всей условности метафорического уподобления сонетной формы внутренним «узорам» шахматных задач, Набоков был склонен усматривать в их композиционном строении одинаковую подчиненность ритму и «кружевному» геометрическому рисунку. В этой связи вряд ли случаен тот факт, что внешняя композиция романа о шахматисте, изобилующего музыкально-поэтическими эффектами, напоминает структуру этой строфической формы: «Защита Лужина» состоит из четырнадцати глав - подобно тому, как сонет составляется из четырнадцати стихотворных строк.
Более того, повествование в романе структурировано таким образом, что позволяет выделить в «истории Лужина» четыре основных этапа. Одной из композиционных «матриц» в построении романа Набокову могла послужить схема сонета с его двумя катренами и парой терцетов, а также традиционная для этой строфической формы последовательность тематического развития. В диссертации аргументируется возможность увидеть в общем строении набоковского романа композиционный аналог форме сонета.
В «Защите Лужина» окончательно определилась проблемно-тематическая константа набоковской прозы - сознание постигающего и тем самым творчески пересоздающего (или химерически искажающего) мир субъекта, или, как говорил сам писатель, приключения разума, памяти и фантазии. По ходу стилевой эволюции Набокова варьируется конкретный тематический материал, но сохраняется установка на исследование творческих возможностей и тупиков человеческого сознания. Это сознание в прозе Набокова неустанно пытается поставить реальность «под контроль», навязать жизни свой «сценарий» или воплотить собственное представление о мире, т.е. стре-
мится, говоря словами И.Анненского, «ограничить» его собой, сделать полностью подвластным индивидуальной воле.
Обилием «шахматоподобных» эффектов и проблематикой «подлинного» воплощения «Защита Лужина» связана с первым англоязычным романом Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». Вместе с тем инвариантные компоненты набоковской прозы получили в этом романе новую стилистическую оркестровку, а проблема взаимодействия «своего» и «чужого» сознаний была существенно углублена. Принципиально новым стало введение дополнительного — языкового измерения этой проблемы.
Внешняя сюжетная канва романа в осложненном виде повторяет тот фрагмент «Дара», который посвящен работе Федора над биографией своего отца. На этот раз повествователь В. пытается написать правдивую биографию своего сводного брата Себастьяна, опираясь на свидетельства знакомых Себастьяна или его близких, а также на писательское его наследие. Чем ближе к разгадке подвигается поиск В., тем острее возникающее у читателя ощущение, что сам маршрут движения В. будто реализуют созданный воображением писателя Найта сюжет. «Реальная» и «романная» жизни причудливо сплетаются, обмениваясь сходными эпизодами, людьми-персонажами и деталями повествовательного фона.
Впечатление композиционной предуготовленности внешне случайных перемещений В. усиливается (как это прежде было в «Защите Лужина») интенсивным узором шахматных аллюзий, имплантированных в текст, но эта стилевая мимикрия полновесно обеспечена сложностью выражаемого им смысла. Принятое Набоковым решение перейти в литературном творчестве на новый язык актуализировало для него проблематику взаимодействия разных культур в пределах одного сознания, а применительно к собственному будущему - вопрос о способности сохранить уникальность «сиринского» дара, став англоязычным писателем Набоковым.
Вплоть до финальной сцены в «Подлинной жизни» удерживается хрупкий баланс между двумя версиями происходящего. С одной стороны, в романе рассыпаны намеки на то, что родство В. и Себастьяна - плод воображения биографа и что весь роман - проекция его буйной фантазии. С другой, - что В. являет собой повествовательную маску Себастьяна, пишущего заключительный роман. Однако эта патовая ситуация все же снимается финальным предложением: «Я - Себастьян или Себастьян - это я, или, может быть, оба мы - кто-то другой, кого ни один из нас не знает».
Важным смысловым ключом к роману становится код «зияния», ритмического сдвига, заданный непроизносимой литерой «К» в фамилии главного героя. Заметим, что числовое значение «К» в кириллице - 20. Вряд ли случайно в этой связи, что в «Подлинной жизни», как и в «Приглашении на казнь», - двадцать глав. Именно
«молчащая» буква «К» алхимически превращает "night" в "knight", метафору темноты и молчания - в эмблему искусства и рыцарства.
В романе семантизируются мельчайшие элементы текста. В такой ситуации элементы его микроуровней - цветовые детали, единицы фонического уровня, даже числа - образуют успешно конкурирующий с «предметным» значением текста стилевой шифр. Вот почему в финальном откровении В. о возможности понимания чужой души эта возможность предполагает пониманию стилевой уникальности «другого», умение находить «тематические узоры» его творчества. Принципиально важно при этом овладеть ритмикой - «чередой ослепительных пропусков», которые, по словам повествователя, «подделать невозможно», т.е. искусством «лирической недоговоренности». В перспективе писательского будущего Набокова «Подлинная жизнь» выглядит как авторская интуиция о стилистическом единстве его разноязычных творений и одновременно как рефлексия о драматизме самого пути к этому единству.
Самый принципиальный вывод повествователя - его мысль о «способности сознательно жить в любой облюбованной ... душе — в любом количестве душ» как залоге вечности и тем самым - условии причастности подлинному искусству. Главным претекстом, способным пролить свет на глубинные источники этой идеи, явилась для автора романа поздняя лирика Н.Гумилева - стихотворный сборник «Огненный столп» (1921) с его синтезом символистских и акмеистических принципов.
Одно из свидетельств тому - финальный пассаж эпизода с участием мистера Гудмена, автора биографической книги «Трагедия Себастьяна Найта», в котором лицо Гудмена наделяется «поразительным сходством с коровьим выменем» (Набоков использует здесь цитату из «Заблудившегося трамвая»). Гудмен действительно совершает в «Трагедии Себастьяна Найта» своего рода «палаческие» действия над Себастьяном, произвольно толкуя его биографию.
Между тем идея «смены душ» определяет внутреннюю логику лирического сюжета как раз в гумилевском «Заблудившемся трамвае»: это стихотворение Гумилева посвящено теме «путешествия в себя», познания себя в качестве «другого». Лирический герой «Заблудившегося трамвая» выступает визионером, непосредственно наблюдающим за своими «прежними жизнями», а в финале достигает слияния со своими прежними воплощениями.
Подобное же слияние двух индивидуальностей происходит и в финале набоковского романа. Оба потенциальных субъекта текста обретают статус персонажей и стилистических призм романа, а их «подлинной жизнью», их единым и не подверженным тлению материальным воплощением оказывается сам роман, написанный неизвестным им «другим». Тем самым в романе описаны три «реальности»: призрачная реальность бытовой жизни Найта, гротескная реаль-
ность биографической книги Гудмена и, наконец, стилевая реальность самого текста. Первые два аспекта — лишь «призматические грани», искаженные преломления не дающегося в руки повествователю, ускользающего целого.
Прикоснуться к этому целому, выразить «подлинность» найтов-ской жизни повествователю удается лишь стилем самой книги, написанной им будто под диктовку своего брата. Себастьян Найт - первая англоязычная «маска» писателя, еще недавно выступавшего под псевдонимом «В .Сирин», растворившего свою «русскую» стилевую идентичность под обложками созданного им романа и «воплотившегося» уже как "Vladimir Nabokov". Именно эта идея — написанная на «чужом» наречии книга как «новая душа» неизменного стиля - может считаться смысловым итогом романа.
Завершающий раздел четвертой главы посвящен анализу «географической» образности в романе «Лолита». Внутренняя хронология и топография романа, мимикрируя под привычные пространственно-временные обозначения, на деле являют собой искусно сплетенную хронотопическую «азбуку», отсылающую не столько к реальности Америки середины XX века, сколько к сознанию субъекта исповеди Гумберта Гумберта, воплощающего собой знакомый по творческой практике символистов тип художника-демиурга.
Создаваемый неистощимым на «плетение словес» Гумбертом образ «лиловой и черной Гумбрии» типологически соотносим, например, с образами «земли Ойле» в поэзии Ф.Сологуба или «волшебной страны Миррэлии» в творчестве И.Северянина. С другой стороны, свидетельства героя «Лолиты» о предпринятом им путешествии могут вызывать ассоциации с такими прецедентами «магической географии», как романы Эдгара По «Сообщение Гордона Пима» или В.Брюсова «Огненный ангел».
Страсть к литературной топографии, своего рода одержимость «картографированием» художественного пространства герой «Лолиты» разделяет с автором романа. Показательно, что Набоков приложил карту набоковских имений под Петербургом к изданию своей итоговой книги воспоминаний «Память, говори», но юг и север на этой «персональной» карте поменялись местами: вопреки общепринятой практике верх страницы соответствует югу, а низ - северу. Набо-ковская «картография» лукава: по воле автора карты географические нередко становятся своего рода джокерами-перевертышами. В том случае, когда текст ориентирован на точку зрения персонажа, восприятие этим персонажем пространства нередко управляется его эмоциональным состоянием. В таких ситуациях топография подчиняется либо «логике кошмара», либо «логике мечты». Сложную комбинацию двух этих логик и являет собой географический фон «Лолиты».
Гумберт Гумберт исповедуется перед воображаемым жюри присяжных не столько во имя самооправдания, сколько в попытке ис-
пользовать свой последний шанс на воплощение мечты - заставить Лолиту «жить в сознании будущих поколений». В соответствии с этой целью он и выстраивает свой рассказ, стремясь придать ему качества законченного художественного полотна и одновременно «географической» карты своей души. Тем самым вновь, как и в «Подлинной жизни Себастьяна Найта», «душа» перестает быть бесплотной метафорой и «пресуществляется» в стилевую «телесность» текста.
Одна из главных тенденций гумбертовского нарратива в «Лолите» - перевод «реального» пейзажа в «живописную» плоскость, трансформация географии США в «фантомографию» мифопоэтиче-ской Гумбрии. В диссертации приводятся примеры этой тактики повествователя. Так, внешний рисунок перемещений Гумберта и Лолиты пунктирно воспроизводит образ распахнувшей крылья бабочки, а упоминаемые Гумбертом по ходу его рассказа о путешествии топонимы, как правило, имеют двойное семантическое дно: помимо указания на место действия они служат знаком соответствующей эмоции или выполняют функции сюжетного предуведомления.
Особенно значимы для характеристики солипсического сознания Гумберта топосы острова, полуострова и лукоморья, ставшие важнейшими лейтмотивами его исповеди. Идея острова — одна из составляющих одержимости героя: стрелка внутреннего писательского компаса Гумберта постоянно указывает на острова и тем самым символически проявляет присущее герою противопоставление рафинированного обыденному. Являясь пародийным воплощением художника, реализующего себя в жизнетворчестве, Гумберт не желает оставаться в мире рутинного, стремится заместить его «творимой легендой», стать единодержавным властителем «королевства у моря».
Призрачная «география» Лолиты провоцирует на бесконечное читательское путешествие. С одной стороны, «демоническая сеть» географических образов в «Лолите» служит главной цели Гумберта -запутать в лабиринте интеллектуальной игры и «разоружить» читателя, эстетически нейтрализовать его этическую реакцию на существо рассказанного. С другой стороны, то перенимая свойства анатомического атласа, то преображаясь в индекс аллюзий, то становясь средством метаописания текста, то, наконец, намекая на его потаенные лирические значения, «география» «Лолиты» обеспечивает одно из важнейших качеств романа - его музыкальную недосказанность и содержательную многогранность.
Пятая глава диссертации («Поэтика соперничества: В.Набоков и писатели-эмигранты среднего и младшего поколений») посвящена выявлению «горизонтальных» литературных связей Набокова, контактным и типологическим схождениям и расхождениям его прозы с творческой практикой эмигрантов-современников. В первом разделе главы речь идет о рассказе «Уста к устам» как об акте стилистической «мести» Набокова его литературным хулителям - организаторам
журнала «Числа» Н.Оцупу, Г.Иванову и Г.Адамовичу. Журнал должен был возродить эстетические принципы «петербургской школы»: многие критики начала 30-х отмечали несомненное сходство «Чисел» с петербургским «Аполлоном». Уже в первом номере журнала появилась рецензия Г.Иванова с критической оценкой произведений В.Сирина. Автор рецензии не поскупился в ней на оскорбительные сравнения, называя писателя «хлестким пошляком-журналистом», «кухаркиным сыном, черной костью, смердом».
Как уже отмечалось историками литературы, организаторы «Чисел» обратились к состоятельному писателю-дилетанту А. Бурову с предложением опубликовать очередной его опус в журнале — с тем, чтобы преодолеть финансовый кризис. Получив согласие и деньги на продолжение издания, редакция поместила в пятом номере «Чисел» три начальные страницы его новеллы с примечанием «продолжение следует». Именно это мошенничество редакции послужило «прототи-пической» формулой сюжета в рассказе «Уста к устам», а фигура писателя-дилетанта позволила автору насытить текст рассказа элементами тонкой пародийной стилизации, объектом которой стало общее для Набокова и его недругов «литературное наследство».
Тонкость замысла заключалась в том, что жертвой окололитературного мошенничества в рассказе являлся литератор, чей жизненный и «эстетический» облик пародийно намекал на «культовые» для парижан фигуры «предакмеистов» М.Кузмина и И.Анненского. Тем самым подспудный эмигрантский спор о подлинных преемниках «серебряного века» переводился в плоскость «стилистического соревнования»: Набоков наносил своим оппонентам разящие пародийные уколы их «собственным оружием».
Сам заголовок рассказа (а одновременно и «шедевра» его главного героя) - пародийная аллюзия на поэзию Кузмина: «устами — стами» - многократно пародированная современниками Кузмина рифма из стихотворного сборника «Сети». Сюжетный смысл рассказа Набокова в том, что не знающий ни Кузмина, ни Анненского профан становится жертвой циничных владельцев журнала: их восторги по поводу таланта Ильи Борисовича были рассчитаны лишь на то, что он даст редакции необходимые для издания журнала деньги.
Однако «литературная месть» Набокова «знатокам» Аннен-ского и Кузмина многослойна: не ограничиваясь издевательским преображением факта литературного быта в сюжет рассказа, автор насыщает текст аллюзиями на творчество и на эмблематические грани личностей двух стоявших у истоков «Аполлона» петербургских поэтов. Ситуационная реминисценция (отложенная публикация стихотворений ИАнненского в «Аполлоне» как «прообраз» поступка редакции «Ариона» по отношению к роману Ильи Борисовича) подкреплена в рассказе Набокова точными «числовыми» соответствиями: возраст писателя-дилетанта совпадает с возрастом И.Анненского пе-
риода его драматического «романа» с редакцией «Аполлона» (обоим идет пятьдесят пятый год).
Цепь метаморфоз с псевдонимом набоковского героя (И.Анненский - Илья Анненский - наконец, уже в журнальной публикации, «никому не известный» А.Ильин) - ироническая инверсия по отношению к истории вхождения петербургского поэта в литературный мир (его первый сборник «Тихие песни» вышел под анаграмматическим псевдонимом «Ник. Т-о»). Наконец, мотив признания после смерти (этой утешительной мыслью лелеет себя Илья Борисович в финале рассказа) - еще одна «ситуационная рифма», использованная в рассказе Набоковым.
Не ограничиваясь этими намеками, Набоков заставляет «прозаика» Илью Борисовича использовать узнаваемо «анненские» (хотя и в до неузнаваемости опошленном виде) поэтические образы и психологические ситуации. Это и эмблематическое «рыдание скрипок» в первом предложении его романа, и общая ситуация нарастающего и драматически разрешающегося томления его героя, и чувство изнуряющей сцепленности души с внешним миром. Но самая эффектная стилистическая аллюзия на поэзию Анненского - фиксация кризисно-сти переживаемого мгновения, спрессованного между «еще» и «уже» (с этой характернейшей для петербургского поэта «двойчатки» наречий Набоков заставляет Илью Борисовича начать текст его романа).
В диссертации речь идет и о менее отчетливых, «мерцающих» намеках на общий культурный фон «священных воспоминаний» бывших «цеховиков». Но цель рассказа не сводится только к ироническим выпадам в адрес недругов Набокова. Самый яркий из молодых писателей эмиграции явно чувствует «петербургскую поэтику» своей стилистической территорией, обнаруживая в рассказе уверенное владение тонкостями «поэтической дикции» предшественников. Экскурсы в сферу пародийной интертекстуальности не отменяют, но, напротив, подкрепляют ощущение стилевой самобытности Набокова.
Второй раздел главы получил заглавие «Гумилевские подтексты в романах Г.Газданова и В.Набокова». В нем сопоставляются «Вечер у Клэр» и «Подвиг», при этом не только раскрывается гуми-левский аллюзийный пласт произведений, но и выявляется отклик Набокова на разработку «гумилевской темы» Газдановым.
В «Вечере у Клэр» отчетливо звучат гумилевские лирические темы, связанные с мотивами храбрости-трусости, жизни как метафизического путешествия в вечности и с эзотерической идеей «переселения душ», множественности существований. Рассказ о земных маршрутах биографии героя изобилует эпизодами узнавания «уже виденного»: сквозь хаос земного пространства проступают фрагменты с детства знакомой картины. Своей «внешней оболочкой» (кадет, гимназист, боец бронепоезда) герой принадлежит конкретной исторической эпохе, но «внутренним зрением» видит себя в окружении
конквистадоров, «рыцарей, совершающих походы». Реальная судьба осознается как «черновик» подлинного существования - существования в мире «вечных образов», в «лирическом мире». Образ бронепоезда, блуждающего по временам и пространствам, становится в романе Газданова своего рода реинкарнацией гумилевского «заблудившегося трамвая», а финальное отплытие Николая Соседова в Черное море ассоциируется с движением в «Индию духа».
Если в «Вечере у Клэр» мечта и реальность оставались параллельными, не пересекающимися плоскостями, то в набоковском «Подвиге» весь сюжет построен как постепенная реализация заданной детской мечты - как проявление «матричной» картинки, висевшей у изголовья детской кровати. Герой романа Мартын Эдельвейс наследует у лирического героя Гумилева дух бесстрашного путешественника, а в финале романа пересекает границу, проникая в сумрачную Зоорландию. Лишенный прагматических мотивировок поступок героя связан с его безответной любовью к Соне и отсылает к финалу стихотворения Гумилева «Девушке» (сб. «Чужое небо»).
Пафос воплощения и осуществления (в противовес газданов-скому пафосу недовоплощенности и неразрешимости) — в этой «акмеистической» перспективе Набоков использует в романе реминис-центные отсылки к лирике и биографической легенде Гумилева. Главный для понимания романа Гумилевский претекст - «Открытие Америки». Наиболее отчетливо эхо этого произведения звучит в двух «альпийских» эпизодах «Подвига». Это сцены рискованного испытания героем силы воли, проверка его готовности к финальному шагу, момент окончательного решения двинуться в Зоорландию.
Эти сцены сопоставлены в диссертации с «Песнью четвертой» «Открытия Америки», где лирический герой получает от Музы итоговую заповедь: «Будь как Бог: иди, лети, плыви!» По сути гумилев-ским текстом продиктован финальный жизненный поступок набоков-ского Мартына: Муза велит ему перейти границу жизни и смерти, окончательно утвердиться в статусе победителя, преодолеть земные измерения бытия. В контексте такого разрешения «гумилевской темы» в романе уместно вспомнить первую строчку юношеского стихотворения Набокова, обращенную к его литературному кумиру: «Гордо и ясно ты умер, - как муза учила».
В связи с тем, что Гумилев для Набокова был воплощением идеи рыцарского благородства и примером стоического сопротивления историческим обстоятельствам, весьма вероятно, что выбор Набоковым имени и фамилии главного героя «Подвига» неслучаен. Этот выбор мог быть навеян памятью о последнем эпизоде гражданской войны: как известно, последний пароход с оборонявшими Крым от большевиков белогвардейцами отплыл в эмиграцию из Мартыновой бухты в Севастополе.
В таком историко-символическом контексте сама фамилия Эдельвейс (нем. «благородный белый») напрашивается на буквальное прочтение, а финал набоковского романа выглядит поэтическим пророчеством о возвращении эмигрантов в Россию - пусть это возвращение и связано с восстановлением их не столько социального, сколько творческого статуса. Иными словами, Набоков связывает эту «реставрацию» не с перипетиями социальной истории, а со сферой причастного вечности творчества.
Третий раздел главы («Метафора "жизнь как сон" в романах Б.Поплавского и В.Набокова) посвящен сопоставлению романической дилогии «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес» с одним из вершинных творений Набокова - «Приглашением на казнь», охарактеризованным автором как его «единственная поэма в прозе». Внешних оснований для сопоставления творческих манер Набокова и Поплав-ского немало: это и лирический субстрат их прозы, и художественное двуязычие, и тяготение к «неклассическим» повествовательным формам. За Поплавским закрепилась слава самого последовательного из русских писателей XX века «сюрреалиста», а «Приглашение на казнь» порой интерпретировалось (и не без оснований) как роман, написанный в сюрреалистической стилистике. Однако композиционные функции сходных повествовательных форм и семантика «сновидче-ских» образов в произведениях двух «младоэмигрантов» оказываются несходными, а сама фундаментальная оппозиция «сна» и «яви» получает противоположное метафизическое наполнение.
Хотя зачин первого романа Поплавского и значительная часть второго имитируют автобиографическое письмо (воспроизводят схему духовных исканий героя), движение текста чаще всего мотивируется принципом постепенного разглядывания как бы параллельной по отношению к реальности и исключенной из потока времени картины. Эта картина подчинена «сновидческому» принципу дейктиче-ской неопределенности. Именно «сон» - самое естественное для большинства персонажей состояние. Еще важнее, что развернутая метафора «жизни как сна» использована для характеристики отношений между миром и Богом. Традиционное уподобление получает у По-плавского резкое экзистенциальное заострение: несовершенная жизнь истолковывается как «греховный сон Бога», а драма человеческой несвободы связывается с тем, что «...каждый человек абсолютно в плену у своего сна о Боге». «Сновидение» оказывается главным модусом существования и мира, и его создателя. В этой ситуации формально «неправильные», «антилитературные» особенности текста (нарушение визуальных пропорций, взаимозамещение двух и более персонажей, немотивированное перетекание прозаической речи в поэтическую, незавершенность сюжетных конструкций и даже грамматические или синтаксические ошибки) получают неожиданную мета-
физическую мотивировку, они - всего лишь адекватное отражение «хаоса и неврастении миров».
Если в романах Поплавского оппозиция «сна» и «яви» так и не получает итогового иерархического закрепления, граница между этими состояниями остается намеренно размытой, то Набоков на протяжении всего романа последовательно ведет героя к экзистенциальному «пробуждению», к финальной метаморфозе «сновидения» в «ясновидение», радикально преобразуя по ходу сюжета семантику ключевых образов «сна» и «яви».
Бессонница последних дней Цинцинната контрастирует с его сомнамбулическим состоянием первых двух недель заключения: поначалу он словно спит наяву, а его внутренняя духовная активность проявляется именно в сновидениях. Привычная семантическая оппозиция понятий «явь» и «сон» переворачивается, слова будто обмениваются значениями. Однако в последнее утро герой делает важный для себя вывод: «Странно, что я искал спасения. Совсем - как человек, который сетовал бы, что недавно во сне потерял вешь, которой у него на самом деле никогда не было...».
Тем самым значения «сна» и «яви» перестают соотноситься с засыпанием и бодрствованием, а начинают характеризовать разные полюса «проснувшегося» сознания героя: с одной стороны, его реакции на тюремную квазиреальность, а с другой - его интуиции о подлинном мире. Цинциннат догадывается, что «называемое снами есть полудействительность». «Сон» оказывается пограничным пространством между истиной и фикцией, а направление движения между этими полюсами зависит, в конечном счете, от творческой воли героя и, что еще важнее, от эстетической позиции автора.
Там, где Б.Поплавский нивелирует дистанцию между автором и героем, Набоков последовательно разводит два повествовательных уровня - собственно дискурсивный («черновиковые» наброски Цин-цинната) и «вневременной» (уровень авторского «дооформления», преображения «черновика» в законченный текст романа). Сознание автора - вот та сфера «ясновидения», в сторону которой по ходу романного действия движется сознание постепенно пробуждающегося от «тяжкого сна духовного томленья» персонажа.
Завершающий роман стилевой ход автора — указание на итог творческого свершения его героя: он попадает в круг «подобных ему» существ, т.е. достигает той стадии мастерства, которая обеспечит ему «продленное» бытие. Комментарием к роману Набокова может послужить анапестическая строчка написанного в том же, что и «Приглашение на казнь», 1934 году стихотворения О.Мандельштама: «Часто пишется казнь, а читается правильно - песнь».
Шестая глава работы («На перекрестье традиций: русские и западноевропейские подтексты в произведениях Набокова») включает в себя разделы, связанные с выявлением типологических параллелей
между прозой Набокова и стилевой практикой его русских и зарубежных предшественников. В первом разделе речь идет о «брюсов-ской» доле полученного Набоковым от Серебряного века наследства. Отправным пунктом при этом служит поразительная перекличка -между именем героя-протагониста ранней брюсовской пьесы «Проза» (Владимиром Даровым) и названием самого крупного из набоковских русских романов («Дар»), главной «героиней» которого, по словам самого Набокова, стала русская литература. Набоков не мог знать текста не публиковавшейся брюсовской «Прозы», однако нетрудно предположить, что его учитель литературы, в прошлом петербургский поэт-символист Вл.Гиппиус, лично знакомый с Брюсовым, не мог не повлиять на литературный кругозор своего писавшего стихи и практиковавшего стихотворный перевод ученика.
Самое очевидное проявление типологического параллелизма, явленного наследием Брюсова и Набокова, - нередкое в текстах Набокова использование центрального для эстетики Брюсова образного концепта «ключей тайн». Согласно Брюсову, земная жизнь, эта «голубая тюрьма», к счастью, не является единственной реальностью: «Из нее есть выход на волю, есть просветы». Именно эта идея побега из «тюрьмы» псевдореальности определяет сюжетную логику многих набоковских романов (а в «Приглашении на казнь» даже сюжетно реализована). Мотивы творческих «ключей» к счастью и «просветов» - едва ли не самые частотные в набоковском мотивном репертуаре.
При этом и Брюсов, и Набоков не отказываются от продуманности, ясности концепций и точности композиционного расчета - в пользу игры воображения или мощи подсознания, на что делали ставку «дионисийствующие» мифотворцы (Бальмонт и младосимво-листы) или некоторые поэты-эмигранты «парижской ноты». В наиболее совершенных созданиях Брюсова и Набокова присутствуют жанровые компоненты «исследовательского открытия» и «учебника творчества». Таковы брюсовские сборники 900-х годов и «Дар» Набокова: в них точно соблюдены пропорции лирической вовлеченности в изображение и остраненного, ясного его видения.
Черта, безусловно объединяющая Брюсова и Набокова, - гармоничное совмещение «своего» и «чужого» восприятий в пределах одного текста (романа или сборника стихов). Это и последовательный интерес к инонациональным культурным пластам, и обращение к проблематике взаимодействия «своего» и «чужого» в человеческом сознании, и лингвоэстетический глобализм устремлений позднего Брюсова («Сны человечества») и позднего Набокова («Ада, или страсть»). Частное проявление этой тенденции - активная переводческая деятельность, причем направление эволюции переводческих принципов у Брюсова и Набокова почти идентично: от переделок и адаптации раннего периода - к строгому переводческому буквализму последнего этапа творчества.
Сходно у Брюсова и Набокова и отношение к концепту времени. Порывая с временным упорядочиванием текста, брюсовская и набоковская версии модернизма тяготеют к синхронизации, к пространственному, рядоположенному видению разнородного опыта (в этом смысле промежуточное между ними историко-литературное звено - творчество другого тенишевца и бывшего ученика Вл.Гиппиуса - О.Мандельштама, особенно его проза 20-х годов).
Для художнического сознания как Брюсова, так и Набокова характерно, что полярности, существующие между личностями, переводятся в их произведениях внутрь единого сознания героя, соотносятся с противоположными полюсами внутри отдельной личности (потому столь значимы для обоих темы двойничества, теневого соперничества двух «я» одной индивидуальности). Типичная брюсов-ско-набоковская стилевая комбинация - сочетание предельно рискованных тематических компонентов - всего того, что связано с духовной или физиологической одержимостью, а также творческим или интеллектуальным исступлением - и «аполлонически» отделанных композиционных структур, выверенных образных пропорций, отшлифованной словесной поверхности. Именно этот «внутренний конфликт» раскованной, «дионисической» тематики и устойчивой, надежно сбалансированной, едва ли не «парнасской» образной оболочки можно считать главным энергетическим ресурсом лучших брю-совских и набоковских творений.
В диссертации предложено прочтение некоторых эпизодов «Дара» и «Лолиты», в которых предположительно пародируются некоторые грани брюсовского стиля и его персональной литературной мифологии. В целом представляется, что в эстетической родословной Набокова, где так много гибридов и пересечений, есть, пусть и радикально трансформированная, брюсовская наследственная линия. Главный ее опознавательный знак - исследование тех самых «бездн» человеческого сознания и того «ада» человеческой страсти, на которые одним из первых в русской литературе указал Валерий Брюсов.
Во втором разделе главы речь идет о функциях встречающейся в прозе Набокова ритмической модели «заикания». Речевые сбои нередко тематизируются писателем. Учащающиеся «пеньки запинок» (синтаксические несуразности, морфологические кентавры неологизмов и т.п.) в речи персонажа иногда настойчиво сигнализируют о творческом усилии героя, о попытках его лирического самораскрытия. В разделе предложен комментарий к нескольким внешне безобидным «опечаткам» в «Лолите», к тем «спотычкам» «дикции» двух разноязычных версий романа, которые позволяют разглядеть в нем один из важных подтекстов.
Набоковские автопереводы, сколь бы внешне строгими они ни казались, содержат миниатюрные поправки и дополнения, служащие целям автокомментирования, прояснения тех или иных штрихов ав-
торского замысла. Это в особенности касается авторского перевода «Лолиты». В русской версии романа более ощутимым становится присутствие «кэрролловского» подтекста. Отличительной особенностью речи говорящего по-русски Гумберта становятся именно «слоговые близнецы». «Кокрестьянка кокончиком языка...» - едва ли не «кукарекает» Гумберт в сцене, когда он избавляет Лолиту от попавшей в глаз соринки.
Американская семиклассница превращается в русской версии в третьеклассницу (интересно, что в черновике перевода последовательно отбрасываются предшествующие слову «класс» числительные: «седьмой», а потом и «пятый»). В некоторых фрагментах усиливается тенденция к корнесловию, морфемному переразложению, использованию каламбуров, реализации метафор — в ход идет весь арсенал словотворчества, знакомый читателю произведений Кэрролла. Все эти приемы интенсивно используются и в англоязычной версии, однако, только имея перед глазами оба варианта романа, можно оценить подлинный масштаб фоносемантической «мимикрии» текста.
Едва ли не самый замечательный образец такого рода - русификация alter ego Гумберта Клэра Куильти и, главное, всей системы «фонетических» подсказок, которые загодя, до признания Лолиты, формируют в тексте звуковой образ похитителя нимфетки. Набоков-переводчик не сразу нашел итоговую форму фамилии этого перс о -нажа: среди позднее отброшенных вариантов в черновике присутствовали варианты «Кви-ты» (прямое указание на «двойничество» Гумберта и его противника) и «Квильти» (фонетический эквивалент фамилии, использованной в оригинале). Итоговая форма мотивирована возможностями фонетически акцентировать «запрятанный» в сердцевину фамилии союз («иль»), а главное, - построить «криптограмма-тический» поиск «виновника» трагедии с опорой на используемый русскими детьми (при игре в прятки) возглас «ку-ку».
Все это не означает, что «кэрролловский» подтекст потеснил в русской версии «Лолиты» зашифрованные отсылки к иным литературным и историко-культурным явлениям. Точнее было бы сказать, что написанная по-русски «Лолита» позволяет отчетливее увидеть в оригинальной версии те узелки аллюзий и узоры ассоциаций, которые были особенно важны автору романа. Сигнализируя об этих «заветных закоулочках», автор позволяет себе порой отступать от исповедуемых им принципов строгого буквализма в переводе и изредка уснащает новую версию текста дополнительными «спотычками».
Влияние поэтического стиля Эдгара По на русский символизм и стилевую практику В.Набокова - тема третьего раздела главы. Речь идет прежде всего о звукосимволизме - умении не просто создавать «стереоиллюзию» звучащего мира, но возвести определенные звуки и их сочетания в статус знамений, придать фонетике свойство смысло-порождения. Именно Э.По стал для многих русских символистов
учителем в области выражения «невыразимого», вербализации «несказанного». В этом отношении едва ли не самым влиятельным текстом По оказалось его знаменитое стихотворение «Ворон». «Эхо» образов, навеянных «Вороном», можно проследить, например, в стихотворении З.Гиппиус «Никогда».
Эдгаровский стилевой комплекс - сочетание рационального и магического, ставка на внушение настроения — во многом определил и специфику прозы В.Набокова. И американский романтик, и Набоков явно небезразличны к фонетике и «звукосмысловому» потенциалу собственных имен. В то время как в обыденной реальности собственное имя остается всего лишь идентифицирующим знаком и не несет в себе скрытых смыслов, контекст художественного произведения способен преобразовать имя, превратить его в символ, в идеальный коррелят того пластического образа, который появляется под этим именем в произведении.
Создавая «Лолиту» - роман о любви мужчины-европейца к американской девочке - Набоков избрал характерную для его зрелой прозы полупародийную тональность, особенность которой в том, что лирический пафос и ироническая рефлексия взаимодействуют и взаимокорректируются, создавая пусть хрупкий, но выверенный баланс знания и сомнения, пусть неустойчивую, но гармонию «чувства и разума». Главный герой романа Гумберт Гумберт не упускает случая сослаться на историко-культурные прецеденты страсти к нимфеткам. Среди исторических лиц и литературных персонажей, с которыми ассоциирует себя автор «Исповеди белокожего вдовца», центральное место занимает Э.По (история его любви к Вирджинии и знаменитое стихотворение «Аннабель Ли»).
Но Гумберт не в полной мере осознает, насколько прихотливо его отношения с Лолитой «рифмуются» с мотивно-тематическим комплексом и даже фонетическими особенностями творчества По. Одержимость Гумберта идеей вернуть себе исчезнувшую возлюбленную и одновременно избавиться от своего «теневого» двойника (Ку-ильти) - этот центральный сюжетный импульс «Лолиты» конденсирует важнейшие мотивы лирики и детективных рассказов Э.По, хотя и предъявляет их в пародийном свете. Более того, сама звуковая форма имени «предшественницы» Лолиты (Аннабель Ли) служит «путеводной нотой», музыкальной тональностью для изобилующего фонетическими эффектами текста.
В собирательной фигуре Гумберта-лирика не только отразились некоторые аспекты жизни и творчества Э.По, но и проступили неявные, «мерцающие» ассоциации с устремлениями русского «серебряного века». В разделе проводится параллель между романом Набокова и знаменитым стихотворением И.Анненского «Смычок и струны (центральном в «Трилистнике соблазна»).
Звуковые ассоциации и летучие акустические впечатления кажутся слишком эфемерной «художественной материей», чтобы на их основе строить надежные выводы о писательских влияниях и стилевых тенденциях. Но, вероятно, В.Набоков мог бы вслед за любимым им А.Блоком метафорически уподобить стихотворение (а в общем-то, и роман) покрывалу, растянутому на остриях нескольких слов. Не только в поэзии, но и в прозе Набокова подобным свойством «звукового свечения» обладают собственные имена, заставляя вспомнить о пионере подобной звукосимволической практики - авторе «Линор», «Ворона» и «Аннабель Ли».
В четвертом разделе главы, озаглавленном «Метафизика перевода и "гибридизация языков" в романе "Под знаком незаконнорожденных"», анализируется второй англоязычный роман Набокова, органически продолжающий заявленный в «Истинной жизни Себастьяна Найта» мотив утверждения художественного творчества как единственной формы подлинного существования в мире, навязывающем правила неподлинной жизни.
Одной из важнейших в романе стала проблема переводимости художественных шедевров на другие языки и - в этой связи - неоднозначный статус переводчика. В диссертации анализируется шекспи-ровско-джойсовская составляющая этих мотивов романа, выявляется двойственное отношение Набокова к искусству художественного перевода (буквальный перевод оставляет только «пепел» от «огня», а любой другой перевод убивает оригинал), а также его трактовка феномена «гибридизации языков». На конкретных примерах «подпольного» русскоязычного мышления Набокова доказывается, что и это произведение правомерно назвать проявлением иноязычного «инобытия» русской литературы.
Седьмая глава диссертации посвящена проблемам набоков-ской микростилистики. В англоязычном стихотворении «Вечер русской поэзии», построенном в форме диалога лектора со студентами, язык русской поэзии соотнесен с образами природных явлений, которые в своей совокупности образуют характерный для набоковского творчества комплекс мотивов: это шум речной воды, бормотание детей во сне, сияние радуги и разнообразные реалии фауны и флоры. При этом выбором конкретных реалий (метафорически соотносимых с русским языком) управляет установка автора на фонетическую имитацию общего тона русского стиха. Набоков специально подчеркивает, что носителями лирического смысла в русской поэзии могут быть графическая форма букв и акустические эффекты текста.
Как показывает Набоков, звуковая картина мифологического королевства «русской поэзии» текуча и многоцветна, но в иерархии ее звуковых «маяков» на первое место автором выдвинут «л» (в комбинации с различными гласными, но чаще всего с «и», «а» и «о»), а место по соседству с этим звуком-фаворитом отведено «т». Привиле-
тированное положение звуковых сегментов, включающих «л», не только эксплицитно утверждается (английской фонетикой), но и имплицитно подразумевается: это происходит, когда перечисляются любимые лектором образы русской поэзии, при этом русские слова формально не звучат, но немедленно отзываются в сознании владеющего русским языком слушателя. Так, отвечая на вопросы студентов о любимых деревьях и животных, лектор прямо называет "fir tree" (ель), а метафорически и анаграмматически намекает на соловья: "that bird of bards, regale of nights..." (буквально «певчая птица, пиршество ночей»; показательно и анаграмматическое присутствие англоязычного «соловья» в словосочетании "regale of nights").
Во втором разделе главы, посвященном выразительным возможностям пунктуации, рассмотрены примеры сознательной семан-тизации Набоковым знаков препинания. С опорой на методику анализа, разработанную Д.Б.Джонсоном, предложено прочтение рассказа «Памяти Л.И.Шигаева», в котором на пространстве семи страниц 20 раз использовано многоточие. Прежде всего, этим знаком отмечены возможные лакуны, пропуски в воспоминаниях повествователя о только что умершем человеке (такое использование знака вполне традиционно).
Еще одна его функция - сигнализировать о сбивчивости речи, о взволнованности рассказчика, для которого герой его воспоминания стал в последние годы самым близким человеком. В подобных фрагментах реализована внутренняя форма самого понятия «знак препинания»: многоточие становится знаком «запинки», «преткновения» в речи рассказчика. Использование последовательности «многоточие - двоеточие - точка» в иконической функции (для образного закрепления идеи «иссякание» реальности, замирания, остановки) проиллюстрировано стихотворением «Поэты». В разделе приведены примеры семантизации в набоковских текстах других знаков препинания - тире, восклицательного знака, скобок, а также курсивных выделений.
В третьем разделе главы демонстрируется стилевой эффект «истекания» реальности из звука в прозе Набокова. В его произведениях именно звуковая фактура текста нередко предвещает главное событие разворачивающегося сюжета или предваряет появление того или иного значимого образа. Тем самым словно реализуется, художественными средствами утверждается лирическое предположение О.Мандельштама о том, что «быть может, раньше губ уже родился шепот»: прежде чем пластически закрепиться, тот или иной визуальный образ проявляется в тексте как мозаика звуковых сцеплений. Звук последовательно и неутомимо ищет себе подходящую визуальную оболочку или - скажем об этом иначе - исполняет роль «первотолчка», начального импульса формирования образа. Прежде чем этот образ получит имя (а значит - самостоятельную жизнь в тексте
романа или рассказа), фонетические компоненты этого имени непременно «просигналят» читателю о его «приближении». Подобный стилевой эффект используется Набоковым, в частности, когда речь заходит об ожидании героем встречи, которая должна изменить его жизнь. Особенно часто роль «звукового магнита», притягивающего к себе необходимые пластические компоненты образа и попутно управляющего фонетическим составом текста, выполняет у Набокова женское имя.
В разделе показано, как подобная стилевая практика определяет внутреннюю композицию рассказа «Первая любовь» (позднее текст рассказа составил седьмую главу «Других берегов»). Звуковая форма имени «Колет» становится в тексте носителем лирических ассоциативных значений, пробуждаемых контактным или дистантным повтором составляющих имя звуков (пример контактного повтора — «осколок фиолетовой раковинки»). Поначалу звуковые повторы могут восприниматься как всего лишь стилистическая аранжировка повествования, но по мере выявления читателем этой глубинной лирической мелодии композиционный статус и смысловая валентность звукописи повышаются - «звуки и буквы» претендуют на роль «знаков и символов», отсылающих к «подлиннику», лирическому источнику возводимой жизнеподобной декорации, на роль маркеров сверхреальности, символистской "геаЦога".
Многоцветная реальность, изобилующая в прозе Набокова «милыми мелочами» подробностей, обогащенная игрой теней и отражений, рождается звуком и ритмом, чтобы обрести статус завершенного произведения и стать подлинной реальностью в «стеклянной ячейке памяти». Возможно, специфика художнической памяти Набокова — в приоритете звука над другими сенсорными реакциями. Потому и название книги воспоминаний («Память, говори») звучит у него как апелляция прежде всего к звуковой, сверхпонятийной ипостаси творчества. В этом отношении Набоков - самый яркий из прозаиков XX века наследник «серебряного века» с его завороженностью «поэзией как волшебством».
Заключает главу раздел «Лирические артикли в прозе В.Набокова», в котором выявляются семантические ореолы частиц «ли» и «бы», чрезвычайно частотных в прозе писателя. Семантический ореол «ли» — интуиция об инобытии, надежда на результативное творческое усилие, которое позволит преодолеть тяготы земной реальности; напротив, «бы», как правило, сигнализирует об ошибке сознания, труднопреодолимом препятствии на пути героя, остановке или прекращении движения. Нарастание фонетических повторов этих звуковых комплексов должно активизировать ассоциативное мышление читателя, направляя его на поиск «параллельных», «лирических» значений текста. Подобная практика использования частиц как «лирической клавиатуры» радикально модифицирует глубинную мо-
дальность всего текста: смысл открывается не как прокламируемый автором итог, но как веер бесконечно разворачивающихся «вероятностных» значений.
В разделе приведены многочисленные примеры подобного использования «ли» и «бы» - явных фоносемантических фаворитов Набокова-прозаика (под этим углом зрения анализируются соответствующие фрагменты романов «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар»).
Понимание художественного произведения как автономного целого, замкнутого в себе мира, в котором все до единого элементы — звук, графика, порядок слов, даже типографическое оформление - не случайны, но мотивированы замыслом творца, - такое понимание было унаследовано Набоковым, вероятно, от Андрея Белого, который писал в книге «Символизм», что «каждое слово поэта, каждый знак препинания не рождается случайно, а медленно кристаллизуется в сложном, как мир, целом».
В «Заключении» дается итоговая оценка творческого пути Набокова и намечаются перспективы исследования его поэтики и стилистики. Данная диссертация, как и любое монографическое исследование творчества Набокова, не может претендовать на исчерпывающую полноту описания и истолкования его особенностей. Многогранное и многоязычное искусство Набокова нуждается в широком спектре исследований историко-литературного, стилистического и общеэстетического характера. На современном этапе развития науки историко-литературные представления об этом писателе могут обогащаться прежде всего за счет проблемно ориентированных научных работ.
Содержание диссертации отражено в следующих публикациях:
1. Стилевые истоки набоковской прозы (тезисы) // Тезисы докладов 1-й конференции молодых ученых. Ярославль: ЯГПИ, 1989 (0,2 п.л.).
2. Творчество М.Кузмина и русские модернистские течения начала XX века // Время и творческая индивидуальность писателя. Ярославль: ЯГПИ, 1990 (0,7 п.л.).
3. Набоковская «Лолита»: русские аллюзии имени героини (тезисы) // Американская литература в мировом контексте. Сб. тезисов. М.: МГУ, 1994 (0,1 п.л.).
4. Поэзия серебряного века: Справочное пособие. М.: Дрофа, 1997 (7,5 п.л.).
5. В.В.Набоков. Голос скрипки в пустоте (предисловие и составление) //М.: Панорама, 1997 (1,5 п.л.).
6. Англоязычный дебют В.Набокова // Ярославский педагогический вестник. 1998, №1 (1,0 п.л.).
7. «Ничья меж смыслом и смычком...»: В.В.Набоков // Агено-сов В.В. Литература русского зарубежья (1918 - 1996). М.: «Терра. Спорт», 1998 (2 п.л.).
8. Ритмический сбой как маркер аллюзии в романе В.Набокова «Лолита» // Вестник Моск. ун-та. Сер. Филология. 1999. №2 (0,5 п.л.).
9. «Русская литература конца XIX - начала XX века», «А.А.Блок», «И.А.Бунин», «В.В.Набоков» (главы учебника) // Русская литература XX века. Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. В.В.Агеносова. М.: «Дрофа», 2000. (6 п.л.).
10. Пародия как доказательство «наследственных прав»: Рассказ В.Набокова «Уста к устам» в контексте эмигрантских споров о наследниках «серебряного века» // Русская культура XX века на родине и в эмиграции. Имена, проблемы, факты. Вып. 1. М.: МГУ им. Ломоносова; Политехнический музей; Московский социально-экономический ун-т, 2000. (0,7 п.л.).
11. «Символизм», «Акмеизм», «Михаил Кузмин» (главы учебного пособия) // Русская литература конца века: Серебряный век. Под ред. В.В.Агеносова М.: изд-во «Астрель»; изд-во «ACT», 2001. (2,2 П.Л.).
12. Михаил Кузмин в критике русского зарубежья // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918 - 1940). Т.4. Часть II. -М.: ИНИОН РАН, 2002. (0,6 п.л.).
13. Графико-фонетические маркеры привилегированных значений в прозе В.Набокова (тезисы) // Русский язык: Исторические судьбы и современность. Международный конгресс русистов-исследователей. Труды и материалы. - М: изд. Моск. ун-та, 2001. (0,2 п.л.).
14. Проза как поэзия (очерк творчества В.Набокова) // Дидакт. 2000. №6. (0,7 п.л).
15. Поэзия серебряного века в школе: Книга для учителя. М.: Дрофа, 2001. (20 п.л. - в соавторстве с Болдыревой Е.М.).
16. Метафора «жизни как сна» в прозе В.Набокова и Б.Поплавского // Русская литература 20 в.: Итоги и перспективы изучения. М.: Советский спорт, 2002 (0,7 п.л.).
17. Поэзия серебряного века: В 2 т. (серия «Библиотека отечественной классики»). Составление, комментарий, вступит, статья. М.: Дрофа, 2002 (46 п.л. - в соавторстве с Кихней Л.Г.).
18. «Географическая» образность в романе В.Набокова «Лолита» // Крымский Набоковский научный сборник. Вып.З. Симферополь: Крымский Архив, 2003 (0,7 п.л.).
19. Лирические «артикли» в прозе В.Набокова // Русское Зарубежье - духовный и культурный феномен. В 2 ч.: Ч.1. М.: Новый гум. ун-т Н.Нестеровой, 2003 (0,7 п.л).
20. О некоторых тенденциях стилевого самоопределения в русской литературе первой волны эмиграции // Studia Rossica XII. War-szawa, 2003 (0,9 п.л.).
21. Стилевой эффект «истекания» реальности из звука в прозе В.Набокова // Проблемы поэтики русской литературы. Межвузовский сб. М: МАКС-Пресс, 2003 (0,5 п.л.).
22. От Владимира Дарова — к «Дару» Владимира: В.Брюсов и В.Набоков // Брюсовские чтения 2002 года. Ереван: Лингва, 2004 (1 п.л.).
23. Гумилевские подтексты в романах Г.Газданова и В.Набокова // Творчество А.Ахматовой и Н.Гумилева в контексте поэзии XX века. Материалы Международной научной конференции (21 - 23 мая 2004 г.). Тверь: Твер. гос. ун-т, 2004 (0,7 п.л.).
24. Эффект фонетической иррадиации женского имени в прозе В.Набокова (тезисы) // Русский язык: Исторические судьбы и современность. II Международный конгресс исследователей русского языка. Труды и материалы. М: изд. Моск. ун-та, 2004. (0,2 п.л.)
25. Стихотворение В.Набокова «Вечер русской поэзии» сквозь призму фоно- и графосемантики (тезисы) // Русская литература XX -XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Международной научной конференции. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004 (0,2 п.л.).
26. Владимир Набоков в школе: психология восприятия ученика и педагогическая стратегия учителя // Педагогика. 2004. №6 (0,8 п.л.).
27. Набоков и другие: Поэтика и стилистика Владимира Набокова в контексте художественных исканий первой половины XX века. Монография. Москва; Ярославль, 2004 (15,3 п.л.).
Напечатано с готового оригинал-макета
Издательство ООО "МАКС Пресс" Лицензия ИД N 00510 от 01.12 99 г. Подписано к печати 19.01.2005 г. Формат 60x90 1/16 Уел печ л. 2,0 Тираж 100 эхз. Заказ 017 Тел. 939-3890. Тел /Факс 939-3891. И 9992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им М В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, 627 к.
2 2 MAP 2005
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Леденев, Александр Владимирович
Введение.
Глава 1. В.Набоков и другие: проблема контекстуальных связей его творчества в критике и литературоведении
Глава 2. Литература эмиграции первой волны: панорама идей и стилей.
Глава 3. Роман В.Набокова «Дар» на фоне жанровых и стилевых приоритетов эмигрантской прозы.
Глава 4. Проблематика воплощения и поэтика «присвоения реальности» в прозе В.Набокова.
Машенька»: мнимая очевидность быта и творческие притязания памяти.
Защита Лужина»: тайная партитура судьбы.
Чужаяречь мне будет оболочкой»: англоязычный дебют Набоковароманиста.
Географическая» образность в романе «Лолита».
Глава 5. Поэтика соперничества: Набоков и писатели-эмигранты среднего и младшего поколений
Рассказ «Уста кустам»: спииевое соревнование за право наследования.
Гумилевские подтексты в романах Г. Гизданова и В.Набокова.
Метафора «жизнь как сон» в романах Б.Нотавского и В. Набокова.
Глава 6. На перекрестье традиций: русские и западноевропейские подтексты в произведениях Набокова
От Владимира Дарова - к «Дару» Владимира: В.Брюсов и В.Набоков.
Ритмический «сбой» как маркер агнозии в романе «Лолита».
Эдгар По в художественном сознании русского Серебряного века и в произведениях В.Набокова (к генеалогии «Лолиты»)
Метафизика перевода и «гибридизация языков» в романе «Под знаком незаконнорожденных».
Глава 7. «Ничья меж смыслом и смычком.»: микростилистика Набокова
Стихотворение «Вечер русской поэзии» сквозь призму фона- и графосемантики.
Выразительные возможности набоковской пунктуации.
Стилевой эффект «истекания» реальности из звука.
Лирические «артикли» в прозе
Введение диссертации2005 год, автореферат по филологии, Леденев, Александр Владимирович
Реальность - это бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных донышек, и потому она неиссякаема и недостижима»1.
Из интервью В.В.Набокова телевидению Би-Би-Си в июле 1962 г.)
Использованная в качестве эпиграфа фраза Набокова была произнесена им в одном из целой серии интервью 60-х годов, которые он дал западным масс-медиа. Это десятилетие стало хронологическим пиком популярности писателя на Западе и началом серьезного, академического изучения его творчества. Обвал читательской признательности и - как следствие - лавинообразный рост набоковедения в послепере-строечной России вряд ли возможно было предвидеть, но, кажется, именно в 60-е годы у Набокова окрепла уверенность в счастливом будущем своих книг на родине. Настроив «свой внутренний телескоп» на
-л эту «точку в отдаленном будущем» , писатель возобновил свой «роман с русской литературой». Самые яркие свидетельства тому - созданные в это десятилетие русская версия «Лолиты» и перевод «Евгения Онегина».
Однако «русская муза» не покидала писателя и в годы его англоязычного творчества, напоминая о себе наплывами лирических стихотворений и, что еще важнее, во многом определяя стилистический тембр его «американской» прозы. Собственно, даже его металитератур-ные суждения, собранные в книге интервью «Твердые мнения», отражают никогда не прерывавшуюся связь писателя с интеллектуальной и художественной атмосферой русского «серебряного века».
1 Nabokov V. Strong opinions. - N.Y., 1990. P. 11. Цит. по: В.В.Набоков: Pro ct Contra. T.l. -СПб., 1997. С. 140 (мер. М.Маликовой).
2 Формулировки В.Набокова из его интервью Олеину Тоффлеру, опубликованному в журнале «Плейбой» (январь 1964). Цит. по: Указ. соч. С.162 (пер. М.Маликовой).
Так, комментируя свой тезис о «неисчерпаемости» и «недостижимости» реальности, Набоков в уже упомянутом интервью подкрепляет свое положение характерной иллюстрацией: «Если мы возьмем, например, лилию или какой-нибудь другой природный объект, то лилия более реальна для натуралиста, чем для обычного человека. Но она куда более реальна для ботаника. А еще одного уровня реальности достигает тот ботаник, который специализируется полилиям»3.
Идея «многоуровневости» реальности и «многоступенчатого» приближения к ней объяснена Набоковым предельно ясно, так что иллюстрирующая ее «лилия» выглядит случайно подвернувшейся частностью. Но если предположить, что адресатом набоковского высказывания будет не зритель британской общеобразовательной телепрограммы, а знакомый с русской литературой начала века читатель, семантическая валентность примера, несомненно, возрастет.
Лилия» в качестве эстетического аргумента намного больше скажет тому любителю поэзии «серебряного века», который знаком, положим, с поэтической практикой Константина Бальмонта или Игоря Северянина. А еще больше - тому, кто знает не только стихи, но и эстетические декларации начала века. Последний, возможно, сумеет расслышать, как резонирует набоковский пример, скажем, со знаменитым предложением «заумника» Алексея Крученых заменить «затасканное» слово «лилия» сконструированным им словом «еуы»4.
3 Там же. С. 139.
4 См.: Крученых А. Декларация слова как такового // Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. / Сост. В.Н.Терехина, Ф.П.Зименков. М., 1999. С. 44 (пункт 5). 1:ще заманчивей будет, оттолкнувшись от признания одного из набоковских персонажей-поэтов в любви к «итальянской музыке аллитераций» (в рассказе «Тяжелый дым»), раскрыть соответствующий словарь и найти там «лилию» в иноязычной звуковой оболочке - nimfe, а потом перечитать «Лолиту», учитывая эту «потустороннюю» латинскую фонетику текста. Какой вариант художественного «инобытия» лилии эстетически продуктивнее - «еуы» или «нимфетка» (по сути, итальянизированная «лилечка») - сегодня уже не требует обсуждения: история литературы все расставила по споим местам. Авангардные тактические придумки Крученых оказались не годящимися в подметки «неоклассическим» стилевым стратегиям Набокова. Хотя, что особенно примечательно, в обоих случаях «перевода» лилии на другой язык использован один и тот же прием - остранения, смещения восприятия, буквенно-звукового «сдвига». Все дело том, что в первом случае автором руководило тщеславие авангардиста, претендующего на «революцию в искусстве», а во втором - набоковском
Разумеется, почти полувековое расстояние между высказыванием Набокова и российскими внутрилитературными спорами начала XX века снижает доказательную силу использованного примера. Однако он, этот пример, позволяет схематично обозначить главную для настоящей работы историко-литературную проблему и одновременно указать на хронологические границы исследовательского обзора. Речь пойдет главным образом о преломлении художественных традиций русского «серебряного века» в творчестве В.В.Набокова 1920-1950-х годов.
Конечно же, представления о сути любой писательской индивидуальности зависимы от того культурно-эстетического фона, на который соответствующие произведения писателя проецируются исследователем или рядовым читателем. Так что историко-литературная реальность «феномена Набокова» в еще большей мере являет собой «последовательность ступеней, уровней восприятия», чем «реальность» «какого-нибудь. природного объекта» из приведенной выше цитаты.
В этом смысле имманентный, сугубо «формоориентированный», так сказать, «микроскопический» анализ набоковских текстов, как и противоположная филологическая тактика - «телескопический» взгляд на Набокова в контексте «мировой литературы»5, - дают в качестве исследовательского результата иной уровень «реальности», чем «специализированное» изучение компонентов его стиля на фоне современных Набокову художественных тенденций.
Общее направление набоковедения за сорок лет своего существования существенно менялось и итоге (на сегодняшний день) радикально изменилось: от преимущественно мотивно-тематического, «изолированного» анализа его произведений - к выявлению контактных связей и тизабота о сохранении классической иерархии эстетических вкусов, настрой на художественную эволюцию, но никак не революцию.
5 Отсутствие какого бы то ни было контекста («нулевая» степень историко-литературною фона) приводит к тем же результатам, что и его безграничное расширение, потому что в последнем случае любая историко-культурная аналогия оказывается сугубо произвольной, внсисрархичной и служит не конкретизации, а, напротив, размыванию историко-литературного статуса изучаемою автора. пологических пересечений набоковской прозы с широким кругом художественных явлений. Более того, сам вектор сопоставительных исследований тоже постоянно уточнялся: доминировавший поначалу фон западноевропейского и американского модернизма и постмодернизма к началу 1990-х годов перестал быть единственной «контекстуальной призмой». Весомые результаты были достигнуты в изучении связей Набокова с русской художественной традицией6; наконец, стали появляться работы о взаимодействии Набокова с современными ему писателями русской эмиграции. Однако тематический размах подобных работ п был и остается настолько широким , что представлениям о Набокове-писателе по-прежнему недостает историко-литературной системности.
Во многих набоковедческих штудиях, особенно посвященных интерпретации его конкретных произведений, писатель все еще выглядит «надмирным», исключенным из литературного процесса первой половины XX века. Его взаимодействие с вершинными явлениями русской и мировой литератур (например, с наследием Пушкина, Тютчева, Данте, Шекспира) нередко описывается без учета рецепции этих явлений в современной Набокову литературной среде.
Разумеется, почти любая историко-литературная параллель потенциально способна быть эвристически продуктивной. Так, не вызывает сомнений, например, перспективность изучения «диалогов» писателя с русскими классиками XIX века или его взаимоотношений с классиками европейского модернизма М.Прустом, Дж. Джойсом, Ф.Кафкой и др. Однако стилевая тональность этих взаимодействий и тем более их смысловая направленность во многом определялись творческими импульь Такова, в частности, монография и соответствующее диссертационное исследование А.В.Злочевской (см. библиографию).
7 Например, С.Козлова видит в набоковских произведениях диалог с философскими текстами Платона; П.Мейер интерпретирует «Лолиту» как пародийную перелицовку «Евгения Онегина», а в «Бледном огне» находит отражения «Слова о полку Игореве»; С.Шуман сопоставляет «Лолиту» с «Кентерберийскими рассказами» Д.Чосера и «Путешествиями Гулливера» Дж.Свифта // Pro ct Contra. T.1-2 (см. библиографию). сами, рожденными ближайшей Набокову художественной эпохой. Вот почему одно из привилегированных, если не главное место в лестнице контекстов, ведущих к «истинному» Набокову, на наш взгляд, должно принадлежать русской литературе конца XIX - начала XX века.
Главной целью нашей работы и является системное описание контактных связей и типологических соответствий творчества Владимира Набокова - и художественного наследия сформировавшей его как писателя эпохи рубежа XIX и XX веков. На наш взгляд, подобная систематизация необходима прежде всего для того, чтобы в конечном счете ответить на главный вопрос, встающий перед любым исследователем, имеющим дело с наследием автора набоковского калибра (из всех русских прозаиков второй трети XX века по масштабу дарования с Набоковым сопоставим, на наш взгляд, разве что Андрей Платонов).
Это вопрос о смысле творчества Набокова и его, творчества, результатах. Подчеркнем: дело не столько в том, чтобы уточнить направ-ленческую «прописку» Набокова (на сегодняшний день, увы, все еще влиятельно представление о нем как о «постмодернисте»). Речь идет о самых важных для художника вещах: о понимании Набоковым миссии писателя и о его работе с языком - работе, целью которой было эту миссию исполнить. Набоков, в отличие от А.С.Пушкина, не написал своего «Памятника», в котором бы дал ясные ответы на эти вопросы. Вероятно, на то у автора «Лолиты» были веские причины; мы же попытаемся хотя бы отчасти прояснить их.
Но чтобы приблизиться к пониманию Набокова, необходимо сочетание макро- и микроскопического путей анализа, единение литературоведческого и языковедческого способов описания (хотя бы потому, что, как мы надеемся показать, главный герой набоковского творчества есть русский язык, творящий великую литературу - иногда в иноязычной, английской или французской оболочке). Отсюда неизбежность синтетической описательной модели, которая используется в настоящей работе: изначально ориентированная на конкретную историко-литературную проблему, она посвящена пограничной (одновременно литературоведческой и лингвостилистической) сфере «содержания и формы», той зоне взаимопроникновения «духа» и «материи», в которую не проникнуть иначе, как через филологический анализ8.
Потому отдельные главы работы написаны в методологическом ключе, близком традиционному, академическому литературоведению, но есть в ней фрагменты, в которых автор книги сознательно приближается к условной границе, одновременно разделяющей (в сознании филологов-специалистов) и объединяющей (в восприятии по-набоковски «хороших» читателей) разные отрасли филологического знания.
Вероятно, нашу методологическую позицию можно было бы проиллюстрировать указанием на прецеденты подобных подходов (их немало как в отечественной, так и в мировой филологии). Для жанра вступления, вероятно, довольно будет одной, но принципиальной отсылки: мы сознательно ориентировались на труды Е.Г.Эткинда как на образцы «высокого» филологического стиля. «Форма как содержание» - вот одновременно название его академического шедевра и предельно краткое обозначение той отечественной филологической традиции, которой мы пытались следовать в настоящей работе.
Материя стиха» - вновь и название капитального труда Е.Г.Эткинда, и указание на стержневую идею диссертации: прозаическое наследие В.Набокова мы видим как поэзию, «притворяющуюся» прозой, как искусство «перевода» высших поэтических свершений начала XX века - через опыты поэтической драматургии - в иное жан-рово-родовое пространство - в «неоклассическую» прозу В.Сирина-На-бокова.
8 «Любой крупный поэт образует школу не только благодаря непосредственному воздействию, но и потому, что его рабочая комната является кафедрой сппаистики», - писал один из литературных учителей Набокова (А.Белый «Символизм». М., 1910. С.241; курсив наш).
Необходимо сделать еще несколько предварительных оговорок. Типологическое сопоставление поэтики и стиля Набокова с индивидуальными поэтиками и стилями (или стилевыми манерами) других мастеров слова представляется нам более предпочтительным, чем изучение его персональных контактов с «другими», хотя последнее не исключается. При этом нас интересует серия сопоставлений не только по историко-литературной «вертикали» (с русской классикой начала XX века), но и в «горизонтальной» плоскости взаимодействия Набокова с другими «младоэмигрантами» - Гайто Газдановым и Борисом Поплавским.
Мы отдаем себе ясный отчет в том, что работа носит весьма предварительный, «черновиковый» характер: она пестрит неизбежными лакунами, ее композиция мозаична. Она стремится к систематизации, но заполняет лишь часть позиций намечаемой типологической классификации. При этом мы учитывали степень историко-литературной разработанности тех или иных аспектов сопоставительного изучения творчества Набокова и творчества мастеров предшествующей эпохи.
Так, важное в контексте нашей темы сопоставление творческих практик В.Набокова и И.Бунина стало сравнительно недавно предметом детального исследования М.Д.Шраера9, поэтому в настоящей диссертации «бунинский контекст» восприятия набоковской поэтики представлен минимально. Подобными же соображениями обусловлено приоритетное внимание к сопоставлению Набокова с теми из русских символистов, кто до сих пор почти не привлекал внимания исследователей и комментаторов его наследия - В.Брюсова и И.Анненского10 (темы
9 Этой теме посвящена объемная глава «Набоков и Бунин» в его монографии «Набоков: Темы и вариации» (СПб.: Академический проект, 2000. С.128 - 192).
10 Один из самых филологически чутких современных поэтов А.С.Кушнер полагает, что, вероятно, В.Набоков оказался равнодушным к поэзии И.Анненского. Вот как он говорит о воображаемых спорах с писателем в период его, А.С.Кушнера, знакомства с набокоискими произведениями: «.Допустим, Анненский, которого я так люблю, и кажется, ну вот кою бы и Набокову любить. А выясняется, что .вроде бы нет». См.: Кушнер А.С. Выступление на вечере памяти В.В.Набокова // Набоковский вестник. Вып. 1. Петербургские чтения. Спб.: «Дорн», 1998. С.256.
Набоков и Блок» и «Набоков и Белый» к настоящему времени изучены существенно глубже).
Большая часть фрагментов, из которых составлена эта историко-литературная мозаика, изначально публиковались как самостоятельные статьи или разделы учебных пособий. Мы посчитали возможным сохранить этот формат и в диссертации, так чтобы потенциальный читатель мог познакомиться с ней, самостоятельно формируя «маршрут чтения»: не обязательно читать работу целиком, довольно будет знакомства с избранными главами, каждая из которых представляет собой законченную миниатюру. Издержки подобной композиционной манеры очевидны (они в том, что отдельные формулировки, примеры или даже литературоведческие метафоры повторяются в разных главах диссертации).
В этом смысле структура работы определяется не только методологическими, но и методическими соображениями: диссертация адресована не только «профессиональным» набоковедам, но и более широкому кругу филологов, интересующихся, в частности, литературой русской эмиграции первой волны. Потому первая глава диссертации посвящена обзору современного состояния набоковедения, вторая - общей зарисовке стилевой панорамы русского литературного «зарубежья»; и только потом следуют фрагменты общей картины взаимодействий Набокова с Серебряным веком.
Особо стоит сказать о той главе работы, в которой речь идет о западноевропейском контексте творчества Набокова: нам представляется, что это не инородная, а органичная часть исследования, потому что в ней говорится об усвоенной и колоссально развитой Набоковым традиции прямых диалогов русской поэзии (в особенности «золотого» и «серебряного» ее веков) с западным культурным наследием.
И последнее: диссертация не состоялась бы без щедрой помощи и поддержки, в разные годы оказанной автору его коллегами. Особую благодарность хотелось бы выразить А.П.Авраменко (Москва), Л.Г.Андрееву (Москва), В.В.Агеносову (Москва), А.Г.Баунову (Афины-Москва), Е.М.Болдыревой (Ярославль), Б.С.Бугрову (Москва), Н.Ю.Буровцевой (Тайвань), Маринэ Галстян (Ереван), Ж.В.Грачевой (Воронеж), Д.С.Грачевой (Воронеж), Томасу и Вирджинии Грегг (США), Т.Д.Дажиной (Москва), Э.С.Даниелян (Ереван), О.А.Демидовой (Санкт-Петербург), О.В.Дефье (Москва), О.А.Джумайло (Ростов-на-Дону), М.А.Дмитровской (Калининград), Д.Б.Джонсону (США), Е.Г.Домогацкой (Москва), И.М.Дубровиной (Москва), Е.А.Ермолину (Ярославль), В.А.Зайцеву (Москва), Д.В.Казакову (Ярославль), М.Д.Казаковой (Москва), А.В.Кеба (Каменец-Подольский), Л.Г.Кихней (Нерюнгри - Москва), Н.В.Климовой (Елец), Л.А.Колобаевой (Москва), Н.З.Кольцовой (Москва), Б.В.Кондакову (Пермь), С.И.Кормилову (Москва), Т.В.Кортава (Москва), В.Е.Красовскому (Москва), Т.В.Кулешовой (Днепропетровск), Т.Г.Кучиной (Ярославль), Г.А.Левинтону (Санкт-Петербург), Л.С.Логахиной (Москва), К.А.Медведевой (Владивосток), И.Г.Милославскому (Москва), М.В.Михайловой (Москва), М.В.Немцеву (Курск), Т.А.Никоновой (Воронеж), М.В.Новикову (Ярославль), Е.Н.Ольшанской (Москва), О.М.Орловой (Москва), М.Г.Павловцу (Москва), С.Я.Паркеру (США), Т.А.Пахаревой (Киев), Е.А.Певак (Москва), Я.В.Погребной (Ставрополь), Н.Н.Позднякову (Винница), А.Г.Покровскому (Ярославль), М.Л.Ремневой (Москва), С.Ю.Родоновой (Ярославль), Л.Н.Рягузовой (Краснодар), О.Ю.Сконечной (Москва), Е.Б.Скороспеловой (Москва), Т.Смородинской (США), А.Г.Соколову (Москва), Б.М.Соколову (Москва), Н.М.Солнцевой (Москва), И.Ф.Удянской (Москва), В.И.Фатющенко (Москва), Д.М.Фельдману (Москва), Л.Чернейко (Москва), Т.Г.Шеметовой (Улан-Удэ), Г.А.Шпилевой (Воронеж), В.Л.Шуникову (Ярославль), А.Г.Шешкен (Москва), Н.М.Щедриной (Москва), И.В.Юговой (Москва).
Заключение научной работыдиссертация на тему "Поэтика и стилистика В.В. Набокова в контексте художественных исканий конца XIX - первой половины XX века"
Заключение
Оставленное Владимиром Набоковым наследие огромно и разнообразно: несколько сборников стихов, серия пьес, семь десятков рассказов, литературоведческие исследования, переводы на английский язык «Слова о полку Игореве», «Евгения Онегина», «Героя нашего времени». Ядро набоковского творчества составили девять русских и восемь английских романов. Заверши Набоков свой последний англоязычный роман «Оригинал Лауры» - его наследие обрело бы столь любимую им идеальную симметрию, а трилогия о любви структурно повторила бы общую композицию «Божественной комедии» великого Данте.
Увы, последняя часть складывавшейся романной трилогии о любви («Лолита» - «Ада» - «Лаура») осталась недописанной, а финал набоковского творчества - открытым. Нереализованными остались и план перевода «Ады» на русский язык, и замысел второй части мемуарной книги «Память, продолжай говорить». Но и того, что Набоков успел свершить в литературе, оказалось более чем достаточно, чтобы стать классиком мировой литературы XX века.
Сила Набокова - не только в том, о чем он пишет, но и в том, как он это делает. Подлинная «тайна ремесла» писателя - в виртуозном использовании лирических принципов в организации эпических с формальной точки зрения текстов. Набоков - лучший в литературе русской эмиграции поэт в прозе, а в его романах подспудно звучит тончайшая лирика.
По меркам нынешней российской ментальности Набоков - западник. Но его «западничество» навеяно общими европейскими устремлениями русского искусства начала XX века, а в целом эволюция набоковского стиля была связана с усвоением и переработкой поэтики русского Серебряного века. Специфически русских по характеру образности произведений у Набокова сравнительно немного: помимо мемуарной книги «Другие берега» это, например, рассказ «Гроза» с его славянской мифологической оркестровкой и перекличками с пушкинским «Пророком». Но и в тематически свободных от «русской специфики» произведениях многие композиционные эффекты и частные особенности стиля стали результатом своеобразной переплавки формальных находок и метафизических прозрений русского поэтического ренессанса начала XX века.
Сказанное вовсе не означает, что Набоков был лишь холодным виртуозом формы. Его всегдашний враг - пошлость, причем чаще в ее самой опасной разновидности - пошлость псевдо-образованных, претендующих на интеллигентность завсегдатаев литературных и артистических салонов, всякого рода псевдотворцов. Пошлость и сопровождающие ее безлюбость и бесталанность в мире Набокова -питательная почва жестокости и деспотизма.
И неважно, на каких языках говорят пошляки: национальные различия только подчеркивают внутреннюю однородность и неистребимое всеприсутствие этого людского типа. Будучи свидетелем краха многообразных социальных и социокультурных утопий, Набоков понимает отношения между жизнью и творчеством как отношения между пародией и оригиналом. К чему приводит «вчитывание» эстетики в жизнь, он блестяще показал в своей самой знаменитой книге - романе «Лолита».
Доступ в художественный мир Владимира Набокова действительно ограничен, но не потому, что писатель намеренно водит читателя за нос, испытывая удовольствие от игры в «кошки-мышки». Дело в другом: один из самых талантливых наследников Серебряного века, Набоков хорошо знал об опасностях профанации высоких смыслов. В его творчестве существует запрет на прямолинейную оценочность, на авторский пафос.
От свойственных литературе XIX века «крупноблочных» способов проявления авторской позиции Набоков переходит ко все более «погруженным» в глубину текста, к «музыкальному» композиционному маневрированию. Слово настолько истончается, что, кажется, готово перестать быть словом и, последовав лирическому призыву набоковского современника, тоже петербуржца и, подобно Набокову, выпускника Тенишевского училища, - «вернуться в музыку». Автор будто реализует мечту О.Мандельштама:
Из горящих вырвусь рядов И вернусь в родной звукоряд.
Как мы попытались показать в нашей работе, чем более стилистически сложным, «филологическим» и «металитературным» становился Владимир Набоков, эволюционируя как писатель, тем ближе он был к искусству синтетического типа. Это можно назвать дорогой к сверхреализму (к «реальнейшему» в терминологии Вяч.Иванова), или «реалистическим символизмом» (в терминологии все того же поэта-филолога), или «синтетическим» реализмом (в терминологии Е.Замятина).
Именно Набоков сумел придать прозаическому слову (и в русской, и в англоязычной огласовке) живописную красочность, графическую отчетливость, танцевальную пластичность и - главное - музыкальность (не внешнюю, но содержательную) звучания. Это тот случай, когда «форма» становится неотторжимой от содержания, а содержание невыразимо иначе, как этой конкретной формой.
Можно предположительно судить о том, каковы были психологические источники стилевых свершений Набокова. Коротко говоря, его стиль можно связать с реакцией на колоссальный стресс, связанный с утратами, понесенными его поколением. Можно попробовать заглянуть и глубже, фантазируя о первых эстетических реакциях юного Набокова, скажем, о его детских страхах.
Они могли быть чем-то похожими на мгновенную панику, охватывающую маленького ребенка, когда он читает или слышит сказку о мальчике и волке, или о Красной шапочке, или о Маше и трех медведях. Эта паника сродни «ночной панике пловца» , внезапно потерявшего ориентиры, засомневавшегося в том, куда он плывет - к крымскому берегу или в открытое Черное море. Вечерние, предсонные страхи усиливаются, если поблизости нет родителей (предположим, они пошли в модный синематограф, поручив свое любимое чадо французской гувернантке). И тогда победить страх можно только одним способом: «заговорить» его, переиграть его словесными шахматами или искусством перевода, переиначивания, вольного толкования сказки, у которой непременно должен случиться счастливый финал: родители вернутся, и ребенок спокойно заснет.
Однако у страхов и стрессов много реальных жизненных источников, главный из которых - большая история. И в этой ситуации речь идет о значительно большем, чем обретение внутреннего равновесия. Речь идет о защите русского «самовитого» и одновременно по-европейски принаряженного, уже очень конкурентоспособного на мировом литературном ристалище слова, которое к началу эмиграции молодой В.Сирин несет в своем сознании и своем складывающемся стиле.
Собственно, в такой ситуации взрослеющему поэту и писателю нужны будут литературные родители. Главное - помнить, кого позвать на помощь, особенно когда исторический хаос подталкивает к новому стрессу: к страху за судьбы близких, к ужасу потери литературной памяти, к боязни потерять уже пробуждающийся дар владения "словом, уже оформляющийся - и ни с чем не сравнимый - синтетический стиль.
Спасением от экзистенциального отчаяния, от апокалиптических истерик, свойственных некоторым его литературным ровесникам, становится для Набокова искусство общения с учителями литературы и
320 Набоковская строчка из одного из его поздних стихотворений про «потусторонность». живописи (поэтами и художниками конца XIX - начала XX века). В том числе с подлинными (в юридическом смысле термина) и очень строгими учителями В.В.Гиппиусом и М.В.Добужинским, а при их незаметном и, вероятно, невольном «посредничестве», - с Брюсовым и Белым, Анненским и Гумилевым, Блоком и Буниным. С К.Сомовым и М.Нестеровым, Мейерхольдом и Таировым, Данте и Шекспиром, Босхом и Бёклином, Моцартом и Скрябиным.
Это общение (чаще виртуальное, в пространстве памяти, чем «реальное», в конкретном литературно-художественном быту) формирует одну из важных граней набоковского стиля. Как «перевести» стрессы катастрофической исторической реальности (великие потрясения 1914 — 1921, а потом 1934 - 1945 годов) в энергию стиля, в волшебство «заговаривания» пугающих призраков смерти? Для этого потребны почти невиданные прежде в русской литературной практике комбинации умений и навыков (прежде они сошлись у единственного гения русской литературы - А.С.Пушкина, а среди иноземцев давным-давно обнаружились лишь у покорителя иных миров «сурового Данта», да у «потрясающего копьем» Шекспира).
Об этой комбинации умений мы и пытались сказать в диссертации. Смысл творений Набокова многослоен, и есть в этой многоступенчатой радуге смыслов оттенки, дающие основания видеть в том или ином рассказе или романе, да, в общем, в большинстве его произведений атрибуты «мимесиса», «отражения» реальности. Более того, без этих «милых мелочей», без безусловной опоры на природный и «бытовой» материал - без бабочек, трамваев и поездов - не было бы в этой набоковской империи Логоса высшего, конструктивно-претворяющего начала.
Потому что нечего было бы строить и претворять. В этом смысле Набоков, как правило, милосерден к «рядовому» читателю: он дает возможность прочитать, скажем, «Защиту Лужина» как роман о психологии шахматиста или даже как семейно-бытовую повесть (отношения ребенка с родителями, а потом повзрослевшего ребенка с новыми, «приемными» родителями).
Но он, Набоков, щедр и по отношению к читателю-эрудиту или читателю-профессионалу (т.е. к тем, кто сам причастен к «писательству» в широком смысле). Он честен перед русской литературой, потому что пытался идти в том направлении, в каком ее, литературы, гении (Пушкин, Толстой, Некрасов, Чехов, Анненский, Блок, Платонов) всегда пытались идти - к «поиску смысла общего и частного существования»321, или попросту к «оправданию жизни»322. Беспрецедентная сложность его задачи заключалась в том, что оправдывать приходилось жизнь в ее нередко катастрофических личинах и гримасах (исторические потрясения, человеческие трагедии), и в том, что продолжать писать свои русские произведения, продолжать оправдывать жизнь ему пришлось на других языках.
Однако в этом и заключается его подвиг (в старом русском значении слова: путь, движение): это путь, подобный подвигу Андрея Платонова. Два самых несхожих писателя XX века (во всех житейских и филологических смыслах: биографическом, семейно-психологическом, стилистическом и т.д.) удивительно похожи в этом принципиальном отношении. Это два поэта, претворивших ядерную энергию лирики в смысловую многослойность эпических произведений. Два речетворца, в чьих писаниях русский язык превозмогает сам себя, вырастая в язык для мира, в мировой язык.
121 Название центральной работы П.Шубина об А.Платонове
322 Напомним, что «Книги отражений» И.Ф.Анненского подчинены идее оправдания жизни и оправдания творчества. Вот как он сформулировал эту «сердечную» мысль своего труда в «Предисловии» ко «Второй книге отражений» (1909): «Мои отражения сцепила, нет, даже раньше их вызвала моя давняя тревога. И все их проникает проблема творчества, одно волнение, с которым я, подобно вам, ищу оправдания жизни» (Анненский И. Книги отражений. М.: «Наука», 1979. С. 123).
326
Список научной литературыЛеденев, Александр Владимирович, диссертация по теме "Русская литература"
1. Русский период. Собраиие сочииений в 5 томах / Сост. Н.Артеменко-Толстой. Предисл. А.Долинина. СПб.: «Симпозиум», 1999-2000.
2. Американский период. Собрание сочинений в 5 томах. Пер. в англ. / Сост. С.Ильина, А.Кононова. СПб.: «Симпозиум», 1997-1999.
3. Лекции по русской литературе. М.: Изд-во Независимая Газета, 1996.
4. Лекции по зарубежной литературе. М.: Изд-во Независимая Газета, 1998.
5. Лекции о «Дон Кихоте». М.: Изд-во Независимая Газета, 2002.
6. Стихотворения / Подг. текста, сост., вступ. статья и примеч. М.Э.Маликовой. СПб.: «Академический проект», 2002.
7. Novels and Memoirs 1941 1951. New York: The Library of America, 1996.
8. Novels and Memoirs 1955 1962. New York: The Library of America, 1996.
9. Novels and Memoirs 1969 1974. New York: The Library of America, 1996.
10. Strong Opinions. New York: Vintage International, 1990.
11. The annotated Lolita. Revised and updated / Edited, with preface, introduction, and notes by Alfred Appel, Jr. New York;Vintage Books, 1991.
12. The Nabokov Wilson Letters. New York: Harper & Row, 1979.
13. The stories of Vladimir Nabokov. New York: Alfred A.Knopf, 1995.
14. Энциклопедические издания и антологии
15. The Garland Companion to Vladimir Nabokov / Ed. by V.Alexandrov. -N.Y., London: Garland Publishing, 1995.
16. В.В.Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. -СПб.:РХГИ, 1997
17. В.В. Набоков: pro et contra. Том 2. СПб.: РГХИ, 2001.
18. Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общей редакцией Н.Г.Мельникова. М.: Новое литературное обозрение. 2000.
19. Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе / Сост. Н.Г.Мелышкова. М.: Издательство Независимая Газета, 2002.
20. Литература на иностранных языках
21. A Small Alpine Form: Studies in Nabokov's Short Fiction / Ed. by C.Nicol and G.Barabtarlo. N.Y.: Garland, 1993.
22. Albright, D. Representation and Imagination: Beckctt, Kafka, Nabokov, and Schoenberg. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
23. Alexandrov, V.E. Nabokov's Otheworld. Princeton: Princeton University Press, 1991.
24. Appel, A. Nabokov's Dark Cinema. N.Y.: Oxford, 1974.
25. Appel, A. The Annotated Lolita. N.Y.: Vintage Books, 1991.
26. Autobiograhical Statements in XX-th Century Russian Literature / Ed. by J.G.Harris. Princeton: Princeton U.P., 1990.
27. Bader, J. Crystal Land: Artifice in Nabokov's English Novels. Berkley: University of California Press, 1972.
28. Barabtarlo, G. Aerial View: Essays on Nabokov's Art and Metaphysics. American Literature. Vol. 40. N.Y.: Peter Lang, 1993.
29. Barabtarlo, G. Phantom of Fact: A Guide to Nabokov's Pnin. Ann Arbor: Ardis, 1989.
30. Blackwell, Stephen H. Zina's Paradox: The Figured Reader in Nabokov's The Gift. New York: Peter Lang, 2000.
31. Blot, J. Nabokov. Paris: Seuil, 1995.
32. Bodenstein, J. The Excitement of Verbal Adventure: A Study of Vladimir Nabokov's Prose. Heidelberg, 1977.
33. Bonet, Wilma. Good grief, Lolita. University of Arizona Press, 2000.
34. Boyd, B. Nabokov's Ada: The Place of Consciousness. Ann Arbor: Ardis, 1985.
35. Boyd, B. V.Nabokov: The American Years. Princeton: Princeton University Press, 1991.
36. Boyd, B. V.Nabokov: The Russian Years. Princeton: Princeton University Press, 1990.
37. Brink, Andrew. Love and Death in Vladimir Nabokov's Lolita: A Fantasy Analysis of an Obsession / In: Brink, Andrew. Obsession and Culture: A Study of Sexual Obsession in Modern Fiction. Madison: Fairleigh Dickinson University Press, 1996. Pp. 98-138.
38. Brown, Edward. Nabokov, Chernyshevsky, Olesha and the Gift of Sight // Stanford Slavic Studies, 4 (2). 1992. Pp. 280-295.
39. Canadian-American Slavic Studies: Nabokov Issue / Ed. by D.Barton Johnson. Vol.19. No.3 (Fall, 1985).
40. Cancogni, A. The Mirage in the Mirror: Nabokov's Ada and Its French PreTexts. N.Y.: Garland, 1985
41. Clancy, L. The Novels of V.Nabokov. London: Macmillan, 1984.
42. Clark, B.L. Reflections of Fantasy: The Mirrow Worlds of Carrol, Nabokov and Pynchon. N.Y., 1986.
43. Connolly Julian W., ed. Vladimir Nabokov's Invitation to a Beheading: A Critical Companion. Evanson, IL.: Northwestern UP, 1997.
44. Connolly, Julian W. Vladimir Nabokov and Valerij Brjusow: An Examination of a Literary Heritage // Die Welt der Slaven (Miinchen), 33 (N.F.I2). 1988. Pp. 69-86.
45. Connolly, J. Nabokov's Early Fiction: Patterns of Self and Others. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
46. Couturier, M. Nabokov. Lausanne: L'Age d'homme, 1979.
47. Critical Essays on V.Nabokov / Ed. by Ph.Roth. Boston; G.K.Hall, 1984.
48. De Jonge, Alex. Nabokov's Uses of Pattern // Vladimir Nabokov: A Tribute. New York, 1980
49. Delta: Vladimir Nabokov. Special Issue / Ed. by M.Couturier. No. 17. Montpellier, France: Universite Paul Valery, 1983.
50. Field, A. Nabokov: A Bibliography. N.Y.: McGraw-Hill, 1973.
51. Field, A. V.Nabokov: His Life in Art. Boston: Little, Brown, 1967.
52. Field, A. V.Nabokov: His Life in Part. N.Y.: Viking Books, 1977.
53. Field, A. VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov. London: Queen Ann Press, 1987.
54. Foster, J.В., Jr. Nabokov's Art of Memory and European Modernism.
55. Princeton: Princeton University Press, 1993.
56. Fowler, D. Reading Nabokov. Ithaca: Cornell University Press, 1974.
57. Fraysse, Suzanne. Worlds Under Erasure: Lolita and Postmodernism // Cycnos, v. 12, no. 2. 1995. Pp. 93-100.
58. Grabes, H. Fictitious Biographies: Vladimir Nabokov's English Novels. The Hague Paris: Mouton, 1977.
59. Grason, J. Nabokov Translated: A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose. Oxford: Oxford University Press, 1977.
60. Grayson, Jane. Double Bill: Nabokov and Olesha // In: From Pushkin to Palisandriia: Essays on the Russian Novel in Honor of Richard Freeborn (ed. Arnold B. McMillin). Basingstroke: Macmillan (New York: St. Martin's), 1990. Pp. 181-200.
61. Green, G. Freud and Nabokov. Lincoln: University of Nebraska Press, 1988.
62. Hyde, G.M. V.Nabokov: America's Russian Novelist. London: Marion Boyars, 1977.
63. Johnson, D. Barton. Pasternak's Zhivago and Nabokov's Lolita // The Nabok-ovian. Spring 1985. No.14. Pp. 20-23.
64. Johnson, D. Barton. Vladimir Nabokov and Sasha Sokolov // The Nabok-ovian, Fall 1985. No. 15. Pp. 29-39.
65. Johnson, D.Barton. Worlds in Regression: Some Novels of V.Nabokov. Ann Arbor: Ardis, 1985.
66. Jones, Steven. Lolita. New York: Chelsea House Publisher, 1993.
67. Juliar, M. V.Nabokov. A Descriptive Bibliography. N.Y.: Garland Publishing, 1986.
68. Karges,J. Nabokov's Lepidoptera: Genres and Genera. Ann Arbor: Ardis, 1985.
69. Lee, L.L. V.Nabokov. Boston: Twayne Publishers, 1976.
70. Levy, A. Vladimir Nabokov: The Velvet Batterfly. Sag Harbor: The Permanent Press, 1984.
71. Lokrantz, J.T. The Underside of the Weave: Some Stylistic Devices Used by V.Nabokov. Uppsala,Sweeden: Almquist and Siksell, 1973.
72. Long, M. Marvell, Nabokov: Childhood and Arcadia. Oxford: Claredon Press, 1984.
73. Maddox, L. Nabokov's Novels in English. Athens: The University of Georgia Press, 1983.
74. Major Literary Characters: Lolita / Ed. by H.Bloom. N.Y.: Chelsea House, 1993.
75. Mason, B.A. Nabokov's Garden: A Guide to Ada. Ann Arbor: Ardis, 1974.
76. Meyer, P. Find What the Sailor Has Hidden. Vladimir Nabokov's Pale Fire. Middletown,CT: Wesleyan University Press, 1988.
77. Milbauer,A. Transcending Exile: Conrad, Nabokov, I.B.Singer. Miami: Florida International University Press, 1985.
78. Modern Fiction Studies (Special Issue: V.Nabokov) / Ed. by C.Ross. Vol.27. No.3. 1979.
79. Morton, D. V.Nabokov. N.Y.: Frederick Ungar, 1974.
80. Moynahan,J. V.Nabokov. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971.
81. Nabokov and his Fiction. New Perspectives. Cambridge: Cambridge U.P., 1999.
82. Nabokov at the Crossroads of Modernism and Postmodernism. / Ed. by Couturier, Maurice. Cycnos special issue, 1995, 2, no.2. Nice: Universite de Nice — Sophie Antipolis.
83. Nabokov at the Limits. Redrawing Critical Boundaries / Ed. by Lisa Zunshine. New York& London, 1999.
84. Nabokov Studies (Los Angeles), 2, 1995 (и последующие выпуски этого издания 3,4,5).
85. Nabokov: A Book of Things about V.Nabokov / Ed. by C.Proffer. Ann Arbor: Ardis, 1974.
86. Nabokov: Criticism, Reminiscences, Translations, and Tributes / Ed. by A.Appel and C.Newman. Evanston: Northwestern University Press, 1970.
87. Nabokov: The Critical Heritage / Ed. by N.Page. London: Routledge and Ke-gan Paul, 1982.
88. Nabokov: The Man and His Work / Ed. by L.S.Dembo. Madison: University of Wisconsin Press, 1967.
89. Nabokov's World. Vol. 1: The Shape of N's World; Vol. 2: Reading Nabokov / Ed. by Jane Grayson, Arnold McMillan, Priscilla Meyer. PAL-GRAVE, 2002
90. Nabokov's Fifth Arc / Ed. by J.E.Rivers and C.Nicol. Austin: University of Texas Press, 1982.
91. Nabokov's Invitation to a Beheading: A Critical Companion, ed. by Julian W. Connelly (Northwestern University Press: Evanston, 1997).
92. Nakhimovsky, A. and Paperno, S. An English-Russian Dictionary of Nabokov's Lolita. Ann Arbor: Ardis, 1982.
93. Naumann, M. Blue Evenings in Berlin: Nabokov's Short Stories of 1920-th. N.Y.: N.Y. University Press, 1978.
94. Olsen, Lance: Lolita: A Janus Text. New York: Twayne, 1995.
95. Packman, D. V.Nabokov: The Structure of Literary Desire. Columbia: University of Missoury Press, 1982.
96. Paglia, Camille. Lolita Unclothed. Vamps and Tramps. Vintage Books. New York: 1992.
97. Paine, S. Beckett, Nabokov, Nin: Motives and Modernism. Port Washington, N.Y.; London: Kennikat Press, 1981.
98. Parker, S. Understanding Vladimir Nabokov. Columbia: University of South Carolina Press, 1987.
99. Pasquinelli, Anastasia. Kuzmin, Nabokov, Cinnov, poetes alexandrins // Ca-hiers du Monde Russe (Montrouge, France), July-Sept. 1991, 32:3. Pp. 369378.
100. Paul D. Morris. Nabokov's Poetic Gift: The Poetry in and of Dar // Russian Literature (Amsterdam). XLVIII-IV (2000).
101. Pifer, E. Nabokov and the Novel. Cambridge: Harvard University Press, 1980.
102. Pope, Robert. Beginnings // The Georgia Review (Athens, GA), Winter 1982, 36:4, pp. 733-751.
103. Proffer, C. The Keys to Lolita. Bloomington: Indiana University Press, 1970.
104. Proffer, E. V.Nabokov: A Pictorial Biography. Ann Arbor: Ardis, 1990.
105. Rampton, D. V.Nabokov: A Critical Study of the Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
106. Rorty, Richard: Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press, 1989
107. Rowe,W.W. Nabokov and Others: Patterns in Russian Literature. Ann Arbor: Ardis, 1979.
108. Rowe,W.W. Nabokov's Deceptive World. N.Y.: N.Y. University Press, 1971.
109. Rowe,W.W. Nabokov's Spectral Dimension: The Other Worlds in His Works. Ann Arbor: Ardis, 1981.
110. Russian Literature Triquaterly: Nabokov Issue / Ed. by D.Barton Johnson.1. No.24,1991.
111. Schuman,S. V.Nabokov: A Reference Guide. Boston: G.K.Hall, 1979.
112. Shapiro, Gavriel. Anagrams in Lolita // The Nabokovian, Fall 1991, 27, pp. 34-37.
113. Sharpe, T. Vladimir Nabokov. N.Y.: Edward Arnold, 1991.
114. Stark, J. The Literature of Exaustion. Borges, Nabokov, Barth. Durham: Duke University Press, 1974.
115. Stegner, P. Escape into Aesthetics: The Art of V.Nabokov. N.Y.: Dial Press, 1966.
116. Stuart, Dabney: Nabokov: The Dimensions of Parody. Baton Rouge, LA: Louisiana State University Press, 1978.
117. Tammi, Pekka. Nabokov's Lolita: The Turgenev Subtext // Notes on Modern American Literature 5, no. 2 (1981): Item 10.
118. Tammi, P. Problems of Nabokov's Poetics. A Narratological Analysis. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1985.
119. The Achievments of V.Nabokov / Ed. by G.Gibian and S.Parker. Ithaca, N.Y.: Cornell Center for International Studies, 1984.
120. Toker,L .V.Nabokov: A Mystery of Literary Structures. Ithaca: Cornell University Press, 1989.
121. V.Nabokov: His Life, His Work, His World. A Tribute / Ed. by P.Quennell. London: Weidenfeld and Nicolson, 1979.
122. Vladimir Nabokov. Modern Critical Views Series / Ed. by H.BIoom. N.Y.: Chelsea House, 1987.
123. Vladimir Nabokov's Lolita. Modern Critical Interpretations Series / N.Y.: Chelsea House, 1987.
124. Vladimir Nabokov's Lolita: A Casebook. Edited by Ellen Pifcr. N.Y.: Oxford UP, 2003.
125. Williams, Robert C.: Culture in Exile: Russian Emigres in Germany. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1972.
126. Wood, M. The Magician's Doubts: Nabokov and the Risks of Fiction. Princeton: Princeton University Press, 1995.
127. Литература на русском языке
128. Абашев В.В. Осоргин и Набоков: Вероятность встречи // Михаил Осор-гин: Страницы жизни и творчества. Пермь, 1994. С.28 37
129. Аверин Б.В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб.: Амфора, 2003.
130. Аверин Б.В. Поэтика ранних романов Набокова // Набоковский вестник. Вып. 1. СПб, 1998. С.31 -43.
131. Аверин В.В. Романы В.В. Набокова в контексте русской автобиографической прозы и поэзии: Автореф. дис.д.ф.н. СПб, 1999.
132. Адамович Г. Одиночество и свобода. М.: Республика, 1996.
133. Айхенвальд Ю. Литературные заметки // Руль. 2 февраля. 1927. С.2-3.
134. Айхенвальд Ю. Поэты и поэтессы. М.: «Северные дни», 1922.
135. Александров В. Набоков и «серебряный век» русской культуры // Звезда. 1996. №11. С.215 230.
136. Александров В. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика/Пер. с англ. Н.А.Анастасьева. СПб.: «Алетейя», 1999.
137. Апастасьев Н. Башня и вокруг: (Взгляд па В.Набокова) // Набоков В. Избранное. М., 1990. С.7-33.
138. Анастасьев Н. Владимир Набоков. Одинокий король. М.: ЗАО Изд-во1. Центрполитграф, 2002.
139. Анастасьев Н. Феномен Набокова. М.: Сов. писатель, 1992.
140. Анастасьев Н. Феномен Набокова // Иностранная литература. 1987. №5. С.210-223.
141. Андреев JI.H. Собр. соч. В 6 т. М.: Худож. лит., 1990.
142. Анненский И.Ф. Книги отражений. М.: Наука, 1979.
143. Анненский И.Ф. Стихотворения и трагедии. JL: Сов. писатель, 1990.
144. Антонов С.А. Эстетический мир Набокова: парадигмы прочтения // Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры. 1995. №3. с.430 443
145. Апресян Ю.Д. Роман «Дар» в космосе Владимира Набокова // Изв. РАН. Сер. Лит. и яз. 1995. Т.54, №3. С.З 17; №4 С.6-23.
146. Асоян А.А., Подкорытова Т.И. След пушкинской музы в рассказе
147. B.Набокова «Весна в Фиальте» // Изв. Сиб. Отд-я РАН. История, филология и философия. 1992. Вып.2. С. 52-58.
148. Бабурина М.А. Концепт «муза» и его ассоциативное поле в русской поэзии Серебряного века: Автореф. дис. к.ф.н. СПб, 1998.
149. Балеевских К.В. Язык как экспликация культурного опыта писателя-билингва А.Макина. Автореф. дие. к.ф.н. Ярославль, 2002.
150. Барабаш 10. Набоков и Гоголь (Мастер и гений): Заметки на нолях книги В.Набокова «Николай Гоголь» // Москва. 1989. №1.С.180-193.
151. Барабтарло Г. Призрак из первого акта. Бирюк в чепце // Звезда. 1996. №11. С. 140-145; 192-206.
152. Барковская Н.В. Художественная структура романа В.Набокова "Дар"// Проблема взаимодействия метода, стиля и жанра в советской литературе. Свердловск, 1990.
153. Безродный М. Супруги Комаровы: Заметки на полях «Пнина» // CMRS (Paris) 1990. №1(4). С.625-628.
154. Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994.
155. Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 1996.
156. Березина А.Г. Роман В.Набокова «Отчаяние», прочитанный германистом (Проблема цитирования) // Вестник СПб. ун-та. Сер.2. История, языкознание, литературоведение. Сиб, 1994. Вып.1. С.92-105.
157. Бетеа, Девид М. Изгнание как уход в кокон: образ бабочки у Набокова и Бродского// Русская литература. 1991. №3. С. 147-154.
158. Битов А. Музыка чтения // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М.: изд-во Независимая Газета, 1998. С.7-8.
159. Бицилли П.И. Возрождение аллегории // Русская литература. 1990. №2.1. C.147-154.
160. Блок А.А. Собр. соч. в 12 т. М.: «Литера», 1995.
161. Богомолов Н.А. От Пушкина до Кибирова. М.: Новое лит. обозрение, 2004.
162. Борухов Б.Л. Об одной вертрикальной норме в прозе В.Набокова (Категория «половины» в романе «Лолита») // Художественный текст: антология и интерпретация. Саратов, 1992. С. 130-134.
163. Брюсов В.Я. Собр. соч. в 7 т. М.: Худож. лит., 1975.
164. Бубнов А.В. Лингвопоэтические и лексикографические аспекты иалип-дромии. Автореф. дис. к.ф.н. Орел, 2003.
165. Букс Нора. Эшафот в хрустальном дворце: О русских романах Владимира Набокова. М.: Новое литературное обозрение, 1998.
166. Бунин И.А. Собр. соч. В 9 т. М.: Худож. лит., 1966.
167. Варшавский В. О прозе "младших" эмигрантских писателей//
168. Современные записки. 1936. №51. С.409-414.
169. Варшавский В. Рец. на роман "Подвиг"// Числа. 1933. №7-8. С.266-267.
170. Варшавский B.C. Незамеченное поколение. Ныо-Иорк, 1956.
171. Васильев Г.К. Страница из рассказа Набокова «Весна в Фиальте»: Опыт лингвистического анализа. Научн. доклады высшей школы. Филологические науки. 1991. №3. С.33-40.
172. Вахрушев В. О словесных играх Владимира Набокова // Доп. 1997. №10. С.243-252.
173. Вейдле В. Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искусства. М.: Языки славянской культуры, 2002.
174. Виролайнен М. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. Спб.: Амфора, 2003.
175. Власов А.С. Синтез поэзии и прозы в романе Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго. Авторсф. дис. . к.ф.п. Кострома, 2002.
176. Волошин М.А. Лики творчества. Л.: Наука, 1989.
177. Вострикова М.А. Проза В.Набокова 20-х годов (Становление поэтики): Автореф. дис. к.ф.п.-М., 1995.
178. Газданов Г. Собр. соч. В 3 т. М.: Согласие, 1996.
179. Гальцева Р., Родняпская И. Помеха-человек: Опыт века в зеркале антиутопий // Новый мир. 1988. №12. С.217-230.
180. Гаспаров М.Л. Избранные статьи. М.: Новое литературное обозрение, 1995.
181. Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях. М.: КДУ, 2004.
182. Гаспаров М.Л. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. Спб: изд-во «Азбука», 2001.
183. Геллер Л. Художник в зоне мрака. Bend Sinister Набокова / В кн.: Геллер Л. Слово Мера Мира. М: Мик, 1994. С. 44-53.
184. Голубков М.М. Владимир Набоков: Апология неслужепня // Голубков М.М. Максим Горький. М.,1997.
185. Голубков М.М. Русская литература XX века: После раскола. М.: Аспект Пресс, 2001.
186. Горковепко А.А. Роман В.Набокова «Дар»: авторская интерпретация па фоне эмигрантской критики 30-х годов // Русская классика XX века: пределы иитерпретации. Ставрополь, 1995.С.73-76
187. Грация Э. Девушки оголяют колени везде и всюду: Закон о непристойности и подавление творческого гения. // Иностр. лит-ра. 1993. №11. С.198-230.
188. Гумилев Н.С. Сочинения. В 3 т. М.: Худож. лит., 1991.
189. Гурболикова О.А. Тайна Владимира Набокова. Процесс осмысления: Библиогр. очерки. М.: РГБ, 1995.
190. Десятов В.В. Набоков и русские постмодернисты. Барнаул: изд-во Алтайского ун-та, 2004.
191. Давыдов С. «Гносеологическая гнусность» В.Набокова: Метафизика и поэтика в романе «Приглашение на казнь» // Логос. 1991. Вып.1. С. 175184.
192. Давыдов С. «Тексты-матрешки» В.Набокова. Мюнхен: Otlo Sagncr, 1982.
193. Давыдов С. «Пушкинские весы» В.Набокова // Искусство Ленинграда. 1991. №6. С.39-46.
194. Давыдов С. Что делать с «Даром» Набокова? // Обществ, мысль: Исследования и публикации. М.,1993. Вып.4. С.59-75
195. Дарк О. Загадка Сирина (Ранний Набоков в критике "первой волны" эмиграции)//Вопросы литературы. 1990. №3. С.243-257.
196. Долинин А. "Двойное время" у В.Набокова (от "Дара" к "Лолите") / Пути и миражи русской культуры. СПб.: Северо-Запад, 1994. С.283-322.
197. Долинин А. Бедная "Лолита" // Набоков В. Лолита. М.: Художественная литература, 1991.
198. Долинин А. Загадка недописанного романа: О романе В.Набокова "Solus Rex" // Звезда, 1997. №12. С.215-224.
199. Долинин А. Поглядим на арлекинов: Штрихи к портрету В.Набокова// Литературное обозрение. 1988. - №9. - С. 15-20.
200. Долинин А. После Сирина // Набоков В. Романы. М.: Худ. лит., 1991. С.5 -14.
201. Долинин А. Цветная спираль В.Набокова // Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе, интервью, рецензии. М.: Книга, 1989. С.438-469.
202. Дрозда М. Нарративные маски русской художественной прозы // Russian Literature. Amsterdam, 1994. Vol.XXXV.
203. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и худождественпый текст. На материале русской прозы 19-20 вв. М.: УРСС, 2001.
204. Ерофеев В. Лолита, или заповедный оазис любви // Набоков В. Лолита: Роман. М., 1990.
205. Ерофеев В. Русский метаромаи В.Набокова, или в поисках потерянного рая // Вопросы литературы. 1988. №10. С.125-160.
206. Есаулов И.А. Поэтика литературы русского зарубежья (Шмелев и Набоков: Два типа завершения традиции) // Есаулов И. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск, 1995. С.191-201.
207. Есаулов И.А. «Игровое самоопределение в художественном мире Владимира Набокова как финал русского «серебряного века» // Studia Litteraria Polono-Slavica. 3. SOW, Warszawa, 1999. P. 131 142.
208. Жиличев Е.В., Тюпа В.И. Иронический дискурс В.Набокова: «Защита Лужина» // Кормановские чтения. Ижевск, 1994. Вып.1. С.191-201.
209. Жолковский A. Philosophy of Composition (К некоторым аспектам структуры одного литературного текста)/ Readings in Russian Modernism. M.: Наука, 1993. С.390-400.
210. Жук Д.10. Авторизованный перевод как средство интерпретации художественного произведения (Роман В.Набокова «Дар»). Авто-реф.к.ф.н. СПб, 2002.
211. Заболотняя О.Д. Система энаптиоморфизма в творчестве В.В.Набокова. Автореф.к.ф.н. М., 2003.
212. Заманская В.В. Русская литература первой трети XX века: проблема экзистенциального сознания. Екатеринбург: изд. Уральского ун-та, 1996
213. Злочевская А.В. Художественный мир Владимира Набокова и русская литература XIX века. М.: Изд-во МГУ, 2002.
214. Злочевская А.В. Художественный мир В.Набокова и русская литература 19 в.: генетические связи, типологические параллели и оппозиции. Авто-реф.д.ф.н. М., 2002.
215. Злочевская А.В. Эстетические новации В.Набокова в контексте русской классической литературы // Вестник Моск. Ун-та. Филология. 1997. №4.1. С.9-19.
216. Злыдпева Н.В. Мотив лабиринта в авангарде: (Графика Эсхера и проза Набокова)// Миф и культура: Человек не человек. - М.: 1994. С.76-79.
217. Иващенко Е.Г. Эволюция литературного билингвизма в творчестве
218. B.Набокова (Взаимодействие стиха и прозы). Автореф.к.ф.п. М., 2004.
219. Иванов В.Вс. Черт у Набокова и Булгакова // Звезда. 1996. № 11. С. 146 -149.
220. Иванов Вяч.И. Лик и личины России: Эстетика и литературная теория. М.: Искусство, 1995.
221. Иванов Г. Рец. на романы "Машенька", "Король, дама, валет", "Защита Лужина", сборник рассказов "Возвращение Чорба'7/ Числа. 1930. №1.1. C.233-236.
222. Иванова Евг. Владимир Набоков: выломавшее себя звено// Литературная учеба. 1989. №6. С.153-161.
223. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998.
224. Калинина Е.А. Традиции русского символистского романа в романе 2030 годов XX века (А.Платонов «Чевенгур», В.Набоков «Дар»). Авто-реф.к.ф.н. М., 2004.
225. Кантор М. Бремя памяти// Встречи. Париж. 1934. Март. С. 126-129.
226. Кацис Л.Ф. Набоков и Тынянов// Пятые Тыняновские чтения . Рига. 1990. С.275-293.
227. Кедров К. Защита Набокова// Московский вестник. 1990. №2. С.275-293.
228. Ким Юн Ен. Проза поэта: лирические компоненты стиля В.Набокова (на материале сборника рассказов «Весна в Фиальте». Автореф.к.ф.н. М., 2005.
229. Кихней Л.Г. Акмеизм: Миропонимание и поэтика. М.: МАКС Пресс, 2001.
230. Коваленко А.Г. «Двоемирие» В.Набокова // Вестник Рос. Ун-та дружбы народов. Сер.: Филология, журналистика. 1994. №1. С.93-100.
231. Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала XX века. М.: Наука, 1986.
232. Козицкий И. Набоков и Добужинский: связи формальные и не только. // Нева. 1997. №11. С. 214-220.
233. Колобаева Л.А. «Никакой психологии», или фантастика психологии? (О перспективах психологизма в русской литературе нашего века) // Вопросы лит. 1999. №2. С. 3-20.
234. Колобаева Л.А. Русский символизм. М.: Изд-во Моск. уп-та, 2000.
235. Колтаревский НЛО. На кого похож пабоковский Найт? // Рус.речь. М. 1996. №2. С.8-10.
236. Коннолли Дж. Загадка рассказчика в "Приглашении па казнь" В.Набокова // Русская литература XX века: Исследования американских ученых. Спб.: Петро-РИФ, 1993. С.446-457.
237. Красавченко Т. Набоков В.В. М.,1997.
238. Крепе М. Элементы модернизма в рассказах Бунина о любви// Новый журнал. Ныо-Йорк, 1979. № 137. С.55 67.
239. Крымский пабоковский научный сборник. Выпуск 1-3. Симферополь, «Крымский архив», 2001 2003.
240. Кузмин М.А. Проза и эссеистика. В 3-х т. М.: «Аграф», 2000.
241. Кузнецов П. Утопия одиночества: Владимир Набоков и метафизика// Новый мир. 1992. №10. С.243-250.
242. Курицын В. Приглашение на казнь: Юрий Живаго и Федор Годунов-Чердынцев//Урал. 1989. №6. С.164-171.
243. Кусаинова Т.С. Темы «пространство» и «время» в лексической структуре художественного текста: (По роману В.Набокова «Другие берега»): Дис. канд. филол. наук.: Спб, 1997.
244. Кучина Т.Г. Творчество В.В.Набокова в зарубежном литературоведении. Дисс. канд. филол. наук. М., 1996
245. Лало А.Е. «Твердые мнения» В.Набокова // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1994. №31. С.140-152.
246. Лебедев А. К приглашению НабоковаИ Знамя. 1989. №10. С.203-213.
247. Левин Ю.И. Биспациальность как инвариант поэтического мира
248. B.Набокова// Russian Literature. Amsterdam. XXVIII. №1. 1990. С.45-124.
249. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998.
250. Лекманов О.А. Осип Мандельштам. М.: Молодая гвардия, 2004.
251. Лем С. Лолита, или Ставрогин и Беатриче // Лит. обозрение. 1992. №1.1. C.75-85
252. Липецкий В. За что же все-таки казнили Цинцинната Ц.? // Октябрь. 1993. №12.С. 175 — 179
253. Липецкий В. Набоков и Горький // Вестник новой литературы. Спб, 1997. №7. С.214-220.
254. Липовецкий М. «Беззвучный взрыв любви» : Заметки о Набокове // Урал. 1992. №4. С.155-176
255. Липовецкий М. Русский постмодернизм (Очерки исторической поэтики): Монография. Екатеринбург, 1997.
256. Липовецкий М. Эпилог русского модернизма (художественная философия творчества в "Даре" Набокова) // Вопросы литературы. 1994. Вып.З. С.72-95.
257. Люксембург А. Амбивалентность как свойство набоковской игровой поэтики//Набоковский вестник. Спб, 1998. Вып.1. С.16-25
258. Люксембург А. Английская проза Вл. Набокова. Спб., 1997. •
259. Люксембург А., Рахимкулова Г. Игровое начало в прозе В.Набокова // Поиск смысла. Сборник статей участников международной научной конференции «Русская культура и мир». Нижний Новгород, 1994. С. 157-168.
260. Люксембург А., Рахимкулова Г. Магистр игры Вивиан Ван Бок. (Игра слов в прозе Владимира Набокова в свете теории каламбура). Ростов-на-Дону: Издательство института массовых коммуникаций, 1996.
261. Лютова С. М.Цветаева и М.Волошин: эстетика смыслообразования. М.: Дом-музей М.Цветаевой, 2004.
262. Максимов Д.Е. Русские поэты начала века. Л.: Сов. писатель, 1986.
263. Маликова М. Набоков: Автобиография. СПб.: Академический проект, 2002.
264. Марков В.Ф. О свободе в поэзии: Статьи, эссе, разное. СПб.: Издательство Чернышева, 1994.
265. Маслова Ж.Н. Проблема билингвизма и англоязычное влияние в поэзии И.Бродского и В.Набокова. Автореф. к.ф.н. М., 2001.
266. Мандельштам О.Э. Собр. соч. В 4 т. М.: ТЕРРА, 1991.
267. Медарич М. Вл. Набоков и роман XX столетия // В.В.Набоков: Pro et contra. Спб., 1997
268. Медведицкий И. «Игра ума. Игра воображенья.» // Октябрь. 1992. №1. С.188-192.
269. Мельников Н. Безумное чаепитие с Владимиром Набоковым // Лит.обозрение. 1997. №2. С.84-87.
270. Мельников Н. Криминальный шедевр Владимира Владимировича и Германа Карловича (о творческой истории романа В.Набокова "Отчаяние") // Волшебная гора. М.: РИЦ "Пилигрим". №2. 1994. С.151-165.
271. Мельников Н. Роман-Протей Владимира Набокова (К выходу полного русского перевода романа «Ада, или Страсть: Хроника одной семьи») // Ки. Обозрение. 1996. 9 июля. С.22.
272. Мещанский А.Ю. Художественная концепция творческой личности в произведениях В.Набокова. Автореф.к.ф.н. Архангельск, 2002.
273. Мирюшкин В.Д. Жанрово-стилевое своеобразие романа «Приглашение на казнь» В.Набокова // Жанрово-стилевые проблемы руской литературы XX века. Тверь, 1994. С.56-67.
274. Михайлов О. Король без королевства// Набоков В. Машенька. Защита Лужина. Приглашение на казнь. Другие берега. М.: Художественная литература, 1988. С.3-14.
275. Михайлов О. Разрушение дара: О В.Набокове// Москва. 1986. №12. С.66-72.
276. Млечко А.В. Пародия как элемент поэтики романов В.В.Набокова: Дис.к. ф.п. Волгоград, 1998.
277. Мулярчик А. Русская проза Владимира Набокова. М.: Изд-во МГУ,1997.
278. Мулярчик А.С. Набоков и "набоковианцы" // Вопросы литературы.1994. Вып.З. С.125-169.
279. Мулярчик А.С. Постигая Набокова // Набоков В. Романы. М.: Современник, 1990. С.5-18.
280. Мулярчик А.С. Следуя за Набоковым // Владимир Набоков. Рассказы. Воспоминания. М.: Современник, 1991, С.5-22.
281. Мышалова Д. Очерки по литературе русского зарубежья. Новосибирск: ЦЭРИС; «Наука». Сибирская издательская фирма РАН, 1995.
282. Назарова Н.Е. Лейтмотивы в произведениях В.В.Набокова. Автореф. к.ф.п. М., 1999.
283. Нива Жорж. От Жюльена Сореля к Цинциппату (Стендаль — Набоков) // Континент. №87 (1996). С.296 304.
284. Никитина Н.Н. Поэзия русского Берлина 1920-х гг.: На разломе эпох. Автореф. дисс. канд. филол. пак. СПб., 2004.
285. Новик Ал. Рец. па роман "Защита Лужина"// Современные записки. 1931. №45. С.514-515.
286. Носик Б. Мир и дар Владимира Набокова. М.: Пенаты, 1995.
287. Носик Б. Набоков-переводчик и переводчики Набокова // Иностр. лит. 1993. №11.С.238-242
288. Носик Б. От временного к вечному (феноменологический роман в рус. лит. XX в. // Воп. лит. 1998. №3. С. 132 — 144.
289. Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литературе. М.: РГГУ, 2002.
290. Орлова О.М. Газданов. М., Молодая гвардия, 2003.
291. Осокин С. Рец. на роман "Приглашение на казнь"// Русские записки. 1939. №13. С.198-199.
292. Оцуп Н. Николай Гумилев. Жизнь и творчество. Спб.: изд. "Logos",1995.
293. Очерки истории языка русской поэзии XX века. Образные средства поэтического языка и их трансформация. М.: Наука, 1995.
294. Паламарчук П. Первый роман Сирина // Паламарчук П. Москва, или третий Рим. М., 1991. С.211-219.
295. Паперно И. Как сделай "Дар" Набокова// Новое литературное обозрение. 1993. №5. С.138-155.
296. Пимкина А.А. Принцип игры в творчестве В.Набокова. Дис.к.ф.н. -М., 1999.
297. Погребная Я.В. Поиски «Лолиты»: герой-автор-читатель-кпига па границе миров. М.: Прометей, 2004.
298. Полищук В.Б. Поэтика вещи в прозе В.Набокова. Автореф.к.ф.н. СПб., 2000.
299. Полупанова А.В. Формы выражения авторского сознания в автобиографической прозе И.Бунина и М.Осоргина («Жизнь Арсеньева» -«Времена). Автореф.к.ф.н. М., 2002.
300. Поплавский Б. Домой с небес. Романы. Спб.: изд. "Logos"; Дюссельдорф: «Голубой всадник», 1993.
301. Пурин А. Набоков и Евтерпа// Новый мир. 1993. №2. С.224 — 241.
302. Пурин А. Пиротехник, или романтическое сознание // Нева. 1991. №8. С.171 —180.
303. Пушкин и Набоков. Материалы международной научной конференции. СПб.: «Дорн», 1999.
304. Рахимкулова Г.Ф. Олакрез Нарцисса: проза Владимира Набокова в зеркале языковой игры. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост, ун-та, 2003.
305. Ревзина О.Г. Марина Цветаева // Очерки истории языка русской поэзии XX века: Опыты описания идиостилей. М.: Наука, 1995.
306. Ролен Оливье. Пейзажи детства. М., изд-во НГ, 2001.
307. Ропен Омри. Серебряный век как умысел и вымысел. М.: ОГИ, 2000.
308. Русский Берлин / Сост. В.Сорокина. М.: МГУ, 2003.
309. Савельев С. Рец. на "Соглядатай"// Русские записки. 1938. №10. С. 195197.
310. Сарнов Б. Ларец с секретом (О загадках и аллюзиях в русских романах В.Набокова) // Воп. лит. М. 1999. №3, с. 136 — 182.
311. Святополк-Мирский Д.П. Поэты и Россия: Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи. СПб.: Алетейя, 2002.
312. Семенова П.В. Цитата в художественной прозе (на материале произведений В.Набокова. Автореф.к.ф.н. М., 2004.
313. Сердючеико В. Чернышевский в романе В.Набокова «Дар»: К предыстории вопроса // Вопросы лит-ры. 1998. №2. С. 269 272.
314. Силард Л. Орнаментальность/ орнаментализм // Russian Literature. XIX —1986.
315. Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб: изд-во Ивана Лимбаха, 2002.
316. Сконечная O.IO. Традиции русского символизма в прозе В.В.Набокова 20-30-х годов // Автореф. дис. канд. филол. наук. М.,1994.
317. Сконечная О.Ю. Черно-белый калейдоскоп: Андрей Белый в отражениях Набокова // Литературное обозрение. 1994. №7-8. С.34-46.
318. Слюсарева И. Построение простоты. Опыт прочтения романа Вл.Набокова «Защита Лужина» // Подъем. 1988. №3. С. 129-140.
319. Струве Г. Русская литература в изгнании. Изд. 2-е, испр. и дои. Париж: YMCA-PRESS, 1984.
320. Тамми Пекка. Тени различий: "Бледный огонь" и "Маятник Фуко"// НЛО, №19 (1996). С. 62-70.
321. Тименчик Р.Д. "Письма о русской поэзии" Владимира Набокова// Литературное обозрение. 1989. №3. С.96-97.
322. Титов О.А. Экспрессивные фонетико-графические средства в прозе
323. В.Набокова. Авторсф.к.ф.п. Ярославль, 2000.
324. Толстой И. Набоков и его театральное наследие // Набоков В. Пьесы. М.: Искусство, 1990. С.5-42.
325. Топоров В.Н. Перербургский текст русской литературы. СПб.: «Искусство СПБ», 2003.
326. Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т.1. Теория и некоторые частные ее приложения. М.: Языки славянской культуры, 2004. .
327. Тюпа В.И. Постсимволизм. Теоретические очерки русской поэзии XX века. Самара, 1998.
328. Урбан Т. Набоков в Берлине. М.: «Аграф», 2004.
329. Урнов Д. Приглашение па суд: о В.Набокове // Урпов Д.М. Пристрастия и принципы. М., 1991. С.96-114.
330. Усачева Т.В. Эстетический смысл пародии и стилизации в творчестве В.Набокова: Дис. к.ф.н. М.,1998.
331. Фатеева. Контрапункт интертекстуальености, или Интертекст в мире текстов. М.: «Агар», 2000.
332. Федякин С.Р. "Защита Лужина" и набоковское зазеркалье // Е.Замятин, А.Н.Толстой, А.Платонов, В.Набоков. В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / Сост. Г.Г.Красухип. М.: Изд-во МГУ, 1997. С.73 —79.
333. Федякии С.Р. Круг кругов, или набоковское зазеркалье // Набоков В.В. Избранное. М.: Издательство ACT; Олимп, 1996. С.5 — 12.
334. Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин 1921-1923. М., Русский путь, 2003.
335. Ханзеи-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм / Пер. с нем. Спб.: Академич. проект, 1999.
336. Ханзен-Лёве А. Мифопоэтический символизм. СПб: Академический проект, 2003.
337. Ходасевич В. Колеблемый треножник. М.: Сов. Писатель, 1991.
338. Хохлов Г. Рец. на «Возвращение Чорба: рассказы и стихи»// Воля России. 1930. №2. С. 190-191.
339. Художественная речь русского зарубежья: 20-30-е годы XX века. Анализ текста. СПб.: изд. СПб. Ун-та, 2002.
340. Целкова Л.II. В.В.Набоков в жизни и творчестве, М.: Русское слово, 2002.
341. Цетлин М. Рец. на кн. «Возвращение Чорба» // Современные записки. 1930. №42. С.530-531.
342. Чайковская В. На разрыв аорты (Модели "катастрофы" и "ухода" в русском искусстве) // Вопросы литературы. 1993. №6. С.3-23.
343. Чижикова О.В. Прописная буква как средство кодирования сакрального смысла в романе В.Набокова «Лолита» // Язык и письмо. Волгоград, 1995.
344. Шаховская 3. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991.
345. Шраер М.Д. Набоков: темы и вариации. СПб.: Академический проект, 2000.
346. Штерн М.С. В поисках утраченной гармонии (проза И.А.Бунина 1930 — 1940-х гг.). Омск: изд. ОмГПУ, 1997.
347. Шульман М.Ю. Набоков, писатель: Манифест. М.: изд. А. и Б., 1998.
348. Эткипд Е. Здесь и там. Спб.: Академический проект, 2004.
349. Эткинд Е. Материя стиха. СПб.: изд-во «Гуманитарный союз», 1998.
350. Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987.