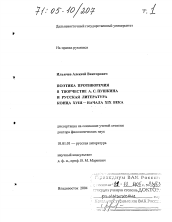автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Поэтика противоречия в творчестве А.С. Пушкина и русская литература конца XVIII - начала XIX века
Полный текст автореферата диссертации по теме "Поэтика противоречия в творчестве А.С. Пушкина и русская литература конца XVIII - начала XIX века"
На правах рукописи
Ильичев Алексей Викторович
ПОЭТИКА ПРОТИВОРЕЧИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА
10.01.01.— русская литература
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук
Владивосток 2004
Работа выполнена на кафедре истории русской литературы Института русского языка и литературы Дальневосточного государственного университета
Научный консультант
доктор филологических наук, профессор В. М. Маркович
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор В. П. Старк, доктор филологических наук, профессор Р. В. Иезуитова, доктор филологических наук, профессор А. С. Янушкевич
Ведущая организация:
Кафедра филологии Международного эколого-политологического университета (г. Москва)
Защита состоится 14 декабря 2004 года в 14 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.056.04 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук в Дальневосточном государственном университете по адресу: 690600 Владивосток, ул. Алеутская 56, ауд. 422
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Дальневосточного государственного университета по адресу: Владивосток, ул. Мордов-цева 12
Автореферат разослан 13 ноября 2004 г.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат филологических наук, доцент
Е. А. Первушина
Предметом исследования явилось изучение определенной структуры художественного мышления Пушкина, которую, вслед за самим Пушкиным, можно назвать поэтикой «противоречия». Под этим понимается тот способ организации художественной целостности произведения, которая в пределе создает эффект полноты, гармонии, многосторонности, всеохватности, что достигается, в частности, тем, что к парадоксальному единству сводятся противоположные начала. Исследователи-пушкинисты в тех или иных аспектах обращались к анализу противоречий в творчестве поэта, но эта особенность его мышления не была предметом специального монографического исследования. Именно это обстоятельство определяет как новизну, так и актуальность данной работы.
Цель исследования — прояснить проблему, осознать ее масштаб и значительность как для анализа пушкипского наследия, так и для истории русской литературы конца XVIII — начала XIX века. Возникла необходимость обратится к пушкинским предшественникам, к пушкинским учителям, чтобы прояснить тот литературный коп-текст, которым питалось пушкинское творчество. Среди многообразия авторов, мы остановились на важнейших для нашей темы — на творчестве Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского, И. А. Крылова. В связи с тем, что предметом анализа оказались столь разные авторы, необходимо было не только учесть их индивидуальные отличия, но и попытаться найти как объединяющие их историко-литературные и литературоведческие темы, так и определенное единство литературоведческого анализа выше означенной проблемы.
Методические и методологические аспекты литературоведческого анализа менялись в связи со спецификой самого исследуемого материала. Оказалось важным прояспить философско-эстетические представления писателей, на которые опирается их поэтика противоречия, определить особенности ее функционирования в различных художественных системах, учесть индивидуальность каждого автора, своеобразие его стиля.
Поэтика противоречия реализуется на различных уровнях художественной целостности — на уровне образном, композиционном, стилистическом и стилевом. Если целое текста рассматривать как единство семантических приемов в движении, этапы которого — разрушение слова, воссоздание его значения и построение поэтического мира как модели действительного, то механизм, порождающий это движение, можно определить как художественный образ. Этот процесс может протекать по нескольким семантическим конфигурациям — по аллегорической, метонимической или метафорической, что
Р^С. >НД.'(М V, |
• ГиЬЧ.'ЮТЬ' - •
создает логическую основу для типологических исследований. На разных уровнях текста могут действовать разные по своей природе семантические закономерности. Исследование этих процессов, взятых в историческом аспекте, позволяет описать становление художественности русской литературы конца XVIII — начала XIX века через осознание меры поэтической условности, реализованной в творчестве того или иного автора. Таков историко-литературный аспект исследования. Мы обратились к анализу различных в жанровом отношении произведений А. С. Пушкина (лирика, драма, проза, роман в стихах), показав тем самым, что выявленная закономерность художественного мышления писателя носит сверхжанровый характер. Более того, межтекстовые связи зачастую организуются Пушкиным по принципу противоречия, что дает ему возможность создавать новые по своим организационным принципам художественные ансамбли (лирические, прозаические, драматические циклы, роман «Евгений Онегин»). При обращении к творчеству Пушкина нас интересовала пе только эстетико-философская база поэтики противоречия, не только ее реализация как на разных уровнях художественного целого текста, но и трансформация поэтики противоречия из области художественной формы в сферу художественного содержания, в сферу художественного (и не только художественного) мышления поэта.
Выход в сферу художественного содержания изменяет и аспект литературоведческого анализа. Он смещается в сферу идейно-тематическую. Все вышесказанное позволяет говорить о картине мира, которая складывается в позднем творчестве Пушкина, основные категории которой оформляются с опорой на логику противоречия.
Теоретическая значимость работы определяется тем обстоятельством, что позволяет выделить принципиально новый объект исторической поэтики и предложить методологию его описания. Сообразно поставленной задаче диссертация состоит из двух частей. Первая часть — «Поэтика противоречия в русской литературе конца XVIII — начала XIX века» — состоит из пяти глав, в которых исследуется это явление в творчестве Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, К. Н. -Батюшкова, В. А. Жуковского, И. А. Крылова. Выбор этих писателей связан с особой ролью, которую они сыграли в качестве пушкинских учителей. Вторая часть — «Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина» — состоит из трех глав, которые охватывают весь творческий путь Пушкина. Мы остановились не к каком-нибудь определенном этапе эволюции Пушкина, но, выборочно обращаясь к тем или иным произведениям поэта, созданным в разные периоды творчества, рассматриваем их как наиболее показательные для каждого этапа его творческого пути. В отдельную самостоятельную гла-
ву выделено исследование особенностей формы и содержания так называемого каменноостовского цикла, который явился итогом творческого и духовного развития поэта.
Методологической основой работы явились труды виднейших пушкинистов, начиная с В. Г. Белинского, П. В. Анненкова, П. И. Бартеньева, К. Я. Грота, классические исследования В. В. Виноградова, Б. В. Томашевского, Д. Д. Благого, Г. А. Гуковского, С. -М. Бонди, Б. С. Мейлаха, Н. В. Измайлова, Г. П. Макогоненко, Б. П. Городецкого, заканчивая новейшими исследованиями С. Г. Бочарова, Ю. М. Лотмана, С. Н. Бройтмана, В. М. Марковича, Б. Т. Удодова, Б. М. Гаспарова, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичева, В.П. Старка, Н. Н. Скатова, В. А. Грехнева, Р. В. Иезуитовой, А. С. -Янушкевича, М. Ф. Мурьянова, О. А. Проскурина, Т. Г. Ма-льчуковой, В. И. Глухова и мн. др.
В зависимости от особенностей анализа мы использовали разные методы исследования — от биографического и текстологического до историко-литературного и структурно-типологического.
Основпые идеи исследования прошли апробацию на внутривузов-ских, межвузовских, региональных, всероссийских и международных конференциях (Тбилиси (1986), Новосибирск (1986), Владивосток (1988, 1990,1997,1998,1999,2000, 2004), Ленинград (1988), Санкт-Петербург (1998, 2002), Ставрополь (1990), Харьков (1998).
Основное содержание работы отражено в 5 тезисах, 24 статьях и 5 монографиях (всего 67,35 авт. л.).
Во введении определяются цели, задачи и объект исследования, анализируется научная пушкинистическая и литературно-теоретическая традиция. Автор излагает методические и методологические основы предложенного исследования.
Первая часть — «Поэтика противоречия в русской литературе конца ХУШ-начала XIX века» — состоит из пяти глав, в которых исследуется это явление в творчестве Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского, И. А. Крылова.
В главе первой — «Поэтика противоречия в творчестве Г. Р.Державина» — подчеркивается, что в оценках Пушкиным как личности, так и творчества Г. Р. Державина выделяется то его свойство, которое Л. В. Пумпянский назвал «соединением несоединимого«-. Отсутствие гармонии в поэзии Державина позже будет противопоставлено Пушкиным творчеству В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова. Словесная живопись Державина определяется как «яркая и неровная», а отличительная черта школы Жуковского-Батюшкова — «гармоническая точность». Принцип соединения несоединимого, принцип контраста и противоречия реализуется на всех уровнях художественного мира Державина — от его общеэстетических представле-
ний до создания отдельных образов и словесных тропов, от отдельных композиционных решений до принципиальных основ его художественного мышления. Если попытаться осмыслить роль подобных приемов в поэтике Державина, то начать следует с риторических традиций. Размышляя о качествах, которые составляют достоинство высоких од и гимнов, Державин выделяет разнообразие и противоположности. То, что в пространном «Разсуждении о лирической поэзии или оде» дано на обширном фоне многих других поэтических приемов, то в державинской поэзии осуществляется как важнейший принцип. Если обратиться к поэтическому творчеству, то можно обнаружить, что парадоксально-противоречивое стилистическое оформление получают темы, которые с содержательной точки зрения не могут быть выражены иначе. Это касается теологической темы, которая исследуется на материале оды «Бог», весь текст которой состоит из парадоксальных образов и их сочетаний, один из источников которых — Священное писание, а в нем — прежде всего Псалтырь. Исследование библейских параллелей дает возможность утверждать приоритет псалмической традиции, что связано с влиянием на творчество Державина русской духовной поэзии восемнадцатого века. Отметим, что традиция духовных од, утверждая величие Божье, обычно умаляет достоинство человека. На этом фоне резко выделяется абсолютно новационное решение указанной темы у Державина — в какой-то момент развития оды человек оказывается уравнен с Богом: «Я царь,— я раб,— я червь,— я Бог!»
В этой связи обращают на себя внимание два образа, через которые Державин поэтически осмысляет отношения Бога и человека — образ «цепи существ» и образ человека как «связи мира». Образ «цепи существ» в библейской традиции отсутствует. Образ Бога и созданного им мира как Цепи, соединяющей, связывающей Творца и творение обрел свое классическое выражение в эпоху Возрождения в неоплатонической философии Марсилио Фичино (1433—1499), где соединились традиции гностицизма, Платона и Плотина, а так же ранних христианских философов Дионисия Ареонагита и Михаила Псел-ла. Для нас существенна концепция души в философии Фичино, где она представлена как «Copula mundi» (узы, связь мира). Неоплатонические возрожденческие традиции объясняют как образ цепи Бытия, так и образ человека как связи мира в державинской оде. Это урав ■ нивание Бога и человек (при сохранении мысли о его человеческом ничтожестве) можно оценить как собственно державинское поэтическое открытие. В свою очередь образ человека уже в библейской традиции выглядит противоречивым. Поэтому сама тема человека в христианской традиции выглядит парадоксально-противоречивой. Как отмечает Державин, «есть как бы две души в человеке, одна —
порядку божественного; <..-> другая вещественная и чувствительная, которую имеем мы общую со скотами <...>». Образ человека дан в державинской оде одновременно как цельный и как антитетичный. Сходными средствами поэтики пользуется Державин и тогда, когда речь идет об античных богах. Единство приема тут объясняется общностью ситуации — описывается сверхъестественное, сверхобычное, чудесное явление. Если с божественных высот державинско-го мира спуститься ниже — в сферу героев, то мы обнаружим, что поэтика изображения Бога и монарха сближаются, ведь монарх — это земное божество, их функции совпадают. И в этом случае Державин прибегает к уже известному образу «единой цепи», объединяющей сердца и мысли подданных и монарха. Таков образ Петра I. Парадоксальное объединение «ужасного» и «прекрасного» являет образ Екатерины II (Гремиславы). Но вот когда взгляд Державина опускается еще ниже — в сферу жизни обычных людей, к изображению мира, который его окружает, то и тут он выявляет парадокс: с одной стороны, мир — это Божье творение, с Божественной точки зрения — его творение есть гармоничное сочетание разнородных стихий, но, чем ближе к миру земному, миру человеческому, то, с другой стороны, эта Божественная гармония теряет свою очевидность. Человеческий мир управляем эгоистическими страстями. Они — источник алчности и непредсказуемости, неорганизованности социального мира. В оде «Фонарь» Державин создает вариацию на тему «суета мира», а в «Облаке» использует популярный образ колеса Фортуны. Если для изображения божественной и монаршей сферы Державин использует вертикальный образ цепи, то для изображения судеб обыденного мира ближе оказывается образ колеса. Он помогает создать такую общую картину мира, в которой все непредсказуемо изменяется. Противоречиво-парадоксальный стиль обнаруживается и при разработке Державиным темы «поэт и поэзия» — прежде всего в мотиве поэтического бессмертия. Парадокс может воплотиться и в форме чудесной метаморфозы, как это произошло в знаменитом «Лебеде» (1804).
Муза Державина смело соединила быт и бытие, высокое и низкое, шутку и истину. Наш анализ показал, что противоречиво-парадоксальный стиль охватывает в поэзии Державина и сферу идеологии (духовная ода), и сферу истории (торжественная ода) и сферу частной жизни, стремясь выразить противоречиво-цельную поэтическую концепцию мира.
Особый интерес представляет создание художественной целостности отдельного произведения.
Мы остановимся на одном из шедевров поздней поэзии Державина — на написанном в 1807 году послании Державина «Евгению. Жизнь Званская».
Исходной посылкой предпринятого анализа явилось понятие художественной конвенциональности. Мера конвенциональности обычно связана с тем, как осознается писателем категория поэтичности, какова установленная им норма поэтичности. Анализируя конкретный текст, мы определяем тип организации поэтического смысла художественного целого. Решающую роль играет при этом выделение способа выражения той или иной нормы поэтичности, выделение особенностей приемов иносказания, которые формируют текст на разных уровнях: словесном, композиционном, образном.
Сниженно-бытовым стилем описываются явления частной жизни, которая, однако, в масштабе поэтического целого должна быть осознана как частное проявление неких общих закономерностей. Конкретная деталь несет в себе аллегорическое значение: это подтверждается тем, что план словесно-образного выражения оказывается предельно конкретизирован, в то время как план содержания остается абстрактно-обобщенным. Однако от традиционной аллегории державинская аллегоричность принципиально отличается тем, что связь между планом выражения и планом содержания приобретает мотивированный, а не только конвенционально-традиционный характер. Строфическая композиция семантизируется благодаря стилистической дифференциации строф и анафорическому принципу их объединения. Строфа строится как изображение отдельной сферы жизни: бытовой — в сниженном стилевом регистре, бытийственной — в возвышенном. При этом композиционная последовательность строф аллегоризируется. Так, композиционный блок 10—21 строф становится аллегорическим изображением «великой цепи бытия», а композиционный блок 30—43 строф — идиллическим изображением жизни с оттенком утопичности. Изощренная аллегоричность и поразительная конкретность составляют парадокс словесно-образного стиля «Жизни Званской». Парадокс этот разрешается их объединением на основе аллегорического принципа. Преобразованная им аллегоричность позволяет Державину вводить в текст конкретно-бытовые детали или исторические аллюзии, сохраняя при этом философскую проблематику послания, не нарушая принятых им норм поэтичности. «Жизнь Званская» оказывается своеобразным поэтическим символом жизни человека, преодолевающего смерть через поэзию. Центральным семантическим приемом, создающим этот обобщенно-поэтический смысл, является аллегоричность, которая формирует как словесный и композиционный уровни текста, так и его образно-поэтический строй. Такой тип поэтической организации
текста определяется автором диссертации как аллегорический. К этому же типу тяготеют многие стихотворения поэта («На смерть князя Мещерского» (1779), «Ключ» (1779), «На рождение, в Севере порфирородного отрока» (1779), «Фелица» (1762), «Водопад» (1791— 1793), «Павлин» (1795), «Облако» (1806), «Гром» (1806) и т. д.). Столь остро представленная антитетичная модель мира, которая выросла на основе классической риторики и поэтики, определили и своеобразие исторического места Державина — между классицизмом и романтизмом. Державинское преобразование прежних риторических приемов, создание на этой обновленной системе риторики целостной поэтической картины мира — таков вклад Державина в становление художественности.
Во второй главе первой части — «Поэтика противоречия в творчестве Н. М. Карамзина» — автор утверждает, что в творчестве Н. -М. Карамзина поэтика противоречия приобретает осознанный и принципиальный характер. Это уже не проблема стилистики или образные особенности решения какой-либо поэтической темы. Принцип противоречия для Карамзина носит философский, эстетико-мировоз-зренческий характер. В 1798 году Карамзин пишет важнейшее для нашей темы и программное для себя стихотворение «Протей, или несогласия стихотворца». Совершенно невозможно понять то, что называется авторской позицией, ибо она представлена прямо противоположными идеями. Но можно эту позицию описать иначе — как возвышающуюся над каждой конкретной мыслью, причем это возвышение мотивировано эмоциональной реакцией. Такая структура текста свойственна не только философской поэзии Карамзина, она обнаруживается и в его публицистике. Пушкин прошел значительную школу «Арзамаса», главой которого был Карамзин и в котором царил мифологический культ поэта-Протея, основание которому В. -С. Краснокутский находит именно в этом стихотворении Карамзина. Таков историко-литературный контекст этого карамзинского стихотворения. В основание своей поэзии Карамзин поставил свою личность. Представление о личности носит у Карамзина ярко выраженную сенсуалистическую окраску, а в пределах сенсуалистической доктрины проблема истины отступает на второй план, выдвигая на первый переживания. Выразительным примером художественной реализации этой мысли оказывается стихотворение «Кладбище» (1792). Противоречия в идейном мире поэта связываются Карамзиным с тремя важнейшими параметрами, на которых основана его эстетика: Природа, Искусство и чувствительное сердце. Объяснению всех этих категорий посвящено другое программное стихотворение 1798 года «Дарования». Искусство и Поэзия заставляют увидеть мир иными глазами, заставляют увидеть не очевидное, скрытое, тайное.
Венцом же творепия оказывается Человек. Но этот венец творения, после падения, потерял подобие совершенства Творца. Поэтому картина нравственного света носит у Карамзина противоречивый и ан-тиномичный характер.
Бог оказывается творцом совершенной гармонии, но эта Божественная Премудрость непостижима для человека, природа которого не просто далека от совершенства, но являет собой сложный, противоречивый, порой совершенно алогичный мир, поэтическое описание которого явилось художественным открытием и заслугой Карамзина.
Обманчивость и нестабильность окружающего мира связаны с тем, как цознает его человек. По Карамзину — это прежде всего человеческие чувства. А они-то как раз не поддаются никакому разумному руководству. Наиболее очевидно противоречия чувств выразятся в любовных переживаниях. В письме к А. И. Тургеневу (Остафьево, 17 ноября 1815 года) Карамзин пишет: «Страсти должны не счастливить, а разрабатывать душу». Эта копцепция чувствительности положена Карамзиным и в основание самого знаменитого произведения — повести «Бедная Лиза». Сам мир чувств и переживаний описывается Карамзиным особенным образом. В центре внимания поэта оказываются не простые, а так называемые «смешанные» чувства. Областью изображения становится столкновение различных по своему качеству переживаний. Эта область изображения осознается как новаторская, современная. Классическим выражением этой новой сентиментальной эстетики чувств стало стихотворение Карамзина «Меланхолия. Подражание Делилю» (1800). В художественном мире Карамзина важно отметить и своеобразие экспликации некоторых важнейших поэтических тем в свете его размышлений о Гении. Во-первых, это тема поэтического воображения. В стихотворении «К бедному поэту» Карамзин впервые декларативно утвердил «мечту», «фантазию» как особую ценностную величину, противопоставленную несовершенствам реального — в том числе и социального — мира. Бедный в реальности поэт живет как в раю в мире воображения. Дальнейший текст стихотворения развертывается как изображение цепи воображаемых картин. Главный парадокс экспликации этих воображаемых картин заключается в том, что они подаются как реальные, их ценностная значимость гораздо более существенна, чем значимость реального мира. Философской основой этого «парадокса воображения» является сенсуалистическая доктрина Э. Б. де Конди-льяка. В этой философской традиции можно увидеть основание своеобразного двоемирия Карамзина. При этом, если в стихотворении Карамзина граница между миром реальным и миром воображения сохраняется (хотя мир мечты рисуется как более значимый), то у его
последователей это граница стирается: воображаемый мир окончательно вытесняет реальный. Так в историко-литературном контексте разрешается «парадокс воображения» Карамзина.
Во-вторых, это тема соотношения «малого» и «большого» мира, т.е. способность поэта превращать малое в великое или иногда делать великое малым. Наиболее выразительным примером этой ситуации является два стихотворных послания «Послание к Дмитриеву» и «Послание к Александру Алексеевичу Плещееву» (оба 1794 года). В первом противопоставляется «мрачный свет» и «тихий кров», а во втором — мечты о всеобщем счастье и о счастье личном. Своеобразие постановки вопроса Карамзиным заключается в том, что, отказываясь от жизни в большом мире, не претендуя на устроение всеобщего счастья, он создает образ некой парадоксальной «малой» гармонии, создание которой возможно под тихим кровом.
Концепция поэта как лжеца, искусства как игры, сама языковая программа Карамзина современными исследователями типологически соотносятся с французской прециозной литературой. Карамзи-низм предстает при этом как своего рода инвариант прециозной культуры. Воздействие этого типа барокко сказалось и на развитии русской литературы XVIII века докарамзинского периода. Развитие русского классицизма постоянно корректируется как формами отечественного барокко, так и формами европейского, порождая такие своеобразно-неповторимые системы как поэзия Г. Р. Державина и Н. М. Карамзина.
В главе третьей — «Поэтика противоречия в творчестве К.Н. Батюшкова» — подчеркивается, что поэтический мир К. Н. Батюшкова во многом свои истоки черпает в поэзии Н. М. Карамзина, что подтверждается анализом раннего стихотворения Батюшкова «К Мальвине». Образная композиция стихотворения строится как разворачивающаяся манифестация значений, имплицитно содержащихся в образе розы. Роза теряет качество образа, приобретая условно-знаковый характер. Такое стремление образа «выявить» свой знаковый характер считается типичным для поэтики барокко как вторичного стиля. В этом раннем стихотворении Батюшкова с удивительной прозрачностью проявились некоторые типичные основы художественного мира поэта. Его парадоксально-афористический финал, эффектно играющий антитезой «жизнь / смерть», подготавливает гораздо более знаменитую концовку стихотворения «Выздоровление» (1807—1809 [?]): «Я от любви теперь увяну». Не только концовка, но и сама семантическая композиция «Выздоровления» строится как развернутая метафора «увядания цветка».
Такой тип афористической концовки характерен для французских элегиков XVIII века, влияние которых на творчество Батюшкова
и
очевидно. Это — Шолье, Лафар, Грессе, Дора, Парни, творчество которых современные исследователи характеризуют как яркое воплощение стиля рококо, преемственно связанного со стилем барокко XVII века, но дающее его «облегченный» вариант.
Другая тема, которая связывает Батюшкова и Карамзина, это тема «поэтической мечты». Действительно, над важнейшей для себя элегией «Мечта» поэт работает приблизительно тринадцать лет, начиная с 1804—1806 года. Поэт Батюшкова словно продолжает мысленное путешествие бедного поэта Карамзина. Мечта поэта обнимает все века и все культуры. Это — черта, свойственная вообще поэтике романтизма.
Основное противоречие художественного мира Батюшкова строится на том, что поэт выдает плоды своей мечты за подлинную реальность, а подлинная реальность отвергается.
Главнейшие эстетические представления Батюшкова нашли воплощение в «Послании И. М. М<уравьеву>- А<постолу>» (1815). Батюшков один из первых формулирует важнейшую эстетическую установку романтизма — единичность, индивидуальность, уникальность, абсолютное своеобразие гения. Эта эстетическая установка имеет очень острую антиклассицистическую направленность. В творчестве Батюшкова возникает тема непонятого гения. Блестящее выражение она нашла в исторической элегии «Гезиод и Омир, соперники» (1816— 1817), в элегии «Умирающий Тасс» (1817). В «Послании И.М. М<у-равьеву> -А<постолу>» трактуется тема «мечты», только находит она иное воплощение. «Муза тайная», «мечта» — создают второй мир, дивный мир, в котором и осуществляется настоящая жизнь. Образ «любимца Муз» вовсе не связывается Батюшковым непременно с поэтом. Можно быть судьей, министром или воином (заметим, что Батюшков выбирает далекие от поэзии сферы деятельности), но при этом не изменять Музам. В реальности человек может быть оратором, ученым, философом, художником, судьей, министром, воином, более того, он вовсе не обязан сочинять стихи, важна совсем другая способность поэта — способность жить в воображаемом мире как в действительном. Именно этим свойством он отличается от прочих людей. Для Батюшкова главнейшее правило, которое он не уставал повторять, утверждает единство жизни и поэзии. Но оно скрывает в себе существеннейшее противоречие: лирический герой батюшковс-кой поэзии никогда прямо не соответствовал его реальному образу. Эта ситуация напоминает ту, которая сложилась в языковой программе Н. М. Карамзина, пытающегося сблизить язык литературы и разговорный язык: литература «опускается» до жизни, но и жизнь должна «возвыситься» до литературы. Литература опрощается, но к жизни начинают применяться чисто эстетические критерии.
В дневнике Батюшков дает автопортрет, сотканный из прямо противоположных характеристик, представляя его теперь уже не в качестве «чудака», а в качестве «странного» человека, открывая одну из самых серьезных тем в русской литературе XIX века.
Проанализируем, как реализуется поэтика противоречия в художественной целостности отдельного произведения. В качестве примера остановимся на «Моих Пенатах» (послание к Ж<уковскому> и В<яземскому>) (1811). Анализ начинается с рассмотрения композиции. Если у Державина минимальной композиционной единицей была ( строфа, содержащая в себе законченное изображение определенной жизненной сферы, то у Батюшкова дан как бы единый поток жизни,, пронизанной, однако, непримиримым трагическим противоречием. Контрастность резко разграничивает поэтически-возвышенный мир лирического героя стихотворения и низменный, антиэстетический мир светской черни. Это противопоставление вырастает на основе просве-тителъской оппозиции «естественного—цивилизованного», но одновременно потенциально несет в себе и романтическую оппозицию «мечты» и «действителъности». Мечта оказывается для героя одним из способов нейтрализации трагических оппозиций. Существенно, что герой послания — поэт (в отличие от французской традиции Грессе, Дюси). «Мечта» оборачивается для него идеальном миром поэзии. Обращает на себя внимание, что тема поэзии в послании регулярно выступает в ряду других, смежных тем (лень, любовь, философия, пиры ит. д., которые оказываются ее метонимическими заместителями. Поэт все время говорит об одном и том же, только разными словами. Семантический механизм, порождающий такого рода текст, закономерно определяется автором как метонимический. Автор диссертации анализирует работу этого механизма на уровне словесном, композиционном, тематическом, образном. Обнаруживается далеко не случайная связь между данной семантической конфигурацией и литературно-эстетический взглядами Батюшкова, его художественным методом. Наконец, устанавливается, что аналогичным образом строятся не только художественные тексты поэта («Мечта», «Вакханка», «Одиссей» и мн. др.), но и эпистолярные.
В результате появляется возможность охарактеризовать «Мои Пенаты» как серию метонимических перифраз на тему «поэт и поэзия», а создаваемый всем художественным целым поэтический смысл послания понять как утверждение особого статуса жизни поэта. Центральной семантической конфигурацией, организующей этот поэтический смысл, является метонимия.
Метонимический образ Батюшкова сохраняет конкретно-предметный план выражения (и в этом смысле он классицистичен), но план
содержания отсылает не к реальному миру, а к миру идеальному, имеющему ярко романтическую окраску.
Батюшков разрабатывает карамзинскую идею воображаемого мира мечты, поэзии, поэтического гения, придавая им завершенный концептуальный характер. Он внес свой значительный вклад в проблему эстетизации действительности, создав условный образ лирического героя в поэзии.
В главе четвертой — «Поэтика противоречия в творчестве В. А. Жуковского» — автор диссертации отмечает, что В. А. Жуковский по-иному развивает традицию Карамзина. Поэтому совсем не случайно Жуковскому оказалась близка мысль Карамзина о несогласиях стихотворца, что подтверждается статьей «О нравственной пользе поэзии» («Вестник Европы» 1809. Ч. 43. № 3). Обзор поэтической практики Жуковского уместно начать с того, что напомнить некоторые критические замечания современников, связанные с его стилистическими новациями. Для О. Сомова алогичными оказались достаточно обычные метафорические переносы, но важно отметить, что они воспринимаются как отклонение от рационалистической нормы. Обращаясь к стихотворению «Сельское кладбище» (1802), и «Певец» (1811) диссертант исследует как создает Жуковский образ чувствительного певца. Другая очень значительная тема поэзии Жуковского связана с изображением природы. Показательными для поэта в этом отношении являются элегия «Славянка» и «Невыразимое» (отрывок).
«Все мелкие, разрозненные части видимого мира,— пишет Жуковский,— сливаются в одно гармоническое целое, в один, сам по себе несущественный, но ясно душою нашей видимый образ. Что же этот несущественный образ? Красота. Что же красота? Ощущение и слышание душою Бога в сознании». Сама эта цельная концепция, для того, чтобы выразить себя, облекается в форму художественного противоречия, некой метаморфозы, которую, следуя за Жуковским, можно назвать «преображением». Законченную и классическую форму эта метаморфоза нашла в «Невыразимом» (1819). Этот отрывок связан с поэтической эстетикой Жуковского и ставит проблему перевода языка природы на язык человеческий. Он хочет «в мертвое живое передать», «создание в словах пересоздать», т. е. выйти за рамки видимого очами, увидеть «земли преображенье» (не случайно эта тема возникла и здесь). Эту запредельную сферу обычными словами не выразить. Но текст создан, пусть и исполненный неясностей, оксюморонов, алогизмов, намекающих на невозможность выразить всю предполагаемую полноту смысла. А вот обычного языка для него нет. Жуковский пытается выразить «действие неизглаголанного мироздания на душу, отверстую его святыне». Он созерцает мир, увиден-
ный с запредельной точки зрения, с точки зрения «того света» (ср. стихотворение «Голос с того света» (1817)). И в этом случае мы обнаруживаем концепцию гармоничности и величия человека, которые, однако, в земном воплощении оказываются исполнены внутренними противоречиями и несовершенством. Выразительнее всего эта мысль представлена в элегии «Теон и Эсхин» (1814). И тот, и'другой герои прибывают в скорби. Но для Теона ею исчерпывается смысл существования, а для Эсхина открыта некая парадоксальная гармония, внутри которой божественно-счастливая жизнь сопряжена с печалью, страданье в разлуке оборачивается любовью. Именно возможность увидеть свое несовершенное земное существование с точки зрения божественной гармонии вселенной и позволяют Эсхину быть «выше судьбы», он побеждает самую могущественную античную богиню — Судьбу. Рассмотрим на материале отдельного произведения как реализуется поэтика противоречия в пределах художественной целостности. В качестве примера остановимся на ответном послании Жуковского «К Батюшкову» (1812), написанном в качестве ответа на «Мои Пенаты». Внимание автора диссертации сконцентрировано на такой яркой черте поэтического слога Жуковского как лей-тмотивное слово, которое, повторяясь в разных контекстах и обозначая разные явления, становится полисемантичным, метафоризирует-ся. Основанием для метафоризации служит субъективность авторского сознания. В диссертации подчеркнуто, что метафоричность является для Жуковского не только качеством слога, но и принципом поэтического мышления вообще, т. к. только метафора позволяет ему выразить невыразимое. Идеальность содержания поэзии Жуковского принципиально безобразна, на него можно лишь косвенно указать посредством аналогии, косвенного сравнения, метафоры. Работа метафорического механизма реализуется на словесном, образном, тематическом и композиционном уровнях, причем этот семантический прием оказывается изоморфным для всех уровней, являясь центральной семантической трансформацией, порождающей и организующий текст. Центральным поэтическим образом всего послания является образ души поэта, все другие образы оборачиваются его метафорическими обозначениями. Автор диссертации обращает внимание на то, что традиционная классицистическая аллегория, попадая в систему метафорических символов, изменяет свое качество. Метафорический символ у Жуковского может терять свои образные свойства, превращаясь в знак (например, знаменитое «там»). С другой стороны, он может порождать целое самостоятельное произведение. Символ «там» как обозначение неземного, волшебного края счастья и мечты, которого нет, разворачивается и конкретизируется в стихотворениях «Желание» (1811), «Мина» (1817), «Там небеса и воды и
ясны» (1816) и др. Такая «неплоность» плана выражения невозможна ни у Батюшкова, ни у Пушкина. В системе поэзии Жуковского существует определенный круг тем и поэтических идей, которые в каждом конкретном образном воплощении реализуются не полностью. Семантическая избыточность приводит к символизации смысла, механизм которой может быть понят как метафорический. Автор показывает, что подобная семантическая трансформация лежит в основе очень многих текстов поэта. У Жуковского мир действительности и мир воображения конкретизировались в противопоставление «здесь» — «там», «земное» — «небесное», что разделило его художественный мир на две гетерогенные сущности, а поэт предстал в виде медиума, которому только в редкие моменты приоткрывается завеса, отделяющая мир земной от мира пебесного. Поэтому он и окружающую его действительность может увидеть иначе, чем обычные люди,— в свете бессмертия горнего и тленности дольнего. Попытка изобразить абсолютное привела Жуковского к созданию особого рода символики, покоящейся на метафорическом принципе, характеризующем его романтическую эстетику и поэтику.
В главе пятой — «Поэтика противоречия в басенном творчестве И. А. Крылова» диссертант останавливается на оценках Пушкиным творчества баснописца. К жанру басни Крылов впервые обращается в 1806 году, попадая в карамзинский круг писателей. Выбор басни как основного литературного жанра примечателен тем, что это один из древнейших и традиционных жанров. Крылов не только сочиняет собственные басенные сюжеты, но обращается к басням, восходящим к классической античности. Эта ситуация дает возможность описать некоторые принципы поэтики крыловской басни, выявляемые на фоне традиции. В качестве примера можно остановиться на басне «Ворона и лисица» (1808), где басенный рассказ вовсе не оказывается аллегорической иллюстрацией басенной морали, а сама басенная мораль утверждает невозможность басней исправлять нравы. Отношение басенной морали и басенного рассказа строятся на противоречии, характер же персонажей не управляется прагматикой морали, а являет собой самостоятельный художественный сюжет, который выстраивается как сумма диаметрально противоположных характеристик персонажей, возникших в исторических интерпретациях эзоповского сюжета. Аналогичный процесс легко демонстрируется на материале басни «Стрекоза и Муравей» (1808).
Традиционный жанровый смысл басни Крыловым разрушается. Более того, сама невозможность сатирой исправлять нравы становится темой басни «Зеркало и обезьяна» (1816). Басня утверждает, что сатирой невозможно исправить нравы, что басня не может действенно бороться с пороком. Тогда каков смысл басни как жанра? Смысл
басни Крылова не иллюстрирует традиционную басенную мораль, а указует на содержание, лежащее за пределами басенной (и, скажем более широко, литературной) традиции. Иными словами, можно сказать, что басня Крылова подчеркивает границу между литературной традицией и реальной практикой жизни. Именно такое идейное содержание обнаруживается в басне «Кот и повар» (1813). Нравоучительное слово оказалось бездейственным перед фактом реальности. Или иначе — реальная жизнь больше, чем всякое слово о ней. В такой постановке вопроса можно увидеть источник басенного реализма Крылова.
Крылов не иллюстрирует заданную мораль, а пытается опереться на практическую житейскую мудрость, носителем которой у него, естественно, становится крестьянин. В традиционной классицистической басне мир героев обычно четко делится на положительных и отрицательных. Басня исключает возможность демонстрации относительности моральных истин. В системе художественной философии Крылова появляется басня, вся соль которой в утверждении относительности любого морального правила. Одно и тоже действие в зависимости от точки зрения будет менять свой смысл на прямо противоположный («Волк и пастухи» (1816)). Поэтому мудрость кры-ловской басни располагается между двумя диаметрально противоположными утверждениями, каждое из которых в пределе оказывается ложным. Наиболее выразительный пример — басня «Водолазы» (1814). Басенный ответ лежит между «да» и «нет». Он не отрицает пользу наук, но, одновременно, предостерегает и от вреда. Речь в данном случае идет о мере, о золотой середине. Способность Крылова одновременно учитывать точки зрения различных персонажей приводит к тому, что его герои видят и понимают мир, опираясь на свой жизненный опыт. Так, в басне «Откупщик и сапожник» (1811) слово автора, описывающего жизнь откупщика, располагается, если воспользоваться термином М. М. Бахтина, в «зоне» сапожника: жизнь откупщика — это воплощенное блаженство, и, живописуя ее, Крылов как бы сливается с теми бедняками, которых издали пленяет жизнь владельца. В свою очередь, жизнь сапожника рассказана с точки зрения откупщика. Слово рассказчика располагается то в зоне одного, то в зоне другого персонажа, точки зрения которых конфликтны и противоположны, что не мешает автору «слить» их в едином повествовании. Традиционный жанровый смысл басни Крыловым разрушается. Басенный рассказ становится независимым от басенной морали; басенные персонажи превращаются в самостоятельные художественные образы. Басня Крылова становится полноценным художественным миром. Поэтика противоречия явилась одной из основ нового типа художественной условности, которую мы осознаем как
реалистическую. Мудрость же басни заложена в том, что Крылов обнаруживает противоречия между абстрактной мыслью, сухой теорией и конкретным жизненным опытом. Именно практический здравый смысл оказывается критерием искомой истины. В этом обстоятельстве можно усмотреть иную меру художественности, которая оказалась близка к эстетике реализма. А в этом случае опыт Крылова явился крайне важным для Пушкина.
Вторая часть — «Поэтика противоречия в творчестве A.C. Пушкина» состоит из трех глав, которые обнимают весь творческий путь Пушкина.
В главе первой второй части — «Поэтика противоречия в творчестве Пушкина (1813—1830)» диссертант показывает, что исторически поэтика и эстетика противоречия приобрела к началу XIX века относительно определенный и осознаваемый характер.
Среди источников, которые могли бы способствовать формированию особого качества мышления Пушкина, следует остановиться на особенностях личности поэта.
Среди множества пушкинских характеристик выделяются те, где ярче всего проявилась антиномичность пушкинской натуры. Напомню самую короткую характеристику противоречивой натуры.Пушкина, которую дал его ближайший друг — А. А. Дельвиг: «Великий Пушкин, маленькое дитя!» Диссертант приводит перечень образов и масок, которые применял к себе Пушкин. Артистизм пушкинской натуры оказался естественной основой протеизма его творчества.
Многогранность и противоречивость пушкинской личности вступала в противоречие с тем его поэтическим образом, который создается им в творчестве. Впервые это обстоятельство подчеркнул Н. В. Гоголь, лично знавший Пушкина, Вл. Соловьев же наиболее определенно артикулировал это противоречие. Все это дает основание определить концепцию личности и творческого облика поэта как катастрофическую, строящуюся на принципе открытого противоречия, которое может иметь различные формы разрешения. В этом смысле обращают на себя внимание первые литературные опыты Пушкина. Любопытно, что Пушкина привлекает традиция ирои-комической поэмы, жанра, осложненного пародийной основой. Нам важно отметить, что Пушкин выбирает для творчества такой тип текста, который носит двупланный характер. На этом фоне совсем не случайностью кажется тот факт, что первое дошедшее до нас пушкинское стихотворение «К Наталье» (1813) питается пародийной энергией ирои-комической традиции. В ранней лицейской лирике обнаруживается и другой способ создания смысловой объемности текста — диалогическая подача образа одного и того же предмета. Ярким примером подобного можно считать стихотворение «Роза» (1814—1816). Слож-
ностью и противоречивостью отмечен и внутренний мир лирического героя Пушкина. Выразительным примером этого свойства является элегия «Желание» (1816). Это стихотворение важно не только своими антитетическими формулами, но и тем обстоятельством, что они оказываются знаками становящегося и изменяющегося сознания героя, в результате чего автор предстает в конце стихотворения существенно иным, чем был в его начале. В лицейском творчестве Пушкина, если рассматривать его как целостное явление, многие устойчивые поэтические темы получили прямопротивоположные решения. В работе исследуется мотив «мечты» в контексте литературной традиции. Диссертант приходит к выводу о том, поэтическая интерпретация Пушкиным темы «мечты» в лицейском творчестве может быть рассмотрена и как разнокачественная, противоречивая, опирающаяся на разные поэтические традиции, а может быть осмыслена и как этапы эволюции поэта — от младенческой убежденности в действительной силе воображения, через осознание иллюзорности мечты, к отказу от мечтательной жизни и поэтической деятельности вообще. Многие противоречащие друг другу пушкинские художественные решения могут найти свое объяснение, если лицейскую лирику рассмотреть в свете пережитого юным Пушкиным первого духовного кризиса. Кризисные явления оказываются связаны не столько с внешними обстоятельствами, сколько с таинственным ритмом душевной жизни. «Возрождение» в большей мере связано со способностью увидеть предшествующую драматическую ситуацию новым взглядом, один и тот же предмет увидеть по-разному. Что бы яснее представить себе последствия этого первого опыта выхода из кризиса, напомню, что потом он отзовется и в стихотворении «К***» (1825) («Я помню чудное мгновенье»), в сюжете духовного обновления Онегина. С большой долей вероятности он отразится и в пушкинской концепции поэта как кризисной личности (ср. «Пророк» (1826), «Поэт» (1827) («Пока не требует поэта...»), образ Чарского в «Египетских ночах»). Формирование концепции поэта как кризисной личности можно усмотреть еще в лицейском послании «К Каверину» (1817), где возникает образ автора как личности, состоящей из прямо противоположных черт, многогранность и объем которых осознается как совмещение, нейтрализация полярных характерологических антитез. Принцип противоречия используется Пушкиным не только при создании текста, но и на межтекстовом уровне. Примером подобной организации может служить стихотворение «Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность» (1818). Более подробно диссертант останавливается на послании «Жуковскому» (1818), так как его анализ дает возможность не только прояснить природу парадоксального стиля мышления Пушкина, но и понять, как осознается Пушкиным его
место в современном литературном процессе. Пушкинский текст созидается как парадоксальное соединение антиномичных образов, на фоне которого позиции как предшественников (Ломоносов и Сумароков), так и современников (Жуковский и Батюшков) сразу выглядят как односторонние и однозначные. Пушкинский текст обретает новую меру глубины, что сразу ставит творческую позицию автора на иной идейно-художественный уровень, чем в существующей традиции.
Логика противоречия неизбежно приводила Пушкина к созданию такого типа текста, семантика которого оказывается динамичной. Главная особенность такого текста заключается в том, что смысл основных образных мотивов изменяется от начала текста к концу. К такого рода стихотворениям можно отнести послание «К Чаадаеву» (1818). Для нашего исследования интерес представляет и стихотворение Деревня» (1819). Пушкиным «противуречие» осознается как онтологическая категория. Эмпирический опыт дает картину мира, построенную на принципе противоречия, и этот же принцип оказывается единственным способом создания более или менее адекватного образа неуловимой действительности. При этом важно, что характер и специфика пушкинского «противуречия» связаны не столько с диалектикой, сколько с антиномией. Именно поэтому автор диссертации находит философский источник пушкинских размышлений в кантовской традиции. Речь идет о знаменитых кантовских антиномиях, которые являются взаимопротиворечащими суждениями, каждое из которых может быть доказано очевидным образом.
С Кантом Пушкин связывает концепцию художественного творчества и поэтического гения, гения-парадоксалиста. Мера осознания антиномии как художественного принципа продемонстрирована отрывками из романа в стихах «Евгений Онегин», где принцип противоречия определен как необходимый элемент художественной формы.
В 1827 году Пушкин написал философский отрывок «О сколько нам открытий чудных...», где принцип антиномичности положен в основу содержания текста, сама структура которого реализует принцип противоречия. Картина мира и способ ее изображения осмысляются Пушкиным как живое открытое противоречие. Именно поэтому поэтика противоречия проникает во все сферы формосодержания, что требует целостного анализа произведения. Более того, меняется пушкинская стратегия текста — он созидается таким образом, что провоцирует двойственное читательское восприятие.
Далее автор работы обращается к элегии «К морю» (1824). Диссертант останавливается на теме свободы. Метафорические обозначения свободы (море, Наполеон, Байрон) семантически двойственны,
контрастно противоречивы изнутри. Образы Наполеона и Байрона связываются у Пушкина с представлением о современном европейском типе человека, чьим непременным атрибутом становится эгоистическое своеволие, не лишенное при этом блеска трагического величия. Лирический же герой — покорен судьбе, но сохраняет идеал свободы как духовно-нравственную категорию. Итоговое понимание свободах в контексте стихотворения противопоставляется Пушкиным европейскому пониманию этой категории.
Дальнейший интерес Пушкина оказался связан с осознанием национального своеобразия русской души, своеобразия, сформированного русской историей, что привело к созданию исторической драмы «Борис Годунов», в которой воплощена не эмпирика истории, а философия истории. В трагедии особое место занимает тема детей. Основной мотив, связывающий все образы детей, это их страдание, их жертвенное положение, что всякий раз напоминает о первой жертве — невинно убиенном Димитрии. Однако в одной из важнейших сцен («Площадь перед собором в Москве» (№17)) дети изображены иначе. Они смеются и издеваются над Николкой, крадут у него копеечку. Обращает на себя внимание странно-парадоксальная речь юродивого. С одной стороны, он требует зарезать детей, а с другой — отказывает в молитве царю именно по этому поводу. Помимо очевидного смысла — сопоставления Бориса с Иродом, приказавшим умертвить всех первенцев в момент рождения Христа, и отказа Борису в молитвенной поддержке (именно в этой сцене осуществляется Божий суд) символичной оказывается не только речь юродивого, но и его поведение, вовлекающее в игру детей. Жестокие дети, глумящиеся над Юродивым — парадоксальная форма его молитвы о них, равно как и просьба «зарезать» оборачивается их защитой. Сама же ситуация отнятых денег исполнена пророческого смысла: дети отнимают у Николки копеечку, а невинно загубленный Димитрий «отберет» у Годунова похищенное царство.
Отметим, что у Карамзина подобный эпизод отсутствует. Он сочинен Пушкиным, но с глубоким знанием житийной традиции, что позволяло ему сделать эту сцену символически-пророческой для всей драмы — грех с неизбежностью повлечет за собой возмездие. Изложенные выше соображения позволяют иначе интерпретировать и саму пушкинскую драму, обнаружив в ней следование глубинным национальным традициям. Художественное исследование Пушкиным национального своеобразия русской ментальности неизбежно должно было внести коррективы в развитие пушкинской темы «поэта и поэзии» . Образ Поэта сакрализуется, но теперь не с опорой на античную традицию, а на библейско-христианскую. Именно это и произошло в «Пророке». Вернемся к источникам пушкинского стихотворения.
Книга пророка Исайи, псалмы Давида, Евангелие составляют библейский контекст стихотворения. Но он проясняет не все.
Композиционно пушкинское стихотворение выстраивается по схеме: духовная жажда — смерть — чудо воскрешения — обретение, которое целиком повторяет основные мотивы любого ритуального посвящения, но отсутствует в Ветхом Завете. В пушкинском «Пророке» осуществляется синтез традиций двух священных книг — Библии и Корана.
Обратим внимание на то, как развертывается в стихотворении тема огня. Она начинается образом шестикрылого серафима. Серафим (Seraph) по-древнееврейски — жгущий. Его основная функция — выжигание грехов. Это — очищающий огонь: «...слово Seraphim,— пишет А. Покровский,— встречается единственный раз в Библии (только в книге пророка Исайи — А. И.) ...Серафим — носитель божественного огня любви, попаляющего всякую нечистоту и очищающую людей...».
Опаленный огнем серафима, с пылающим углем в груди, пророк, после чуда воскрешения, призван Богом «глаголом жечь сердца людей», т. е. осуществлять то же очищение, которое было совершено серафимом над ним. А это значит — заставить людей по-другому слышать, видеть, жить... Наш анализ показал, что пушкинский «Пророк» созидается как образами Библии, так и Корана. И тот, и другой источники подвергались значительной переделке, но придали тексту ореол сверхобычной эмоциональности. Пушкину удалось создать оригинальную, замкнутую внутри себя художественную структуру такой степени поэтико-символической насыщенности, которая оказалась способной подвергать себя какой угодно конкретизации, при этом оставаясь неисчерпаемой изнутри.
В «Пророке» исчезли конкретно-исторические детали — местом действия оказалась вся Вселенная. И образ поэзии, и образ поэта впервые в творчестве Пушкина уравнялся с высшей духовно-нравственной ценностью, нашедшей свое наиболее полное смысловое воплощение в символах, созданных религиозными традициями и приведенными Пушкиным к новому органическому синтезу. Национальная русская культура была представлена не только христианской традицией, но и фольклором, который, в свою очередь, осознается Пушкиным как выражение национальной характерности. В результате возникают произведения, чьей жанровой особенностью оказывается парадоксальное сочетание самых изысканных литературных жанров эпохи (в данном случае — элегия), и фольклорных (в данном случае — ямщицкая песня). Материалом для анализа выбрано стихотворение «Зимняя дорога» (1826). Чисто внешне все стихотворение отличает образная простота, отсутствие ярко выраженной условности. Со-
здается впечатление непосредственности каждого образа, каждого слова, что придает особый лиризм всему произведению. Однако поэтичность стихотворения строится как раз не на непосредственности, а на сложном синтезе различных традиций, приведенных Пушкиным к новому единству. В контексте этих традиций и созидается новый смысл всего пушкинского текста.
Поэтический смысл образа в произведении, возникшем на основе такового жанрового синтеза, строится на совмещении сразу нескольких экспрессивно-содержательных значений, извлеченных писателем из разных жанров, в которых они их приобрели. К фольклорно-пе-сенным элементам в первую очередь следует отнести композицию стихотворения, построенную по принципу: повествовательно-описательная композиция плюс монолог, которая представляет собой основную композиционную форму традиционной лирической песни, являющуюся типичным, классическим образцом ее композиции. Безусловно, что такой композиционный принцип оказывается очень емким, охватывающим многие лирические тексты, но, соотносясь с образами «дороги», «ямщика», «тройки», ассоциативно связываются с композицией фольклорной ямщицкой песни.
Аналогичные рассуждения можно привести относительно финала, песенное начало которого подчеркнуто повтором. Зачем понадобилось Пушкину сочетание фольклорного и романтического жанров?
В изображении человеческих чувств романтическая любовная элегия добилась большой психологической тонкости, индивидуализации переживания, но лишена была конкретности, национальной характерности. В свою очередь, фольклорная лирика слишком обобщенно изображала чувства, зато несла в себе яркие признаки национальной принадлежности и изобразительной конкретности. Пушкин, сохраняя наиболее важные для него жанровые признаки, синтезируют их в новом качестве, сочетая психологическую достоверность и индивидуальность переживания, придавая им национальную окрашенность, вещную конкретность, не теряя при этом универсальности обобщения. Жанровая экспрессия окрашивает в двойственные тона и образную систему стихотворения; значение образов «колеблется» в пределах фольклорной конкретности и романтической универсальности. Образно-поэтическая система стихотворения формируются благодаря использованию семантической энергии различных жанровых образований, приведенных Пушкиным к новому синтезу; расширению смыслового объема способствуют контекстные взаимосвязи стихотворения с поэтической практикой современников, использование стилистически окрашенных средств, изменение жанровой структуры, особенности композиции. Все это понадобилось Пушкину для худо-
жественного сопряжения личного и национального, индивидуального и типичного, особенного и общего, конкретного и универсального.
Тема грусти, одиночества, возникшая в «Зимней дороге», в лирике Пушкина конца 20-х годов резко укрупняется, захватывая в свою орбиту философскую проблематику смысла человеческого бытия вообще. В поисках вариантов ответов на волнующую его проблематику, Пушкин обращается к библейской, христианской традиции. Мы позволим себе остановиться только на маленьком, но показательном фрагменте, связанном с изменением рецепции книги Екклесиаста в творчестве Пушкина конца 10-х и конца 20-х годов. Этот экскурс будет необходим для описания «екклисиастического» подтекста в элегии «Брожу ли я вдоль улиц шумных».
В раннем творчестве Пушкин использовал книгу Екклесиаста для развертывания гедонистической, эпикурейской темы, в конце 1810-х — начале 1820-х годов его интересы оказались связаны с другой проблемой — посмертным существованием души.
Центральная мысль и книги Екклесиаста и пушкинского стихотворения — бренность человеческой жизни, контрастно подчеркиваемая образом вечно существующего мира. Образ автора в книге Екклесиаста сложен. С одной стороны,— это носитель бытовой морально-нравственной традиции. А с другой стороны,— это мыслитель, пытающийся доискаться до смысла жизни, даже в том случае, когда это невозможно. Это, однако, не мешает автору даже в обыденных вещах усмотреть дар Божий, примиряющий человека с непостижимым для него замыслом Божьим о мире. В пушкинском стихотворении эти две тендепции сливаются. Лирический герой — екклесиа-стический мудрец, для которого важнр не просто жить, но осознавать и осмысливать свое существование. Автор книги Екклесиаста и лирический герой стихотворения пытаются обрести по возможности гармоническую позицию в земном мире, исключающую (в данном случае) идею загробного существования.
Обнаруженный «екклесиастический» подтекст в стихотворении позволяет по-новому осмыслить взаимодействие других текстовых источников, на переосмыслении которых строится пушкинский текст. Наименее исследованной, как это ни странно, оказалась русская литературная традиция. Б. М. Эйхенбаум обратил внимание на близость пушкинских станцов и послания В. А. Жуковского «К Филалету» (1809). Послание «К Филалету» переосмысливает основные мотивы другого произведения — «историко-политического размышления в двух письмах» (Ю. М. Лотман) Н. М. Карамзина «Мелодор к Филалету» и «Филалет к Мелодору». У Карамзина оба героя стоят на двух диаметрально противоположных позициях: Филалет — оптимист, Мелодор — пессимист. Диалог разворачивается между поэти-
ческой и философской сторонами личности. У Пушкина в тексте присутствует только один субъект речи, но он пытается «снять» жесткость позиций героев Карамзина. Смерть — это не только конец жизни. Она сама — неотъемлемая часть жизни. Такое осмысление темы смерти делает ее звучание амбивалентным — и пессимистическим, когда речь идет об отдельной личности, и оптимистическим — когда речь идет о роде человеческом. Более того, смерть есть основа трагедии жизни, но в смерти нет жизни и нет трагедии.
Чисто пушкинской в «Брожу ли я...» оказалась идея «милого предела» , важная и значимая для героя даже после смерти. Таким образом, пушкинское стихотворение объединяет в себе разные темы книги Екклесиаста, их литературные обработки как европейской, так и русской культурой (особо отметим диалогический контекст «Переписки...» Н. М. Карамзина), корректируя их контекстом собственного творчества.
Анализ творчества Пушкина привел нас к тому, что противоречие начинает осознаваться Пушкиным как универсальная категория. В этом случае удобно перейти к идейно-тематическому анализу, пытаясь осмыслить некоторые центральные темы и проблемы творческого и духовного развития Пушкина. Это будут экзистенциальные проблемы бытия, проблемы эстетики и поэтики новой «поэзии действительности» .
Вторая глава второй части — «Поэтика противоречия в творчестве Пушкина (1830 — 1836)» обращается к анализу уникального по интенсивности творческого взлета Болдинской осени. Пушкинская картина мира усложняется, приобретая драматические и даже трагические черты. Именно поэтому актуальной становится тема «счастья», которая осознается как уникальное совпадение между внутренними устремлениями личности и возможностью реализовать их в окружающем мире. Такие случаи бывают (Ср.: сюжет «Метели», «Барышни-крестьянки»), но они — редкость. Гораздо чаще между личностью и миром устанавливаются противоречивые отношения. Именно они привлекают пристальное внимание Пушкина.
Особое место в системе этих размышлений отведено теме внутреннего мира личности — её способности духовным усилием преобразить трагичность существования во внутреннюю гармонию. Высшее свое проявление эта способность находит у поэта, художника, взгляду которого становится доступна неочевидная для обычного восприятия высшая гармония мира, которая позволяет ему обрести особую, парадоксальную форму гармонических отношений с действительностью, природа которых все же носит напряженно — катастрофический характер. В этом процессе Пушкин опирается на христианскую традицию. Христианско-библейский контекст приобретает специфи-
ческий характер: христианско-библейская традиция давала возможность изобразить идеальную норму человека и человеческих отношений. Но как соединить, с одной стороны, высокость Божественной истины, а, с другой стороны,— анализ реальных человеческих взаимоотношений? Попыткой ответить на этот вопрос стал один из первых прозаических опытов Пушкина — одна из «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» — «Станционный смотритель». В пушкинской повести каждый персонаж, стремясь к своему счастью, строит его на несчастии другого. Всем героям повести недостает человечности и высшей меры любви. Но это не значит, что они плохи, они просто обыкновенны. И это не говорит о том, что они не интересны. Эта мысль не находит прямого выражения, а возникает «от противного», являя собой своеобразный нормативный идеал. Сопоставления возникают не прямо: между притчей о блудном сыне и историей Дуни такая же разница, как между библейским Самсоном и Вы-риным. Однако сравнение состоялось, что расставило свои акценты, проясняя смысловые оттенки повести. Идеал возникает не как прямое изображение, а только как известное приближение к нему, окрашенное то в сказочные, то в иронические тона.
Библейский идеал всепрощающей любви остается идеалом, в свете которого осознаются поступки персонажей. Дистанция между высокостью библейской притчи и прозаичностью конкретной жизни не чувствуется оттого, что притча вводится через лубочные картинки, т.е. косвенно. Идеальная версия сюжета, предложенная притчей, не подавляет своей авторитетностью логику поступков героев повести. Ироничность повествовательной манеры еще более скрадывает эту дистанцию, лишая авторскую позицию прямого ригоризма и дидактизма. Пушкин не делит персонажей на отрицательных и положительных, выходя за пределы подобной логики. Взамен жестких оценок героев — понимание, однако, не снимающее вины. К мысли об эгоистическом счастье добавляется мысль о мире действительном, «не приспособленном» для полной реализации гармонических отношений. На этом уровне прочтения вопрос вины конкретных персонажей отходит На второй план, а на первый выступает проблема трагизма человеческого бытия. Особенно остро она подчеркнута финалом, который, с одной стороны, подтверждает сюжет притчи (дочь вернулась), а с другой — отступает от него, так как возвращаться уже не к кому. Трагически-недоуменная ситуация лишь подчеркивается переплетением образов смерти (могила, кладбище) и образов цветения жизни (дети, благополучная судьба Дуни), что вновь выводит повествование к идее извечной конфликтности бытия человека в мире.
Трагедийное мироощущение Пушкина по особенному остро реагировало на возможность творческого отношения человека к «веч-
ным противуречиям действительности». Искусство, творчество способно своим усилием претворять несовершенство жизни в гармонию красоты. Болдинской осенью Пушкин создает стихотворение «Царскосельская статуя», в котором поэтически осмысляет эту тему. Первая проблема, которая возникает перед исследователем — осознание жанровой принадлежности текста. Крайние позиции тут были обозначены Т. Г. Мальчуковой, которая осознает стихотворение как образец подражания классической греческой эпиграмме — надписи на статью, ограничивая иные возможности интерпретации. С другой стороны, это В. А. Грехнев, видящий в стихотворении самостоятельно созданный Пушкиным миф, который дает основание для развертывания очень широкого смыслового потенциала, заложенного в тексте. На первый взгляд, пред нами классическая эпиграмма, т. е. надпись (именно так переводится с греческого языка это слово). Описание памятников искусства оформилось в специальную разновидность эпиграммы — экфразис, самым древним примером которого является описание щита Ахилла у Гомера (Илиада, песнь 18, стихи 478— 607). Двойственная информативная природа жанра находила художественное разрешение, в частности, в оппозиции «мертвое—живое». Произведение искусства в мертвой статике запечатляло динамику жизни, которая придавала впечатление живой жизни мертвой материи.
Пушкинская эпиграмма воспринимается не только как описание царскосельской статуи, но как миф о превращении девушки в застывший камень и о возникновении вечного источника. Эпиграмма обнаруживает не только описательный характер, но и повествовательный. Пушкинский текст композиционно делится на две части. Первое двустишие создает отчетливый повествовательный микросюжет, разворачивающийся во времени от прошлого к настоящему (уронив, разбила; сидит, держа). Эта первая часть может осмысляться не как описание статуи, а всего лишь как предыстория ее чудесного возникновения. Второй же дистих лишен повествовательной динамики и являет собою чистое описание (правда, и в нем подчеркнуто динамическое начало — «не сякнет вода, изливаясь из урны»). Как отмечает Р. О. Якобсон, «неподвижность статуи воспринимается как неподвижность девы, противоположение знака и предмета исчезает, неподвижность налагается на реальное время и осознается как вечность». Пушкин идет нетрадиционным для классического экфрази-са путем. По обычной жанровой схеме произведение искусства описывалось в терминах живой жизни: так уравновешивались искусство и жизнь. У Пушкина возникает обратная ситуация — сама жизнь описывается в терминах искусства. Жизнь, ставшая искусством, осмыслена как чудо. Образ навечно застывшей девы был бы неесте-
ственным, если бы не искусство. Пушкинский текст созидается через переосмысление античной эпиграмматической традиции и стремится стать изоморфным скульптурному тексту.
Семантическая двупланность такого типа эпиграммы — экфрази-са в истории жанра была использована и иначе. В эпоху развития ал л егорико-символического стиля (барокко, классицизм) образ предмета и его аллегорический смысл разъединяются. Создаются композиции, в основании которых лежит сравнение, уподобление, т. е. перевод аллегорического смысла из изобразительной плоскости в плоскость вербального выражения.
Классическая античная традиция связана с темой искусства, которое оживляет мертвое, превращает смертное в бессмертное. Рационалистические стили барокко и классицизма склонны превращать надпись в расшифровку аллегорического смысла иконического изображения. О наличии этого дополнительного смысла говорит то обстоятельство, что скульптура П. Соколова «Молочница» была создана по мотивам басни Лафонтена «Молочница и кувшин с молоком». Понятно, что басня — аллегорический жанр, где басенный рассказ приобретает дополнительный смысл в басенной морали. У Лафонтена басенная мораль басни связывалась с пустыми и бесплодными мечтами.
Скульптура П. Соколова никак не могла передать смысл басни, обозначив только самую общую идею — грусть и печаль Пьеретты. Но скульптор сделал нечто иное. Фигура девушки решена художником в сугубо обобщенных классических формах. Классические очертания скульптуры П. Соколова явились основанием для обращения Пушкина к классическому греческому эпиграмматическому жанру, но смысл создаваемого им текста далеко вышел за пределы басни Лафонтена, но отчасти был навеян классическими формами скульптурной работы П. Соколова. Античный колорит пушкинского стихотворения имеет свою семантику. Представление об античности как царстве красоты укрепилась в европейском искусствознании со времен Винкельмана. Особое значение в воплощении идеала греческой красоты имела именно скульптура как гармоничное сочетание эстетических и этических качеств, уравновешивающих в идеале калоко-гатийности внешнее и внутреннее, тело и дух. Представляется, что именно через этот образ античной скульптуры и была увидена Пушкиным статуя Соколова. Красота, осмысленная как мудрость,— вот что оказалось наиболее значительным в этом контексте. Но и этим не исчерпывается многосмысленность четырех пушкинских строк. Обращает на себя внимание тот факт, что кувшин, фигурирующий как в басне Лафонтена, так и в скульптуре П. Соколова у Пушкина превращен в урну. «Урна с водой» — это поэтический нонсенс, некий
образный парадокс, который находит свое объяснение в том, что обнаруживает в пушкинской эпиграмме философскую тему — тему жизни («вода») и смерти («урна»). Гармоничность и изящество пушкинского художественного решения станет яснее, если напомнить о том, что эпитафия, естественно связанная с темой жизни и смерти, была одной из жанровых разновидностей греческой эпиграммы. Смысловое поле стихотворения расширяется. Это уже не просто описание царскосельской статуи, это не просто воплощение мира красоты. Пушкинская эпиграмма включает в себя мысль о вечном движении жизни, о хрупкости и бренности существования конкретного человека как о бесконечном трагедийном конфликте бытия, о человеческой мудрости, способной сквозь эту конфликтность ощущать всеобщую гармонию мира, и, наконец, об искусстве, способном эту трагедию претворить в вечно прекрасные формы. Этот обобщающий смысл возникает исключительно в поэтическом тексте Пушкина. И это то место, где поэтическое слово очевидно побеждает язык скульптуры. Если пушкинская эпиграмма включает в себя тему искусства, то в ней с неизбежностью неявно, имплицитно возникает тема поэтического искусства, поэтического слова, способного быть не только языком, изоморфным языку скульптуры, но создавать такие смыслы, которые лишь потенциально обозначены в скульптуре. «Вечным» чудом в эпиграмме оказывается не только дева, ставшая бронзовой скульптурой, но и само поэтическое слово. В этом случае в семантической перспективе стихотворения обнаруживается смысл, близкий гораци-анской оде «К Мельпомене» о слове, которое крепче меди и долговечнее пирамид.
Тему трагичности человеческого бытия на ее высшем пределе Пушкин поднимает в «Пире во время чумы», и, одновременно, мучительно пытается найти моральные опоры, на которые может опереться человек в абсолютно безвыходной для себя ситуации. Для анализа этой ситуации рассматривается «Пир во время чумы» на фоне пушкинской лирики конца 1820-х — начала 1830-х годов. Обращает на себя внимание мотив умершей матери и жены Вальсингама в интерпретации Священника, который чаще всего толкуется как объективированное изображение католического священника с его христианским миропониманием, почти не соотносимым с пушкинским.
В связи с этим обратим внимание на то, что в конце двадцатых — начале тридцатых годов в лирике Пушкина возникает неожиданный мотив потустороннего мира, который изображен не как проблемный (ср. раннее стихотворение «Надеждой сладостной младенчески дыша» (1823)), а как реальный. Это и «Эпитафия младенцу» (1828), и черновое продолжение стихотворения «Воспоминание» (1828), и цикл стихотворений, объединенных образом «умершей возлюбленной» («Про-
щание» (1830), «3аклинание»(1830), «Для берегов отчизны дальной...» (1830). С иными коннотациями он обнаруживается в стихотворении «Перед гробницею святой» (1831) и в знаменитом незавершенном философском отрывке 1830-го года: «Два чувства дивно близки нам». По существу, Пушкин обращается к излюбленной теме В. А. Жуковского, но обрабатывает ее иначе.
Однако идейный центр гимна Вальсингама видится в строчках, где наслаждение парадоксальным образом сближается с гибелью (как смерть с бессмертием).
Это парадоксальное сопряжение мотивов проходит через все маленькие трагедии. Совмещение мотивов (гибель/счастье) связаны с персонажами, которые в образной системе всех маленьких трагедий несут гибель и смерть, пусть и мотивированные любовью (Дон Гуан), или желанием восстановить попранную справедливость (Барон, Сальери). Все это в контексте цикла бросает свой отблеск и на позицию Вальсингама, обнаруживая в ней известную неполноту, грозящую гибелью. В проекции на пушкинское «Воспоминание» очевидной становится тема пробуждающейся совести, связанной с тем, что жизнь человеческая осмысляется не с позиции гордого индивидуализма, а с позиции коллективного существования, в котором жизнь человека приобретает духовно-нравственное содержание только в связи с тем, что осмысляется в контексте жизней других людей, живых и умерших. Именно это становление морального сознания и составляет стержень «Пира...», что проясняется, в частности, контекстом лирики Пушкина.
Все это позволяет осознать и идейное своеобразие всего цикла. Дело не в чуме, а в том, что все люди смертны. Но именно тут и возникает философская проблема смысла человеческой жизни, проявляющегося на фоне смерти. Совершенно очевидно, что это — квинтэссенция проблематики всех; «Маленьких трагедий». С содержательной точки зрения темы, которые волнуют Пушкина, сосредоточены вокруг проблемы поиска смысла человеческого бытия. Именно эта проблема может быть осмыслена при обращении к роману в стихах «Евгений Онегинин».
Одна из сложных проблем понимания романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина — обнаружение единой проблемы, вокруг которой можно сосредоточить множество остальных.
Среди огромного числа тем пушкинского романа отчетливо выделяется тема счастья, которая сопрягается с темой судьбы. Все главные герои осмысляются автором с точки зрения поиска ими счастья.
Каждый из второстепенных, фоновых героев находит свое счастье, у каждого из них счастье концентрируется в привычке, в традиционном образе жизни. Обретение счастья в привычке возможно только
для обычных, посредственных людей. На этом фоне следует анализировать судьбы Онегина, Ленского и Татьяны. В основе их эволюции лежит противопоставление природного и искусственного, естественного и социального. Автор подчеркивает отличие второстепенных персонажей от центральных, для которых обретение счастья в указанном смысле становится невозможным, прежде всего потому, что они никак не вписываются в традиционные модели поведения. Это выражается в том, что Евгений, Татьяна, Ленский охарактеризованы в романе как «странные» люди. Скромная на первый взгляд тема счастья в этом месте начинает приобретать вполне определенный философский характер: «странные» герои должны гармонизировать свои отношения с миром. Тема счастья оборачивается совершенно иной, гораздо более существенной проблемой: поиском смысла жизни. Равно как и нереализованный «роман» Татьяны и Онегина превращается в процесс познания одним человеком другого. Онегин первой главы рисуется как стареющий юноша, а Онегин восьмой главы — в возрасте позднем — «как дитя влюблен». Этим несовпадением судьбы героя с ритмами жизни мотивируется как «странность» персонажа, так и невозможность достижения им счастья, невозможность восстановить гармонические отношения с миром. Иначе изображена судьба Ленского. Контраст Онегина и Ленского возникает, в частности, потому, что Онегин изображен автором как скептик, потерявший веру, «чье сердце опыт остудил», а Ленский, напротив, мечтатель-энтузиаст.
Самая сложная ситуация связана с образом Татьяны. Это понятно, так как тема счастья и судьбы именно в этом персонаже находит свое наиболее яркое воплощение. Пушкин изображает героиню, которой таинственным образом приоткрылась завеса судьбы. Еще до второй встречи с Онегиным, у Татьяны сформировалось представление о том, как можно и должно относиться к счастью. Представление о счастье (счастье в любви) у Татьяны не изменилось: просто любовь к Онегину сделалась частью ее внутреннего мира. Мир ее любви к Евгению — идеальный мир, недоступный для окружающих. В восьмой главе ценою страшных потерь Онегин приблизился к тому пониманию жизни, которое было дано Татьяне с самого начала. Единственный способ, которым Татьяна может сохранить свою любовь к Онегину — это сделать ее неподвластной судьбе, т. е. всем внешним обстоятельствам. Татьяна находит способ сохранить свое чувство, поднять его над судьбой. Это не приносит ей счастья, но наполняет ее образ высшей гармонией. Это новая ступень в становлении духовного мира Татьяны, до которой Онегину еще очень далеко.
Исходным толчком, основой для формирования новой свободной жизненной позиции Татьяны послужило открывшееся ей противо-
речие между идеальными устремлениями ее души и трезвой реальностью практической жизни. Это открытие заставляет ее вплотную приблизится к решению вечной проблемы соотношения собственного внутреннего «я» с внешним миром, составляющей философскую квинтэссенцию авторского лирического сознания в «Онегине».
В пушкинском романе есть еще один герой — Автор, введение которого резко изменяет статус главных героев (Онегин, Ленский, Татьяна). Автор в романе «Евгений Онегин» одновременно оказывается и образом эпическим (на уровне персонажей), и автором лирическим (на уровне автора, сочиняющего роман о героях).
Эта двойственная природа Автора подчеркивает и двойственную природу персонажей — они, одновременно, являются и эпическими героями, и специфическими лирическими образами, выражающими ту или иную сторону авторского мироощущения. Естественно попытаться понять и позицию Автора как в окружающем его мире, так и в системе персонажей романа. Контраст между Онегиным и Ленским оборачивается этапом духовного становления Автора, обнаруживая между собой внутреннее, парадоксальное родство.
Автор видит все несовершенство бытия (что поддерживает онегинскую тему), но это не отвращает его от жизни, хотя бы потому, что через «воображение» (что поддерживает тему Ленского) он может гармонизировать свои отношения с миром. Возможность обретения парадоксальной гармонии, сопрягающей разнородные начала, приближает образ Автора к образу Татьяны. Основные оппозиции романа (социальное/природное, искусственное/естественное) нейтрализуются только образами Татьяны и Автора. Вышесказанное позволяет оценить философскую проблематику «Евгения Онегина», осознать его как первый «экзистенциальный» роман в русской литературе. В лирике самого Пушкина явственпее всего это новое миропонимание выразилось в «Элегии» (1830).
Для Пушкина как поэта, художника открывается уникальная возможность гармонизировать свои отношения с миром — через воображение, творчество. Поэту, в отличие от обычного человека, ведомо ощущение высшей гармонии мира.
Особому мировосприятию поэта посвящен отрывок «Зачем крутится ветр в овраге...». Отрывок «Зачем крутится ветр в овраге» композициопно представляет собой набор реминисценций, каждая из которых в своем источнике наделена особой смысловой нагрузкой. Кроме литературных реминисценций, отрывок включает в себя отсылки к биографическим фактам жизни поэта. Все это позволяет определить композицию текста как своеобразный центон, состоящий из вопросов, каждый из которых имеет свой ответ как в самом стихотворении, так и в текстах-источниках. Анализ этих сложных смыс-
ловых переплетений дал возможность по-новому интерпретировать все стихотворение, особую значимость которому придает его эстети-ко-манифестационный характер. Исследование символики текста привело одновременно к выяснению его источников. Кроме очевидного — трагедии Шекспира «Отелло» — ими оказались книги Ветхого Завета. Причем образы пушкинского стихотворения одновременно соотносимы с разными книгами Ветхого Завета (Притчи Соломона, Екклесиаст, Книга Иова). Иными словами, они приобретают полигенетический характер. Соотносясь с разными источниками, пушкинские образы одновременно впитывают в себя семантическую энергию из разных контекстов.
При таком способе создания произведений многие тексты Пушкина становятся, если воспользоваться термином Цв. Тодорова, поливалентными, то есть текстами, которые отсылают читателя к неким предшествующим текстам. Пушкин парадоксально соединяет несоединимые контексты в пределах одного текста, приводя их к новому содержательному единству. По-видимому, с этой особенностью художественного мира Пушкина связано и то явление, которое мы привычно называем пушкинской гармонией. Особая концепция мира, человека и поэта с неизбежностью выводила Пушкина к попытке поэтически осмыслить особенности его собственной эстетики и. поэтики.
Таким своеобразным поэтическим манифестом, реализовавшим эту новую эстетику и поэтику, стало стихотворение «Осень» (отрывок), написанное во вторую болдинскую осень 1833 г.
«Осень» (1833) Пушкина демонстрирует принципиально иную структуру поэтической организации художественной целостности, природа которой связана с реалистическим художественным методом писателя.
Неметафорический стиль Пушкина «переводит» основные типы семантических трансформаций из сферы языка в сферу сюжета (Р. -О. Якобсон). Анализ «Осени» дает возможность увидеть, что прежний изоморфизм разрушается, а семантика каждого уровня становится полифункциональной. Так, композиция стихотворения имеет два плана — внешний (непринужденная беседа) и внутренний (глубинная мифологическая содержательность). Словесный уровень включает в себя как «нагое слово», так и изысканную перифразу. Образный строй формируется благодаря сочетанию «нестилевых слов» (Л. Я. Гинзбург) и образов, имеющих традиционно-поэтическую семантику. Исключительно важно то, что подобная сквозная полифункциональность строится не по принципу контрастного сочетания противоположностей, а по принципу их диалектического синтеза, создающего «поэзию действительности».
Семантическая осложненность (ведущая в глубину смысловая перспектива) возникает как результат взаимодействия противоположных планов разных уровней. Так, «нагое» слово, попадая в сферу воздействия мифологической композиционной схемы, приобретает новые оценочные смыслы. В свою очередь, традиционный поэтизм, небрежно употребленный в ситуации непринужденной беседы, переосмысляется. В результате повествование постоянно «двоится». Образ, вознйкающий в такой ситуации, стремится преодолеть противоположности между условностью и естественностью, традиционностью и окказиональностью, случайностью и закономерностью и предстать перед читателей как реальность самая подлинная, но при этом одухотворенная и исполненная глубокого смысла. Образ конкретен и укоренен в своем прямом значении. Но именно поэтому в нем и за ним открывается бесконечность смысла.
Стихотворение «Осень» может быть понято как одно из вершинных достижений пушкинской философской лирики, хотя ее философский потенциал «спрятан» в глубине текста.
В 30-е годы вопрос о философской направленности поэзии вышел далеко за рамки только жанровой проблематики. Центральная проблема, интересующая нас, может быть сформулирована следующим образом: как Пушкин снимает «противоречие между изображением вещей (конкретным, подробным) и выражением идей», как происходит сочетание «философского... обобщения с конкретизацией, индивидуализацией явлений предметного и духовного мира» (Л. Я. Гинзбург). Философская лирика явилась в значительной мере пробным камнем для реалистической поэзии. Поэты-любомудры, призывая к созданию философской лирики, выступили против «поверхностности» и «бессодержательности» (с их точки зрения) поэзии пушкинского типа. Реализм с его принципиальной тенденцией к конкретности, бдновременно должен был решить и эту, поставленную любомудрами, проблему. Пушкинское решение выразилось в создании такого типа поэтического обобщения, которое вырастает на основе предметной образности и конкретности лирической ситуации. Автор диссертации подробно анализирует механизм этого процесса, специально останавливаясь на стихотворении «Вновь я посетил...» При этом подчеркивается, что особая многомерность в подобного рода случаях возникает вследствие парадоксального переплетения в стихотворении двух прямопротивоположных мотивов. В результате философичность обобщения возникает не как готовая истина, а вырастает на наших глазах, т.е. предметом философской лирики Пушкина является не поэтическое изложение готовой мудрости, а сам процесс ее приобретения. Аналогично строится «Брожу ли я...» (1829), «Элегия» (1830).
Пушкин пытается исследовать человеческую природу в попытке найти тот способ взаимодействия человека с драматически организованным миром, при котором их взаимоотношения оказываются наименее болезненными. Таких основных опор оказывается несколько. Во-первых, это масштаб самой человеческой личности, масштаб ее внутреннего мира, способного противостоять трагизму существования. Во-вторых,— это искусство, способное сам трагизм существования просветлить лучом красоты. Художник, поэт (в отличие от обычного человека) способен прозревать высшую гармонию, прорываясь сквозь дисгармонию действительности. Именно эта концепция привела Пушкина к созданию нового, реалистического метода в его своеобразном, идеализирующем, гармонизирующем варианте.
В главе третьей — «Поэтика противоречия и проблема казяенно-островского цикла (1836)» автор обращается к последним пушкинским стихотворениям, созданных им за три летних месяца 1836 года, когда пушкинская семья снимала дачу на Каменном острове.
Для избранной темы важно следующее: принципы поэтического обобщения, которые возникают в поэзии Пушкина 1830-х годов, охватывают не только текст одного произведения, но и становятся способом организации надтекстовых, межтекстовых связей. Это закономерно привело Пушкина к созданию лирического цикла, который по своему циклообразующему принципу значительно отличается от традиционных и, в частности, от тех, которые встречаются в предшествующем творчестве самого Пушкина. Основной идеей, обнимающей цикл и составляющей его лирический сюжет, является идея поиска нравственных основ позиции художника. Структуру же сюжета легче всего представить в виде спирали, где «Из Пиндемонти» является исходной точкой (идея независимости от царя или народа; позиция индивидуализма, зависимость только от эстетических критериев), а «Памятник» — если рассматривать это стихотворение как часть цикла — возвращение к той же теме, только на качественно ином уровне (идея связи искусства с этическими ориентирами, которые определяются национальной, народной традицией). Структура же спирального витка важна потому, что в «Памятнике» идея свободы поэзии и художника сохраняется, но она осознается не как абсолютный критерий, а как результат приобщения к нравственно-этическим критериям, которые рассматриваются сначала на универсальном, общечеловеческом уровне («Отцы пустынники...», «Как с древа сорвался...»), а потом приобретают историко-социальную конкретизацию («Мирская власть», «Когда за городом...»).
В связи с этим можно говорить о том, что в целом весь цикл представляет собой модель перехода от культуры романтической к
культуре реализма, являясь своеобразным размышлением Пушкина над своим художественным развитием.
Появление цикла как специфической поэтической формы связаны со стремлением Пушкина к более глубокому философскому и историческому анализу явлений современной действительности, с поиском своего места в иерархии мира. Этим определялось обращение Пушкина к различным культурным явлениям прошлого (язычество, христианство), в которых поэт находит образы и поэтические мотивы, созвучные его мыслям, и, одновременно, несущие в себе отблеск целостного концептуального смысла этих культурно-идеологических систем. Расширению философско-исторического звучания цикла способствует обращение Пушкина к опыту поэтов прошлого (Гораций, Ефрем Сирин, Шекспир, Державин, Пиндемонти).
В поздней лирике Пушкина обнаруживается, что образ-символ нового типа не только несет в себе универсальное, социальное и этическое значения, но посредством него создается целая система символических образов и мотивов, которая оформляет идейно-художественное единство цикла. Таким образом, в отличие от предшествующих циклов («Подражания Корану», «Песни о Стеньке Разине», «Песни западных славян») Пушкин создает лирический цикл с новой для него структурой, связанный единством лирического сюжета, единством композиционного принципа, единством системы образов-символов и связанных с ними символических мотивов, единством метрической структуры. Все эти элементы получат свое полное развитие лишь в лирических циклах второй половины XIX — начала XX в.
Центральный поэтический принцип, объединяющий все стихотворения, можно назвать символическим. Причем в цикле представлена символизация как внетекстовая (поливалентная организация текста), так и внутритекстовая. В каменноостровском цикле значительная роль отведена библейской символике. Библейский миф является той шкалой ценностей и тем набором символов, используя которую, Пушкин выразил волновавшие его проблемы и объединил их в некую целостность. Христианская символика явилась в данном случае источником абсолютных истин, знание которых позволяет поэту правильно сориентироваться в сложных коллизиях современной жизни. Предложенная ниже схема образования надстихотворных связей цикле не претендует на реальное описание очень сложных, подчас противоречивых смысловых отношении образов и тем внутри цикла. Это — логическая схема, которая в пушкинских текстах реализуется гораздо более тонко и опосредовано. Но наша задача — выявить некий принципиальный механизм, образное воплощение которого неизмеримо сложнее.
В пушкинском цикле центральными образами-символами оказываются образы Бога и Сатаны. Они представляют собой инвариантные образы, семантически организующие две парадигмы, два ряда синонимов:
Бог — с образом которого связывается образ Христа, отцов пустынников и жен непорочных, Марии Магдалины, Пресвятой Девы, священника, брата, народа. В этическом плане к этому образу по-разному тяготеют «лучшие права», «лучшая свобода», смирение, терпение, любовь, «чувства добрые», «милость к падшим», совесть. В эстетическом — божественные красоты природы, «создания искусств и вдохновенья», поэзия;
Сатана — с образом которого связываются образы бесов, Иуды, царей, господ, купцов, чиновников, ливрей, мирской власти, цензуры, олухов, глупцов. В этическом плане — «громкие права», «дух праздности» «любоначалия», «празднословия», осуждение, прегрешение.
В каждой парадигме синонимы разделяются на несколько сфер — мифологическую, историко-конкретную, личную — и охватывают разные уровни — социальный, этический, эстетический. Образ, проецируемый одновременно на разные сферы и уровни, наполняется особой смысловой глубиной. Как особая группа рассматриваются омонимичные образы — владыка, царь, власть, жизнь, право, венец, слово, суета. Эти образы, при внешней идентичности, семантически распределяются по двум парадигмам: владыка: Сатана/Бог, власть: божья /дьявольская, царь: земной/небесный, венец: мирская слава/ духовное торжество. В омонимических образах обретает выражение идея разлада между внутренним содержанием и внешним выражением. Омонимия форм — характерная черта поэтики Евангелия, где формируется новая семантическая ситуация: «Ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее» (1 поел, коринф; 1:28). Механизм смыслообразования в цикле оказывается изоморфным механизму смыслообразования библейских (главным образом, новозаветных) текстов.
Особое место в этой главе отведено стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», где первая строфа прочитывается как в очень широком историко-культурном контексте, так и в собственно-пушкинском, включая биографический. В цикле метафорически (символически) представлен путь становления души художника-поэта, познавшего высшие нравственно-этические ценности, сумевшего определить свою позицию в современном мире,— и за это он вознаграждается бессмертием и даром пророка, приближающим его к Божеству. Атмосфера средневековой традиции, которая отчетливо проступает в «Памятнике» в контексте цикла, органически подготавливает его финал. Последняя строфа — «Веленью Божию, о Муза,
будь послушна...» — поражает как глубиной своего смысла, так и парадоксальным и неожиданным сближением традиционно-античного божества поэзии — Музы и христианского Божьего веления. Эта строфа дает возможность увидеть, с одной стороны, завершение развития темы поэта и поэзии в лирике Пушкина, а с другой — в контексте мировой культуры понять пушкинскую концепцию национального русского искусства как высшего синтеза формально-эстетической античной традиции и духовно-нравственной христианской. На протяжении многих лет у Пушкина складываются два близких, но все же различных цикла стихотворений, посвященных поэту и пророку. В одном из них («Поэт» (1827), «Поэт и толпа» (1828), «Поэту» (1830), «Из Пиндемонти» (1836)) утверждается абсолютная духовная свобода поэта, граничащая со своеволием. В другом, связанном с образом пророка («Свободы сеятель пустынный...» 1823, «Подражание Корану» 1824, «Пророк» 1826), возникает иная идея — зависимость жизни пророка от высших духовных сил. В ряде случаев и та, и другая темы объединяются («В часы забав иль праздной скуки...» 1830). Легко заметить, что тема поэта и поэзии чаще всего воплощается с привлечением главным образом античной топики, а тема пророка — библейской. В «Памятнике» Пушкин находит чеканную формулу, объединяющую в живом противоречивом единстве мысль о свободе вдохновения и творчества и мысль о зависимости духовного деяния от высших, Божьих сил.
Так выходил Пушкин к созданию идеального образа русской национальной словесности. Русское средневековое представление о словесности моделировалось знаменитым началом Евангелия от Иоанна, которое, судя по «Житию Константина Философа», было первым текстом, созданным на церковнославянском языке: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Сама по себе эта онтологическая для русской духовной культуры фраза выстраивалась как новый и высший синтез античной культуры (Логос) и хри-стианско-иудейской (Христос), дав удивительную эстетическую модель образно воплощенной Божественной Премудрости. По существу, эта эстетическая установка определяла отношение к Слову в русской культуре X—XVII в.
Революционные изменения в этом отношении происходят в XVIII веке, что связано с переориентацией традиционно-христианского комплекса русской культуры на новый — светско-европейский. Это выразилось в эстетическом переосмыслении античной традиции. Именно в это время складывается концепция «странствования Муз», отразившаяся в творчестве А. Д. Кантемира, М. В. Ломоносова и нашедшая свое ярчайшее выражение в «Эпистоле от Российской поэзии к Аполлину» (1735) В. К. Тредиаковского. Смысл ее заключал-
ся в том, что только сейчас, в XVIII в., в Россию, темную, оторванную от европейской культуры, пришли светские науки и искусства в образе странствующих Муз. (Ср.: «Желай, чтоб на брегах сих Музы обитали» (А. П. Сумароков) или позднее — «Оленину» (1804) Г. Р. Державина). При этом само понимание искусства резко изменилось. Теперь это уже не божественное чудо, а природный дар плюс мастерство, техника и знание образца.
Таким образом, пушкинская Муза, послушная Божьему велению, соединяя две противоположные русские традиции, дает искомый образ идеала, где красота, понимаемая как мастерство и совершенство, соединяется в неразрывном единстве с высшей этикой. Пушкинский «Памятник» дает обобщенно-синтетическую формулу нового русского искусства, которое вырастает на почве лучших достижений древней культуры (античной и христианской), как синтез древнерусской культуры и русской культуры XVIII в., поднимаясь над спором шишковистов и карамзинистов, западников и славянофилов, являя идеальный синтез тех плодотворных внутренних противоречий, из которых складывается национально-своеобразный лик русской культуры.
Осталось еще не совсем ясным, зачем поэту понадобилось вводить указание на итальянскую культуру и в чем смысл итальянской темы для всего цикла. В общей историко-литературной концепции Пушкина на долю Италии выпала самая важная роль в развитии литературного процесса — именно в ней зародился романтизм. Одновременно, Италия (в эпоху упадка Рима) — это и родина христианства. Эта переходная эпоха привлекала внимание Пушкина, согласуясь с его идейно-художественными поисками последних лет. Появление каменноостровского цикла являет нам как раз такую попытку подведения очень значительного итога пушкинского развития (от периода южной ссылки к реализму 30-х годов). Это объясняется тем, что поэт ощущает себя на пороге нового этапа своей творческой жизни.
В Заключении подводятся итоги работы. Исследование поэтики противоречия в творчестве русских писателей — Державина, Карамзина, Жуковского, Крылова — показало, что становление художественности русской литературы в той или иной мере оказалось связано с осмыслением и реализацией этой категории в художественном мире каждого из них.
Русская литература прошла путь от того исторического рубежа, когда литературный текст и создается и прочитывается на фоне риторических традиций до возникновения текстов, которые и создаются и прочитываются на фоне разрушения прежних риторических традиций, создавая эффект выхода за пределы литературности в сферу внелитературой действительности. Именно в это время появляет-
ся Пушкин. Уже первые пушкинские тексты строятся не только на точном воспроизведении традиции, не только на разрушении традиции, но и на одновременном утверждении новых поэтических принципов, что позволило Пушкину сразу занять совершенно особое место в отношении к современной ему поэзии — он с блеском воспроизводит в пределах одного текста основные особенности поэтики разных авторов, часто прямопротивоположных друг другу и, одновременно, на этом фоне созидает свою оригинальную поэтику.
В художественном сознании Пушкина возникает такая картина мира и такой способ её изображения, в основе которых лежит идея противоречия. Поэтика «противоречия» проникает во все сферы фор-мосодержания. При этом изменяется стратегия текста — он целенаправленно создается таким образом, что может породить диаметрально противоположные читательские интерпретации.
Текст свои формальные категории преобразует в содержательные, придавая поэтике онтологический характер.
Одна из основных оппозиций творчества Пушкина, которая оказалась в центре внимания исследования — взаимодействие внутреннего мира человека и окружающей его действительности.
Все вышесказанное позволяет не только по-новому осознать смысл пушкинских произведений, их поэтику, но и проникнуть в специфику художественного мышления поэта; понять место Пушкина в эволюции не только русской, но и мировой художественно-эстетической мысли.
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях
А. Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК
1. «Памятник» А. С. Пушкина в контексте мировой культуры /статья/ // Вестник ДВО РАН.— № 6.— 1997. — С. 49—59,— 0, 52 авт. л.
2. Пушкин и мы /статья/ // Вестник ДВО РАН.— № 6.— 1999.— С. 94—98. — 0,21 авт. л.
Б. Монографии
1. Реализм лирики A.C. Пушкина: поэтика символического обобщения. — Владивосток: ДВГУ, 1995.— 216 с.— 11,34 авт. л.
2. «В начале было Слово...».— Владивосток: ДВГУ, Общество «Слово», Приморское общество книголюбов, 1996.— 101 с.— 6,5 авт. л.
3. «Веленью Божию, о Муза, будь послушна»: тема поэта и поэзии в «каменноостровском» цикле А. С. Пушкина.— Владивосток: ДВГУ, 1996,— 120 с. — 7,5 авт. л.
4. «Гений, парадоксов друг...».— Владивосток: ДВГУ, 1999.—144 е.— 8,37 авт. л.
5. Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина и русская литература конца XVIII — начала XIX века.— Владивосток: ДВГУ, 2004,— 540 с. — 25,34 авт. л.
В. Статьи
1. Образы-символы в стихотворении A.C. Пушкина «Бесы» // Материалы XXIV Всесоюзной науч. студен, конф. «Студент и научно-технический прогресс». Сер. Филология. — Новосибирск, 1986. — С.59-65. — 0,31 авт. л.
2. «Когда за городом, задумчив, я брожу...» // Временник пушкинской комиссии. Сб. науч. тр.— JL, Наука.— Вып. 21.— 1987. — С. 98 —104. — 0,36 авт. л.
3. Система образов-символов как циклообразующий фактор (о последнем лирическом цикле А. С. Пушкина) // Проблемы жанра и стиля художественного произведения. Межвуз. сб.— Владивосток, 1988.— С. 107—117.— 0,52 авт. л.
4. «Зачем крутится ветр в овраге...» А. С. Пушкина: источники, поэтика, концепция поэта и поэзии // Временник пушкинской комиссии. Сб. науч. тр. — Л., Наука.— Вып. 24.— 1990.— С.144—155.— 0,52 авт. л.
5. «Станционный смотритель» А.С.Пушкина: проблемы соотношения идеала и действительности (проблемы этической аксиологии) // Новое в школьном преподавании гуманитарных дисциплин: Статьи и исследования. — Владивосток: ПИПКРО, 1995.— С.10—16.— 0,31 авт. л.
6. Культурологический прогноз А. С. Пушкина // Культура XXI века: человек, общество, космос /Изд. 2, доп. — Владивосток, 1997.— С. 71-77.-0,36 авт. л.
7. Синтез духовных традиций в творчестве А. С. Пушкина: «Пророк» // Культура XXI века: человек и среда обитания. — Владивосток, 1997. — С. 59—63.— 0,21 авт. л.
8. Гений, парадоксов друг (об одной философской традиции в творчестве A.C. Пушкина // Дни славянской письменности и культуры: Мат. всероссийской научной коиф. Т. 2.— Владивосток: ДВГТУ, 1998.— С. 70—74.— 0,22 авт. л.
9. «Борис Годунов» А. С. Пушкина и летописная традиция // Дальневосточная конф. молодых историков. Институт истории археологии и этнографии ДВО РАН.— Владивосток, 1998,— С. 131—134.— 0,21 авт. л.
10. Философия творчества в стихотворении А. С. Пушкина «Осень» // Вестник Харьковского университета. № 411. 1998.— С. 116—120.— 0,2 авт. л.
11. «Дай нам руку в непогоду...»: пушкинский юбилей 1937 года в странах АТР (библиографические заметки) // Россияне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество на рубеже веков. Мат. I международ. науч.-практ. конф. Кн. 2.— Владивосток: ДВГУ, 1999.— С. 256— 260.— 0,26 авт. л.
12. «А счастье было так возможно, // Так близко! но судьба моя // Уж решена»: опыт комментария //A.C. Пушкин. Эпоха, культура, творчество. Традиции и современность: Мат. международн. конф. Кн. 1.— Владивосток: ДВГУ, 1999,— С. 29—34. — 0,35 авт. л.
13. «Пророк» А. С. Пушкина. Синтез духовных традиций в творчестве поэта // А. С. Пушкин: Эпоха, культура, творчество. Традиции и современность: мат. международ, конф. Кн. 1, доп. — Владивосток: ДВГУ,
1999.— С. 86—95.— 0,52 авт. л.
14. «Гений, парадоксов друг»: об одной особенности художественного мира А. С. Пушкина // Пушкин в школе. Современное прочтение. Науч.-метод. сб. — Владивосток: ДВГУ, 1999. — С. 7—13.— 0,36 авт. л.
15. О библейском контексте стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (книга Екклесиаста) // Ученые записки Нерюнгринского технического института. Гуманитарные науки. Вып. 1.
2000.— С. 4—6.— 0,15 авт. л.
16. О литературном контексте стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин) /
/ Новое виденье культуры мира в XXI веке: мат. междуйарод. науч. конф. Владивосток, 22—25 мая 2000 г. — Владивосток: ДВГТУ, 2000.— С. 240—242.— 0,1 авт. л.
17. Книга Екклесиаста в творчестве А. С. Пушкина конца 1810-х — начала 1820-х г. // Христианство на Дальнем Востоке: мат. международ. науч. конф. 19—21 апреля 2000 г.— Владивосток: ДВГУ, 2000.— С. 82—85.— 0,21 авт. л.
18. Поэтика «противоречия» в творчестве Н. М. Карамзина // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. N° 1. 2004.— С.134—138.— 0,36 авт. л.
19. Ода Державина «Бог»: библейский и литературный контексты / / Приморские образовательные чтения памяти святых Кирилла и Ме-фодия. Сб. тез. и докл. Владивосток, 24-27 мая 2003 г.— Владивосток: ДВГУ, 2004.— С. 72—75. — 0, 26 авт. л.
20. Скульптура и текст: «Царскосельская статуя» А. С. Пушкина // Русская литература. №1. 2004.— С.95—102. — 0,42 авт. л.
21. Учитель и ученик: послание А. С. Пушкина «Жуковскому» (1818) // Жуковский и русская культура его времени.— Спб.: ВМП, 2004 (в печати).— 0,5 авт. л.
22. Поэтика противоречия в басенном творчестве И.А. Крылова // 85 лет высшему историческому и филологическому образованию на Даль-
нем Востоке: мат. науч. конф. Часть 2. Литература. Язык. Культура.— Владивосток, ДВГУ. — 2003.— 0,2 авт. л.
Г. Тезисы международных конференций
1. Образ «свободы» в стихотворении A.C. Пушкина «К морю»: К вопросу о европейском и русском понимании свободы // Социально-экономические и политические процессы в странах АТР. Мат. между-нар. конф. Кн. 3.— Владивосток: ДВГУ, 1997.— С. 61—62.— 0,15 авт. л.
2. Диптих А. Ахматовой «Городу Пушкина»: поэтика реминисценций // А. С. Пушкин: Эпоха, культура, творчество. Традиции и современность: мат. международ, конф. Кн. 1.— Владивосток: ДВГУ, 1999.— С. 128—129,— ОД авт. л.
Д. Тезисы всероссийских и межвузовских конференций
1. Структура лирического сюжета и композиция «каменноостровс-кого» цикла A.C. Пушкина // Диалектика формы и содержания в языке и литературе. Межвуз. сб. — Тбилиси, 1986. — С.58—59.— ОД авт. л.
3. «Станционный смотритель» А. С. Пушкина: проблемы этической аксиологии // Тезисы всесоюзной межвузовской конференции «Литература и нравственность».— Ставрополь, 1990.— С. 18—19.— ОД авт. л.
4. К проблеме интерпретации финала «Пира во время чумы» А. С. Пушкина // Дни славянской письменности и культуры: Мат. всероссийской научной конф. Т. 2.— Владивосток: ДВГТУ, 1998. — С. 75—76.— ОД авт. л.
Всего — 67,35 авт. л.
РНБ Русский фонд
2007-4 176®
Ильичев Алексей Викторович
ПОЭТИКА ПРОТИВОРЕЧИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XVIII —НАЧАЛА XIX ВЕКА
АВТОРЕФЕРАТ
Подписано в печать 5.11.2004. Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 2,56. Уч. изд. л. 2,6. Тираж 100 экз. Заказ ^
Издательство Дальневосточного университета 690950, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27
Отпечатано в типографии Издательско-полиграфического комплекса ДВГУ 690950, г. Владивосток, ул. Алеутская, 56
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Ильичев, Алексей Викторович
Введение.
Примечания.
Часть первая. Поэтика противоречия в русской литературе конца XVIII — начала XIX века
I. Поэтика противоречия в творчестве Г. Р. Державина.
Примечания.
II. Поэтика противоречия в творчестве Н. М. Карамзина
Примечания.
III. Поэтика противоречия в творчестве К. Н. Батюшкова.
Примечания.
IV. Поэтика противоречия в творчестве В. А. Жуковского
Примечания.
V. Поэтика противоречия в творчестве И. А. Крылова
Примечания.
Часть вторая. Поэтика противоречия в творчестве * А. С. Пушкина
I. Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина (1813—1830).
Примечания.
II. Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина (1830—1836).
Примечания.
III. Поэтика противоречия и проблема каменноостровского цикла.
Примечания.
Введение диссертации2004 год, автореферат по филологии, Ильичев, Алексей Викторович
Предметом нашего исследования явилось изучение определенной структуры художественного мышления Пушкина, которую, вслед за самим Пушкиным, можно назвать поэтикой «противоречия». Под этим, в первую очередь, понимается тот способ организации художественной целостности произведения, которая в пределе создает эффект полноты, гармонии, многосторонности, всеохватности, что достигается, в частности, тем, что к парадоксальному единству сводятся противоположные начала.
Стремление Пушкина к многосторонней полноте изображения известно: «Однообразность в писателе доказывает однообразность ума, хоть и глубокомысленного»1. Ярче всего размышления на эту тему выразились в противопоставлении Пушкиным Байрона и Шекспира: «Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества» (О драмах Байрона, 1824 (VII, 52)), в то время как Шекспир явил миру «многосторонний гений» (Table-Talk (VII, 516)).
Подобное осознание многосторонности позволило Пушкину занять уникальную позицию в современном ему литературном процессе. Так, в письме к П. Катенину (№ 185, фев. 1826) он пишет: «Многие (в том числе и я) многим тебе обязаны: ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли» (XX, 201). В «Письме к издателю» «Московского Вестника» (1828. Т. VII. С. 71—72) эта мысль развивается следующим образом: «.каюсь, что я в литературе скептик (чтобы не сказать хуже) и что все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и не выгодную сторону» (VII, 71—72) (ср.: «.направление одностороннее, всегда непрочное.» (VII, 48)).
Современный исследователь пишет: «Позиция Пушкина по отношению к классической и романтической поэтике выявляет себя скорее негативно — в ироническом его отношении к любой литературной партии, любой односторонне-полемической программе. Пушкинский „истинный романтизм" стремится к синтезу всех противоречащих друг другу позиций, „старого" и „нового", и в то же время ни одну из этих позиций не принимает без известной доли иронии. Поэтому данный феномен не поддавался какому-либо программатичеЛ скому определению» . Аналогичная логика обнаруживает себя не только в литературной сфере, но и в жизненной. Так, осмысляя последствия декабрьского восстания, Пушкин пишет Дельвигу: «Не будем ни суеверны, ни односторонни — как французы, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (X, 200). С категорией противоречия Пушкин связывает и проблему гения: «Гений, парадоксов друг» (III, 161). Именно поэтому гений «с одного взгляда открывает истину» (Письмо к Толю № 782 от 26 янв. 1837. XX, 621). Отметим, что в пушкинских оценках гениальности повезло только двум русским поэтам — Г. Р. Державину и И. А. Крылову. «Отчего у нас нет гениев и мало талантов? Во-первых, у нас Державин и Крылов, во-вторых, где же бывает много талантов» (X, 145).
Эта специфическая многосторонность, естественно, была отмечена современниками — как положительно («Пушкин — Протей» Н. И. Гнедич, «Пушкин — наше все» Ап. Григорьев), так и отрицательно — как отсутствие единой темы творчества, поверхностность мыслей при многообразии предметов изображения (например, Ф. Булгарин). Между тем, именно современником Пушкина была описана та особая структура, благодаря которой достигается эффект полноты как смысла, так и изображения. Речь идет о статье И. В. Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина» («Московский вестник», 1828 г., ч. 8, №6), где критик, характеризуя второй период творчества Пушкина, отмечает, что «теперь является он поэтом-философом, который в самой поэзии хочет выразить сомнения своего разума, который всем предметам дает общие краски своего особенного воззрения. Он в целом мире видит одно противоречие» . Противоречивость мира изображается через разногласие, ибо, как пишет критик, «только разногласие связует два различных созвучия»4.
В работах В. Г. Белинского будет подробно проанализировано «протеистическое» начало в творчестве Пушкина, а философская глубина его произведений, к сожалению, не будет оценена, хотя компенсируется мыслью о художественной высоте его творений: «Пушкин как поэт велик тем, где он просто воплощает в живые прекрасные явления свои поэтические созерцания, но не там, где хочет быть мыслителем и решителем вопросов»5.
На этом фоне было вполне закономерно появление статей Д. И. Писарева, утверждавшего идейную пустоту и блестящую форму ее выражения в творчестве Пушкина, «в котором было много пищи для воображения и в котором не было никакой пищи для ума. .»6.
Только конец XIX века вернул Пушкину не только его философ-ско-поэтическую глубину, но и попытался осознать саму противоречивость пушкинской натуры, противоречивость его художественного мышления. Так, М. О. Меньшиков в статье «Клевета обожания» (1899) пишет: «Если стихи его подбирать как документы, то с одинаковым правом вы можете утверждать, что Пушкин был и истинный христианин и грубый язычник, и народолюбец и противник народа, и человек целомудренный и циничный грешник, и враг насилия и сторонник его. В разный возраст, в разные моменты того же возраста, смотря по преобладанию той или другой из стихий, его составляющих, он высказывал совершенно различные взгляды, которые с своей, относительной точки зрения одинаково верны, а с абсолютной — одинаково ошибочны. Когда Пушкин утверждал, что народ подл, то ^ относительно он был столько же прав, как тогда, когда утверждал, что народ благороден. Народ одновременно и подл и благороден, смотря потому, какие струны души его приведены в действие. Но Пушкин был бы абсолютно не прав, утверждая что-нибудь одно из двух; но он этого и не делал»7.
Философская критика конца XIX — начала XX века попыталась осмыслить весь творческий путь поэта как «явление гармонического сочетания, равновесия двух начал» язычества и христианства8. Или ^ еще более широких, но более абстрактных категорий — полноты и неполноты9. Становилось понятно, что «всякая попытка приписать Пушкину-поэту однозначно определенное религиозное или философское миросозерцание заранее обречена на неудачу, будучи по существу неадекватной своему предмету»10. «Это живое ведение или, вернее, это самопознавшая себя жизнь не исчерпывается никакими „мыслями" или „идеями". Ее идеальное содержание выразимо лишь в комплексе противоборствующих и взаимноуравновешивающих друг друга идей — есть „соединение противоборствующего и гармония разнородного", как определял самое жизнь Гераклит»11. С. Франк попытался определить причину этого: «.качество благоволения и сочувствия вытекает из широты его духа, из факта, что его дух действительно (а не только формально-художественно) охватывает всю неизмеримую сферу человеческой духовности, что ему поистине не чуждо ничто человеческое. Поэтому он по своему существу, в глубочайшем смысле слова сверхпартиен: он не замыкается ни в каком „миросозерцании", ни в каком духовном направлении, ни в какой односторонней теории»12. Именно потому, что «.мысль Пушкина всегда предметна, направлена на всю полноту и целостность бытия и жизни — более того, есть, как указано, как бы самооткровение самой конкретной жизни, то его жизненная мудрость построена на принципе совпадения противоположностей (сотс1с1епйа орроз^огиш), единства разнородных и противоборствующих потенций бытия»13.
Описанный выше комплекс идей в дальнейшем из сферы общеэстетической и общефилософской приблизился к исследованию более конкретных проблем поэтики художественных текстов Пушкина.
Особое место в этом процессе принадлежит рукописи Ю. Н. Тынянова, созданной в 1921—1922 годах, но впервые опубликованной в 1975 году, «О композиции „Евгения Онегина"», положившей начало исследованиям поэтики противоречия в сфере художественной формы, понимаемой как факт художественного содержания14.
Другое плодотворное направление исследований оказалось связано с работами М. М. Бахтина, описавшего эффект диалогической (или двусубъектной) природы пушкинского лирического текста15. Для изучения Пушкина (являющегося преимущественно лириком) возможность анализировать лирический текст как единство двух различных голосов открывала перспективы проникновения идеи «противоречия» в область поэтики. Относительно пушкинской прозы аналогичный опыт был проделан В. В. Виноградовым при анализе «Пиковой дамы»16.
Значительный вклад в исследование указанной проблематики связан со структурно-семиотическим анализом, который в основу своего подхода к художественному тексту положил идею семантических оппозиций. Так, Ю. М. Лотман отмечает, что «.в ходе работы над „Евгением Онегиным" у автора сложилась творческая концепция, с точки зрения которой противоречие в тексте представляло ценность как таковое. Только внутренне противоречивый текст воспринимался как адекватный действительности. Пушкин пошел здесь по самому неожиданному, казалось бы, пути: он не ослабил, а предельно усилил ощущение литературной условности в целом ряде ключевых мест романа. Однако, решительно отказавшись от тенденции к соблюдению на всем протяжении произведения одинаковых принципов и единой меры условности, он сознательно стремился сталкивать различные их виды и системы, .при котором у читателя возникало иллюзорное впечатление выхода за пределы литерату
17 ры» .
С иных методологических позиций эту же проблему поднимает П. В. Палиевский: «Задача Пушкина была иной: самому стать мыслью и смыслом, средоточием и предметом духовных исканий, предложить реальный идеал — что само по себе как понятие было несовместимо. Ради этого. он и разработал свой метод-стиль объединения противоположностей: не при помощи их решения, а, можно было бы сказать, утверждения их соотносительного места в растущем целом. Пушкин везде избирает „крайнее", но всегда на оси, проводящей это крайнее через невидимый центр в противоположную, кажется, еще более дикую крайность, однако, . .расширяя целое
1 о до способности все дальше их объять» .
Системно, но на основе диалогического характера пушкинской целостности, особенности поэтики противоречия выявлены в работе Н. Д. Тамарченко «Целостность как проблема этики и формы в произведениях русской литературы XIX века». На уровне возникающей целостности для поэта характерно равновесие противоположностей, еще не раскрывших себя и выступающих не как «отвлеченные жизненные принципы», а как «эстетические облики двух миров»19. На второй стадии — становления — «целостность противостоящих начал распадается»20 и каждое из них предельно проявляет себя в диалоге. Наконец, на стадии завершения — осуществленной целостности — у Пушкина сопрягаются «уже предельно проявившие себя начала»21, причем противоречия не разрешаются, а «оставляются» внутри изображенного мира, где мы ощущаем лишь возможность общей для них единой меры. Налична эта мера лишь в творческом сознании, свободно входящем внутрь изображенного мира и вбирающем его весь в себя»22.
Во многом исследование поэтики противоречия было актуализировано изучением диалогической природы художественного текста. Так, в 1983 году появляется работа С. Н. Бройтмана «Проблема диалога в русской лирике первой половины XIX века», где утверждает-V* ся, что именно в лирике Пушкина впервые в истории русской поэзии зарождается полноценная возможность появления диалогически ориентированного поэтического слова: «Пушкинский диалогический автор уже не „одержим" другим, а „неразделен и неслиян" с ним. Пушкин знает о собственной изображенности и „другости" („смертности") и, как это ему свойственно, принимает ее так, чтобы ее преодо
23 леть» .
Несколько иные по своему составу художественные построения о л исследуют Ю. В. Манн и В. М. Маркович . В сфере их интересов — романы середины XIX века, где прослеживается столкновение именно двух противоположных точек зрения, жизненных установок. Сюжет же романов выстраивается так, что обнаруживает взаимную неполноту каждой из позиций, тем самым утверждая невозможность одной монологической правдой охватить многообразие мира. Это так называемый диалогический конфликт, истоки которого Ю. В. Манн видит у Н. М. Карамзина (очерк «Чувствительный и холодный»).
Изучение принципов и форм диалогизации как лирического слова, так и эпического повествования выводили исследователей к постановке более широкой проблематики — становлению и развитию художественности в русской литературе конца XVIII — начала XIX века . Иногда процесс рассматривается еще более широко — на фо-^ не западно-европейской культуры XVIII— начала XIX века26.
В 1989 году выходит монография Стефани Сандлер «Далекие радости. Александр Пушкин и творчество изгнания», где, в частности, описываются те особенности пушкинских текстов, «которые дают возможность их различной интерпретации» в связи с тем, что «главной особенностью поэтического таланта Пушкина, развившейся за годы ссылки, является способность оппонировать собственным аргументам и, таким образом, рассматривать их словно со стороны»27.
Вот как определяет особенности поведения, творчества и художественного мышления Пушкина Б. М. Гаспаров: «.Двойственность и в то же время взаимная дополнительность образа типична для Пушкина; она стоит за многими „противоречиями" пушкинского творчества и поведения»28. Философски расширенное понимание диалогиз-ма положено в основу исследования художественной антропологии
29
Пушкина Б. Т. Удодовым . «Бинарное взаимодействие» осознается современными исследователями как первооснова пушкинского ми-^ ропонимания: «.Пушкин,— пишет А. Н. Иезуитов,— наиболее полно, гармонично и совершенно воплотил в своей жизни и в своем творчестве „бинарное взаимодействие" как поистине универсальную и важнейшую закономерность всего бытия — материального и духовного, охватывающую собою и прошлое, и настоящее, и будущее, жизнь всего человечества и каждого человека»30.
Интересны наблюдения И. Б. Роднянской над поэтической афори-стикой Пушкина. Она подчеркивает, что первой особенностью ее является антиномичность и парадоксальность, а второй — «пунктир-ность», «перескок-перелет через целые цепочки логических и ассоциативных звеньев»31.
Современные исследователи подчеркивают в пушкинском стиле сочетание сложного в простом, гармонии и дисгармонии: «Такие привычные определения пушкинского стиля как классически стройный, органичный — малоконкретны: .за простотой и предсказуемостью жизненных отношений Пушкин неизменно открывает связи, не укладывающиеся ни в какую окончательность. Стиль наглядно демонстрирует это проступание сложного в простом, дисгармонии в гармонии»32.
На взгляд Т. Г. Мальчуковой, принцип противоречия дает возможность по-новому подойти к изучению взаимодействия античной и христианской традиций в художественном мире Пушкина: «.Он стал полноправным наследником великого культурно-исторического синтеза и создателем христианской по духу классической литературы в России. В духовном мире его поэзии христианские идеалы любви, милости и смирения уживаются с античными идеалами свободы, славы и красоты. Поэтому, думается, неверно сводить аксиологию поэта к одному христианству или к одной античности, как и противопоставлять в нем язычника христианину. Будет, кажется, вернее, если, отвращаясь от односторонности, которую Пушкин называл „пагубой мысли", и, не боясь противоречий, „противочувствий", которых не боялся и не избегал и он сам, понимать эти разные идеалы в ценностном мире поэта диалектически — как единораздельную целостность»33.
Осознание особой значимости логики противоречия для творческого сознания Пушкина привело к пересмотру некоторых фундаментальных причин, лежащих в основе эволюционных путей развития пушкинского творчества. «Чем же объяснить эту феноменальную способность к развитию?» — спрашивает В. И. Глухов. «.Эта способность была следствием бесподобной творческой одаренности и активности самого поэта, его особого склада сознания, склонного к тому, чтобы находить взаимоисключающие тенденции в окружающем мире и отражающей их человеческой мысли. Нетрудно понять, что в художественном постижении Пушкиным действительности должны были неизбежно появляться исключающие друг друга тенденции, а, следовательно, и внутренние противоречия, которые, требуя своего разрешения, стимулируют интенсивные поиски новых путей в поэзии. Главное же — в постоянной предрасположенности Пушкина к художественному постижению действительности в ее противоположностях и контрастах, к осмыслению ее полярных сторон и их взаимосвязи, что порождает в его собственном сознании исключающие друг друга тенденции, противоречия, стимулирующие повышенные темпы работы его творческой мысли»34.
Способы преодоления Пушкиным противоречий осознаются современными исследователями как своеобразная культурологическая модель развития русской культуры: «Если. он вводил противоречия для того, чтобы найти меру их преодоления, тогда он создавал ценность „середины", обособляясь от абсолютизации сложившихся стереотипов культуры и формируя логику развития личности, измеряемую выживаемостью во все более усложняющемся мире», — пишет А. Давыдов. «Итак, не полифония господствует в пушкинском мире, а конструктивная напряженность многоголосия, гармония. Ценностный вектор поворачивается от монологизма сложившихся стереотипов к синтезу нового смысла в зоне между ними. Возникает синтез небесного в земном, трансцендентного в имманентном как содержание и этапы развития логики „середины". Это и есть пушкинский „магический кристалл", основная гуманистическая методология Пушкина и его медиационное решение проблемы воспроизводства культуры. По Пушкину, человеческое, чтобы выжить, должно обладать рефлексией, диалогичностью, способностью к синтезу и мужеству измерять свою жизнеспособность смертью»35.
Наконец, исследуются формы проявления поэтики противоречия, в частности — парадокс. Так в статье В. Шмида «Парадоксальность Пушкина» сама пушкинская личность осознается как парадокс, изучаются парадоксы пушкинского чувствования, парадоксы пушкинских художественных характеров, их поступков, судеб; онтологические парадоксы, парадоксы жанра, интертекстуальности, литературности36.
Можно сказать, что исследователи-пушкинисты в тех или иных аспектах обращались к анализу противоречий в творчестве поэта, но эта особенность его мышления не была предметом специального монографического исследования. Именно это обстоятельство определяет как новизну, так и актуальность данной работы.
Наше исследование не претендует на исчерпывающую полноту, более того, его цель — скорее прояснить саму проблему, осознать ее масштаб и значительность как для анализа пушкинского наследия, так и для истории русской литературы конца XVIII — начала XIX века.
Мы обратились не к какому-нибудь определенному периоду эволюции Пушкина, но, выборочно обращаясь к тем или иным произведениям поэта, созданным в разные эпохи творчества, рассматриваем их как наиболее показательные для каждого этапа его творческого пути.
При этом обнаружилось, что уже первые дошедшие до нас литературные опыты поэта демонстрируют владение поэтикой противоречия. А это значит, что ранний Пушкин имел возможность опереться на определенную литературную традицию. Именно поэтому нам пришлось расширить объект изучения, так как возникла необходимость обратится к пушкинским предшественникам, к пушкинским учителям, чтобы прояснить тот литературный контекст, которым питалось пушкинское творчество. Среди многообразия авторов, мы остановились на важнейших для нашей темы — на творчестве Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского, И. А. Крылова.
В связи с тем, что предметом анализа оказались столь разные авторы, необходимо было не только учесть их индивидуальные отличия, но и попытаться найти как объединяющие их историко-литературные и литературоведческие темы, так и определенное единство литературоведческого анализа выше означенной проблемы. Методические и методологические аспекты литературоведческого анализа менялись в связи со спецификой самого исследуемого материала.
Оказалось важным прояснить философско-эстетические представления писателей, на которые опирается их поэтика противоречия, определить особенности ее функционирования в различных художественных системах, учесть индивидуальность каждого автора, своеобразие его стиля. Поэтика противоречия, в свою очередь, реализуется на различных уровнях художественной целостности — на уровне образном, композиционном, стилистическом и стилевом.
Современные теоретики определяют художественную целост
УП ность как единство противоположных начал . Однако способы, которыми эти противоположные начала приводятся к единству, оказываются разными.
Важно подчеркнуть, что само представление о художественном целом как единстве противоположностей складывается в эстетике как раз в конце XVIII — в начале XIX века. Так, для А. Баумгарте-на — основателя эстетики как самостоятельной науки — «в основе художественного творчества лежит единство многообразия, которое
3 о и есть совершенство мира (регГесйо типсИ)» . Специфика и универсальность эстетического впервые осознаются как единство противоположностей в теории и практике немецкого романтизма — в философии И. Канта и Ф. В. Шеллинга. Произведение искусства и строит, по Шеллингу, «воссоединение» идеального и реального, бесконечного и конечного, сознательного и бессознательного, познаваемого и созидаемого; только благодаря такому «воссоединению» оно и может предстать как «особенная вещь»: «.в истинном универсуме для особенных вещей может быть место лишь постольку, поскольку они вбирают в себя неделимый универсум и, таким образом, сами суть универсумы»39.
Более конкретно и систематически диалектическая природа художественного произведения раскрывается Гегелем.
Разумеется, что круг этих идей существенно влияет на развитие русской эстетической мысли. Так, кантианскую теорию на русской почве развивает Л. Г. Якоб40. Романтическое представление о произведении как об органической целостности характерно для А. И. Галича: «.Целость органическая принадлежит к. существенным свойствам изящного. Она оживляет многоразличные, друг для друга существующие части материи одною, по себе значительною идеей. Сия-то органическая целость отличает изящное от всех прочих предметов.»41.
Любопытно отметить суждение М. М. Гиршмана о том, что «решающий этап в становлении понятия о литературном произведении как художественном целом осуществляется на стыке эстетики и критики авторами, особенно близкими к реальному движению литературы: И. В. Киреевским и В. Г. Белинским. Но прежде чем непосредственно обратиться к их суждениям, надо сказать «.и о тех качественных переменах в художественной практике, которые служили плодотворной основой для нового взгляда на произведение и которые наиболее отчетливо представлены в творчестве А. С. Пушкина»42. Представляется, что значительную роль в этом процессе сыграла как раз поэтика противоречия, на основе которой в творчестве Пушкина фактически формируется поэтика целостного текста.
Если целое текста рассматривать как единство семантических приемов в движении, «этапы которого — разрушение слова, воссоздание его значения и построение поэтического мира как модели действительного», то механизм, порождающий это движение, можно определить как художественный образ43. В свою очередь, подчеркнем, что этот процесс может протекать по нескольким семантическим конфигурациям — по аллегорической, метонимической или метафорической, что создает логическую основу для типологических исследований. Более того, на разных уровнях текста могут действовать разные по своей природе семантические закономерности.
Исследование этих процессов, взятых в историческом аспекте, позволяет описать становление художественности русской литературы конца XVIII — начала XIX века через осознание меры поэтической условности, реализованной в творчестве того или иного автора. Таков историко-литературный аспект исследования.
Мы обратились к анализу различных в жанровом отношении произведений А. С. Пушкина (лирика, драма, проза, роман в стихах), показав тем самым, что выявленная закономерность художественного мышления писателя носит метажанровый характер.
Более того, межтекстовые связи зачастую организуются Пушкиным по принципу противоречия, что дает ему возможность создавать новые по своим организационным принципам художественные ансамбли (лирические, прозаические, драматические циклы, роман
Евгений Онегин»).
При обращении к творчеству Пушкина нас интересовала не только эстетико-философская база поэтики противоречия, не только ее реализация как на разных уровнях художественного целого текста, так и при создании художественной целостности, но и трансформация поэтики противоречия из области художественной формы в сферу художественного содержания, в сферу художественного (и не только художественного) мышления поэта.
Выход в сферу художественного содержания изменяет и аспект литературоведческого анализа. Он смещается в сферу идейно-тематическую.
Все вышесказанное позволяет говорить о картине мира, которая складывается в позднем творчестве Пушкина, основные категории которой оформляются с опорой на логику противоречия.
Теоретическая значимость работы определяется тем обстоятельством, что позволяет выделить принципиально новый объект исторической поэтики и предложить методологию его описания.
Сообразно поставленной задаче диссертация состоит из двух частей. Первая часть — «Поэтика противоречия в русской литературе конца XVIII — начала XIX века» — состоит из пяти глав, в которых исследуется это явление в творчестве Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского, И. А. Крылова. Выбор этих писателей связан с особой ролью, которую они сыграли в качестве пушкинских учителей.
Вторая часть — «Поэтика противоречия в творчестве А. С. Пушкина» — состоит из трех глав, которые охватывают, разумеется выборочно, весь творческий путь Пушкина, где в отдельную самостоятельную главу выделено исследование особенностей формы и содержания так называемого каменноостовского цикла, который явился щ итогом творческого и духовного развития поэта.
Методологической основой работы явились труды виднейших пушкинистов, начиная с В. Г. Белинского, П. В. Анненкова, П. И. Ба-ртеньва, К. Я. Грота, классические исследования В. В. Виноградова, Б."ВГТомашевского, Д. Д. Благого, Г. А. Гуковского, С. М. Бонди, Б. С. Мейлаха, Н. В. Измайлова, Г. П. Макогоненко, Б. П. Городецкого, заканчивая новейшими работами С. Г. Бочарова, Ю. М. Лотмана, С. Н. Бройтмана, В. М. Марковича, Б. Т. Удодова, Б. М. Гаспарова, ^ В. Э. Вацуро, С. А. Фомичева, Н. Н. Скатова, В.П. Старка, Р.В Иезуи-товой, В. А. Грехнева, С.А. Кибальника, М. Ф. Мурьянова, О. А. Проскурина, Т. Г. Мальчуковой, В. И. Глухова и многих других.
В зависимости от особенностей анализа мы использовали разные методы исследования — от биографического и текстологического до историко-литературного и структурно-типологического.
Основные идеи исследования прошли апробацию на внутриву-зовских, межвузовских, региональных, всероссийских и междуна-^ родных конференциях (Тбилиси (1986), Новосибирск (1986), Владивосток (1988, 1990, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004), Ленинград (1988), Санкт-Петербург (1998, 2002), Ставрополь (1990), Харьков (1998)).
Основное содержание работы отражено в 18 тезисах, 22 статьях и пяти монографиях.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Отрывки из писем, мыслей и замечаний (Северные цветы, 1828) // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т.— М.; Л., 1950—1951.— Т. VII. С. 53. В дальнейшем, за исключением особо оговоренных случаев, тексты Пушкина цитируются по этому изданию с указанием тома и страниц прямо в тексте работы.
2. Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка.— СПб., 1999.— С. 71 (первая публикация — Вена, 1992).
3. Киреевский И. В. Избранные статьи.— М., 1984.— С. 32 (курсив мой — А. И.).
4. Там же, с. 37.
5. Белинский В. Г. Собр. соч. В 9 т. Т. 6.— М., 1981.— С. 288.
6. Писарев Д. И. Литературно-критические статьи.— М., 1939.— С. 475.
7. Меньшиков М. О. Клевета обожания // Книжки недели. 1899. Октябрь. С. 185—186.
8. Мережковский Д. С. Пушкин // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX в.— М., 1990.— С. 126.
9. Гершензон М. О. Мудрость Пушкина // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX в.— М., 1990.—С. 213.
10. Франк С. Религиозность Пушкина // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX в.— М., 1990.— С. 390.
11. Франк С. О задачах познания Пушкина // Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — первая половина XX в.— М., 1990.—С. 443.
12. Там же, с. 445.
13. Там же, с. 446.
14. Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино.— М., 1977.— С. 52—77.
15. Бахтин М. М. К философии поступка (1920—1924) // Бахтин М. М. Работы 1920-х годов.— Киев, 1994.— С. 61—62.
16. Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы» // Виноградов В. В. О языке художественной прозы.— М., 1980.— С. 176—239. Впервые работа опубликована в 1936 году.
17. Лотман Ю. М. Своеобразие художественного построения «Евгения Онегина» // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь.— М., 1988.— С. 48—49. См. о подобной трактовке реализма: Барт Р. Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика.— М., 1989.— С. 392— 400.
18. Палиевский П. В. Пушкин как классическая мера русского стилевого развития // Теория литературных стилей. Типология стилевого развития Нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле.— М., 1976.— С. 109.
19. Тамарченко Н. Д. Целостность как проблема этики и формы в произведениях русской литературы XIX века.— Кемерово, 1977.—С. 16.
20. Там же, с. 17.
21. Там же, с. 12.
22. Там же, с. 25.
23. Бройтман С. Н. Проблема диалога в русской лирике первой половины XIX века.— Махачкала, 1983.— С. 67.
24. Манн Ю. В. Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма.— М., 1969.— С. 246—270; Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века.— Л., 1982.— С. 64—97.
25. См., например, Гурвич И. А. О развитии художественного мышления в русской литературе (конец XVIII — первая половина
XIX В.).—Ташкент, 1987.— 119 с.
26. См., например, Вайман С. Т. Бальзаковский парадокс.— М., 1981.—С. 4—76.
27. Сандлер Ст. Далекие радости. Александр Пушкин и творчество изгнания.—СПб., 1999.—С. 11.
28. Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка.— СПб., 1999.— С. 254.
29. Удодов Б. Т. Пушкин: художественная антропология // Вече: Альманах русской философии и культуры. Вып. 5. Январь-март 1996.—СПб., 1996.—С. 102-244.
30. Иезуитов А. Н. Пушкин и «философия взаимодействия» // Пушкин и современная культура.— М., 1996.— С. 105.
31. Роднянская И. Б. Поэтическая афористика Пушкина и идеологические понятия наших дней // Пушкин и современная культура.— М., 1996.—С. 108.
32. Портнова Н. Тип художественной многозначности лирического стиля А. С. Пушкина // Пушкинский сборник. Вып. 1.— Иерусалим, 1997.—С. 32—33.
33. Мальчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в поэзии А. С. Пушкина. Кн. 1.—Петрозаводск, 1997 —С. 134—136.
34. Глухов В. И. Лирика Пушкина в ее развитии.— Иваново, 1998.— С. 12—13.
35. Давыдов А. П. «Духовной жаждою томим»: А. С. Пушкин и становление «срединной» культуры в России.— Новосибирск, 2001. — С. 82, 93. Ср. противоположное и нам более приемлимое мнение: «Творчество вполне принимает и блюдет евангельскую заповедь — не любить „мира", ни того, что в „мире". Творящий чувствует себя не от „мира сего". В творческом акте человек выходит из „мира сего" и переходит в мир иной. В творческом акте не устраивается „мир сей", а созидается мир иной, подлинный космос». Бердяев H.A. Смысл творчества // Бердяев H.A. Философия свободы. Смысл творчества.— М.: Правда, 1989.— С. 384.
36. Шмид В. Парадоксальность Пушкина // Парадоксы русской литературы. Петербургский сборник. Вып. 3.— СПб., 2001.— С. 132— 157.
37. См.: Палиевский П. В. Художественное произведение // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие.— М.: Наука, 1965. — С. 422—442; Гиршман М. М. Стиль литературного произведения // Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения.—М.: Наука, 1982.—С. 257—300.
38. Асмус В. Ф. Немецкая эстетика XVIII века.— М., 1963.— С. 28.
39. Шеллинг Ф. В. Философия искусства.— М., 1966.— С. 88.
40. См.: Якоб Л. Г. Начертание эстетики, или науки вкуса // Русские эстетические трактаты первой половины XIX века. В 2-х т. Т. 2.— М.: Искусство, 1974.—С. 81—145.
41. Галич А. И. Опыт науки изящного // Русские эстетические трактаты первой половины XIX века. В 2-х т. Т. 2.— М.: Искусство, 1974.—С. 216.
42. Гиршман М. М. Литературное произведение. Теория и практика анализа.— М.: Высшая школа, 1991.— С. 25—26.
43. Вартазарян С. Р. Логико-гносеологический анализ исходных понятий семиотики и их применения в исследовании поэзии (Языковой знак и словесный художественный образ): Автореф. канд. дисс.— Ереван, 1971.— С. 19. Ср.: Ольховников Д. Б. Предметное и символическое в метафорическом типе поэтического мышления // Текст как объект лингвистического анализа и перевода.— М., 1984.—С. 89.
Часть первая
ПОЭТИКА ПРОТИВОРЕЧИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XVIII —НАЧАЛА XIX ВЕКА
Заключение научной работыдиссертация на тему "Поэтика противоречия в творчестве А.С. Пушкина и русская литература конца XVIII - начала XIX века"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, наше исследование поэтики противоречия в творчестве русских писателей — Державина, Карамзина, Жуковского, Крылова — показало, что становление художественности русской литературы в той или иной мере оказалось связано с осмыслением и реализацией этой категории в художественном мире каждого из них.
Своеобразие художественности Державина определялось мерой поэтической условности, которая базируется на аллегорической основе. Это выражается в том, что аллегорическая конфигурация определяет как своеобразие поэтической образности, характерные осо-•й бенности стиля и композиции текста. Державин в основу важнейшего парадокса своего творчества положил контраст — пожалуй, самый действенный способ произвести неизбежный эмоциональный эффект. Державинское преобразование прежних риторических приемов, создание на этой обновленной системе риторики целостной поэтической картины мира — таков вклад Державина в становление художественности.
Карамзин, как мы помним, создает целостную эстетику и философию «противоречия», связывая её с представлением о поэте, ху-# дожнике, с концепцией воображения, внутреннего мира человека, вселенной' и, наконец, с концепцией поэзии и поэтического слова. Большинство его размышлений окрашены в тона субъективного сенсуалистического идеализма, вследствие чего многие из вышеперечисленных концепций могут заключать прямопротивоположные смыслы. Его усилием в русской поэзии стал складываться особый тип отношения к действительности — через призму эстетических категорий; особое переживание воображаемого мира, который мыслится одновременно и как более значительный, чем мир реальный, и как иллюзорный и обманный. Можно сказать, что Карамзин создал новую риторическую традицию, оказавшись, вместе с Державиным, «отцом» предромантизма. Не случайно Карамзин стал главой целой литературной школы, ярчайшими представителями которой явились К. Н. Батюшков и В. А. Жуковский.
Батюшков разрабатывает карамзинскую идею воображаемого мира мечты, поэзии, поэтического гения, придавая им завершенный концептуальный характер. Он внес свой значительный вклад в проблему эстетизации действительности, создав условный образ лирического героя в поэзии. Батюшковская поэтика устанавливает иную конфигурацию поэтической условности — метонимическую, что придает форме образов Батюшкова предметно-рельефную характерность, но значения его образов связаны с воображаемым идеальным миром мечты. Это противоречие ляжет в основу батюшковской эстетики и поэтики, придавшей в итоге его романтизму своеобразно-идивидуальный характер.
По иному развивает традицию Карамзина В. А. Жуковский. У Жуковского мир действительности и мир воображения конкретизировались в противопоставление «здесь»—«там», «земное»—«небесное», что разделило его художественный мир на две гетерогенные # сущности, а поэт предстал в виде медиума, которому только в редкие моменты приоткрывается завеса, отделяющая мир земной от мира небесного. Поэтому он и окружающую его действительность может увидеть иначе, чем обычные люди,— в свете бессмертия горнего и тленности дольнего. Попытка изобразить абсолютное привела Жуковского к созданию особого рода символики, покоящейся на метафорическом принципе, характеризующем его романтическую эстетику и поэтику.
Иная картина представлена басенным творчеством И. А. Крылова. Поэтика противоречия не только коренным образом преобразовала основные традиционные константы басенного жанра, но и изменила меру художественности: идейно-художественный мир Крылова соотносим не столько с риторической традицией, сколько с реальной действительностью, которую Крылов оценивает с точки зрения здравого смысла и традиционного житейского опыта.
Русская литература прошла путь от того исторического рубежа, когда литературный текст создается и прочитывается на фоне риторических традиций, до возникновения текстов, которые создаются и прочитываются на фоне разрушения прежних риторических традиций, создавая эффект выхода за пределы литературности в сферу Ф внелитературной действительности. Именно в это время появляется
Пушкин.
Обращение к особенностям личности поэта, зафиксированным его современниками, заставляет думать, что сама его личность являла собой противоречивую, контрастную натуру, способную к артистической игре. Не случайно самые первые дошедшие до нас литературные опыты Пушкина связаны с ирои-комической традицией, которая создает заведомо двупланные тексты в подчеркнуто условно-игровой манере. Интерес к такого рода литературной традиции и соответст-# вующей ей поэтике был поддержан и коллективным творчеством лицейских товарищей Пушкина. Анализ лицейской лирики дает возможность заключить, что основные характерные особенности поэтики противоречия воспроизводятся Пушкиным с удивительной точностью. Но парадокс заключается в том, что уже первые пушкинские тексты строятся не только на точном воспроизведении традиции, не только на разрушении традиции, но и на одновременном утверждении новых поэтических принципов, что позволило Пушкину сразу занять совершенно особое место в отношении к современной ему поэзии — он с блеском воспроизводит в пределах одного текста основные особенности поэтики разных авторов, часто прямопротивопо-ложных друг другу и, одновременно, на этом фоне созидает свою оригинальную поэтику.
Такой способ мышления нашел свое объяснение в философии И. Канта, с которой Пушкин знакомится в Лицее. В результате анти-номичность находит свое метафизическое обоснование. С Кантом связывает Пушкин и концепцию гения-парадоксалиста.
В результате в художественном сознании Пушкина возникает такая картина мира и такой способ её изображения, в основе которых лежит идея противоречия. Поэтика противоречия проникает во все сферы формосодержания. При этом изменяется стратегия текста — он целенаправленно создается таким образом, что может породить диаметрально противоположные читательские интерпретации. Таким образом, текст свои формальные категории преобразует в содержательные, придавая поэтике онтологический характер1.
Одна из основных оппозиций творчества Пушкина, которая оказалась в центре внимания исследования — взаимодействие внутреннего мира человека и окружающей его действительности. В элегии «К морю» эта оппозиция нейтрализуется идеей внутренней свободы, способной противостоять внешней несвободе. Причем это решение соотнесено с национальной духовной традицией, которая станет предметом особого внимания в трагедии «Борис Годунов».
Работа со средневековым русским историческим материалом приводит Пушкина к осмыслению христианской традиции как фактору, определившему национальную характерность русского народа, а с другой стороны — к осмыслению особого места Библии в духовной культуре человечества. Пушкин находит разнообразные формы и идеи, которые черпает из библейско-христианского источника.
На протяжении творческого развития Пушкина менялись способы трансляции библейских книг, темы, которые привлекали внимание
Пушкина. К концу 1820-х — началу 1830-х годов отношение к библейской традиции можно описать так: это, с одной стороны, источник высшей, абсолютной истины, которая очень опосредовано реализуется в мире действительном, а с другой — морально-нравственная, духовная библейско-христианская доктрина осознается как универсальная, т. е. не изменяющая своего смысла и значения в зависимости от времени и места. Поэтому во многих текстах Пушкина библейский контекст становится неотличим от авторского слова, сливаясь с лирическим голосом поэта. Как отмечает И. Сурат, «.мир Библии, ее сюжеты и образы активно присутствуют в текстах Пушкина не как заимствуемый и используемый художественный материал, а как составляющая личного опыта. Священная история, от книг Бытия до Апокалипсиса, воспринималась и переживалась им как духовная реальность, не локализованная во времени и пространстве, как вечная реальность существования человека на земле. Свой личный опыт он осмыслял через библейские события, на фоне тысячелетнего опыта человечества, каким он дан в Священном Писании»2.
Картина мира, возникающая в художественном сознании Пушкиф на, постепенно приобретает противоречиво-драматический, даже трагический характер (что, кстати сказать, аналогично известным аспектам библейско-христианской традиции). Именно поэтому актуальной становится тема счастья, которая трактуется как уникальное совпадение между внутренними устремлениями личности и возможностью реализовать их в окружающем мире. Пушкин считает, что «.несчастье хорошая школа: может быть. Но счастие есть лучший университет» (X, 466). Счастье — это университет, т. е. высшая школа жизни, а несчастье — школа, так сказать, средняя, потому что человек, однажды переживший состояние счастия, навсегда примиряется со всеми несовершенствами мира. Но подобного рода случай — редкость, почти чудо. А если судьба не подарит такой случай?! Тогда только внутренний мир личности может противостоять «вечным про-тивуречиям действительности», преображая «несовершенство бытия» в парадоксальную гармонию, которую О. В. Астафьева определяет как трагическую3.
Ярчайшее проявление такого свойства личности явлено в художнике, поэте, способном воспринимать высшую гармонию мира, прорываясь к ней через диссонансы жизни действительной. Это свойство художника дает ему возможность обрести специфической формы гармонию, природа которой все же носит напряженно-катастрофический характер. Искусство, поэзия оказываются формой сопротивления трагической действительности. Все это явилось основанием для формирования особого взгляда на мир, который осознается как противоречиво-дисгармонический, но просветленный духовным смыслом4.
Особенности этой новой реалистической эстетики и поэтики воплотились в стихотворении «Осень» (отрывок).
Выход Пушкина к философским проблемам бытия с неизбежностью приводил его к созданию особого типа философской лирики.
Обобщенно-философский уровень художественного мышления Пушкина сказался и на поиске новых жанровых форм, способных воплотить это новое масштабное содержание.
Мы остановились на проблеме «каменноостровского» цикла — лирических стихотворений, написанных летом 1836 года на Каменном острове — как на самостоятельном художественном целом, объединенном внешне по принципу противоречия, но мы пытались осознать его неочевидную внутреннюю, глубинную гармонию.
Все вышесказанное позволяет не только по-новому осознать смысл пушкинских произведений, их поэтику, но и проникнуть в специфику художественного мышления поэта; понять место Пушкина в эволюции не только русской, но и мировой художественно-эстетической мысли.
Список научной литературыИльичев, Алексей Викторович, диссертация по теме "Русская литература"
1. Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения: Сб. ст.— М., 1976.— С. 17—64.
2. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / Отв. ред. М. Л. Гаспаров.— М.: Наука, 1977 — 320 с.
3. Автомонов Я. Символика растений в великорусских песнях // Журнал Министерства народного просвещения. Ноябрь. 1902.— С. 90—115.
4. Адрианова-Перетц В. 77. Очерки поэтического стиля Древней Руси.— М.; Л.: АН СССР, 1947.— 188 с.
5. Азадовский М. К. Литература и фольклор: Очерки и этюды.— Л.: Художественная литература, 1938.— 295 с.
6. Азадовский М. К. История русской фольклористики: В 2 т. Т. 1.— М.: Гос. Учеб.—пед. изд-во Мин. просвещ. РСФСР, 1958.— 450 с.
7. Аксаков К. С, Аксаков И. С. Литературная критика / Сост., вступит. статья и коммент. А. С. Курилова.— М.: Современник, 1981.—383 с.
8. Алексеев М. 77. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX в.— М, 1964.— 161 с.
9. Алексеев М. 77. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг.»: Проблемы его изучения.— Л.: Наука, 1967.— 272 с.
10. Алексеев М. 77. Пушкин и мировая литература / Отв. ред. Г. П. Макогоненко, С. А. Фомичев.— Л.: Наука, 1987.— 616 с.
11. Алыпшуллер М. Г. С. С. Бобров и русская поэзия XVIII— начала XIX векаИ XVIII век. Сб. 6.— М.;Л.: Наука, 1964.— С. 224—246.
12. Андреев И. М. Пушкин (основные особенности личности и творчества гениального поэта) //А. С. Пушкин: путь к православию.— М.: Отчий дом, 1996.— С. 7- 63.
13. Аничкова Е. А. Опыт критического разбора происхождения пушкинской сказки о царе Салтане // Язык и литература. Т. 2. Вып. 2.—Д., 1927.—С. 92—139.
14. Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина / Общ. ред. и всуп. ст. Г. М. Фридлендера; Подгот. текста и коммент. А. А. Карпова.— М.: Современник, 1984.— 476 с.
15. Анненков П. В. Пушкин в Александровскую эпоху / Сост. А. И. Гарусов.— Минск: Лимапиус, 1998.— 360 с.
16. Античная лирика / Вступ. ст. С. Шервинского; Состав, и прим. С. Апта, Ю. Шульца.— М.: Художественная литература, 1968.— 624 с.
17. Античная литература. Греция: Антология: В 2-х ч. Ч. 1. / Сост. Н. А. Федоров, В. И. Мирошенкова.— М.: Высшая школа, 1989. — 512 с.
18. Арзамас: Сборник. В 2-х кн.— М.: Художественная литература, 1994.
19. Афанасьев А. Н. Древо жизни.— М.: Современник, 1982.
20. Ахматова А. А. Сочинения: В 2-х т. / Вступ. ст. М. Дудина; Состав., подгот. текста и комментарий В. Черных.— М.: Художественная литература, 1986.
21. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова / 2-е изд.— М., 1960.— 620 с.
22. Бабко В. А. Символические образы в идейно-художественной системе стихотворений поэтов русского романтизма (В. А. Жуковский, Е. А. Бартынский) / Автореф. дис. . канд. филол. наук.— Тбилиси, 1973.— 26 с.
23. Багно В. Е. К литературным источникам «Дубровского» (драма Кальдерона «Поклонение Кресту») // Временник Пушкинской комиссии, 1979.—Л.: Наука, 1982.—С. 124—131.
24. Баевский В. С. Тематическая композиция «Евгения Онегина» (природа и функции тематических повторов) // Пушкин. Исследования и материалы: Сб. научн. тр. Т. XIII./ АН СССР.— Л.: Наука, 1989.— С. 33—44.
25. Баевский В. С. Темы разобщенности, одиночества, забвения и памяти в «Евгении Онегине» // Пушкин: проблемы поэтики: Сб. научн. тр. / Твер. гос. ун-т.— Тверь, 1992.— С. 42—58.
26. Баженова А. А. Русская эстетическая мысль и современность.— М.: Знание, 1980.—144 с.
27. Базанов В. Г. Поэты-декабристы: К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, А. И. Одоевский.— М.; Л.: АН СССР, 1950 — 220 с.
28. Балашов Н., Михайлов А., Хлодовский Р. Эпоха Возрождения и новелла // Европейская новелла Возрождения.— М.: Художественная литература, 1974.— С. 5—30.
29. Балашова И. А. Романтическая мифология А. С. Пушкина // Ав-тореф. дисс. . докт. филол. наук.— Великий Новгород, 2000.— 55 с.
30. Баратынский Е. А. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подготовка текста и примеч. Л. А. Озерова. Изд. 3-е.— Л.: Советский писаель, 1958.— 372 с.
31. Бароти Т. Мотивы смерти и сочетания «двух миров» в русской романтической лирике и в маленькой трагедии Пушкина «Пир во время чумы» // От Пушкина до Белого: Проблемы поэтики русского реализма XIX— начала XX века.— СПб., 1992.— С. 5—24.
32. Барская Н. А. Образы Христа // Барская Н. А. Сюжеты и образыв древнерусской живописи.— М., 1993.— С. 16—28.
33. Барт Р. Текстовый анализ // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 9.—М.: Прогресс, 1980.— С. 307—312.
34. Бартеньев 77. И. О Пушкине. Страницы жизни поэта. Воспоминания современников / Состав., автор вступ. ст. и прим.
35. A. М. Гордин.— М.: Советская Россия, 1992.— 464 с.
36. Батюшков К. 77. Сочинения: В 2-х т.— М.: Художественная ли-тертура, 1989.
37. Бахмутский В. Я. На рубеже двух веков // Спор о «древних» и «новых» / Сост., вступит, статья В. Я. Бахмутского; Комментарий В. Я. Бахмутского и Н. В. Наумова; Пер. с фр. Н. В. Наумова.— М.: Искусство, 1985.— 472 с.
38. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет.— М.: Художественная литература, 1975.— 504 с.
39. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества.— М.: Наука, 1979.—424 с.
40. Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. / Ред. кол. Н. К. Гей,
41. B. И. Кулешов и др.— М.: Художественная литература, 1976— 1982.
42. БелозероваЛ. Секреты «девушки с кувшином»: версии любознательного читателя // Нева, 1998. № 8.— С. 218—220.
43. Белый А. Ритм как диалектика и «Медный всадник»: Исследование.— М.: Федерация, 1929.— 280 с.
44. Березкина С. В. «Пророк» Пушкина: современные проблемы изучения // Русская литература. 1999. № 2.— С. 27—42.
45. Берков 77. 77. Пушкин и итальянская культура // Берков П. Н. Проблемы исторического развития литератур: Статьи.— JL: Художественная литература, 1981.— С. 327—368.
46. Берковский 77. Я. Эстетические позиции немецкого романтизма //
47. Литературная теория немецкого романтизма: Документы / Под ред., со вступ. ст. и коммент. Н. Я. Берковского.— Л.: 1934.— С. 5—118.
48. Берковский Н. Я. О русской литературе: Сб. статей / Состав., подготовка текста Е Лопыревой; Предисловие Г. Фридленде-ра.— Л.: Художественная литература, 1985.— 384 с.
49. Бестужев-Марлинский А. А. Собрание сочинений: В 2-х т. Т. 2. / Сост., подготовка текста, вступит, статья, коммент. В. И. Кулешова.— М.: Художественная литература, 1981.— 592 с.
50. Бетеа Д. Воплощение метафоры: Пушкин, жизнь поэта / Пер. с анг. Неклюдовой М. С.— М.: ОГИ, 2003.— 256 с.
51. Битов А. Статьи из романа.— М.: Советский писатель, 1986.—320 с.
52. Бицилли П. Этюды о русской поэзии: Эволюция русского стиха. Поэзия Пушкина. Место Лермонтова в истории русской поэзии.— Прага: Пламя, 1926.— 285 с.
53. Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1813—1826).— М.; Л.: АН СССР, 1950.—580 с.
54. Благой Д. Д. Трагедия и ее разрешение: Об одном цикле лирики Пушкина второй половины 20-х годов // Благой Д. Д. Литератураи действительность: Вопросы теории и истории литературы.—
55. М.: Художественная литература, 1959.— С. 301—334.
56. Благой Д. Д. От Кантемира до наших дней / Изд. 2-е.— В 2-х т. Т. 2.— М.: Художественная литература, 1979.— 511 с.
57. БлокА. А. О назначении поэта // Блок А. А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 6.— М.; Л.: ГИХЛ, 1962.— С. 160—168.
58. Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства.— М., 1971.—С. 384—385.
59. Бонди С. М. Новые страницы Пушкина: Стихи. Проза. Письма.—1. М: Мир, 1931.—208 с.
60. Бонды С. М. Комментарии к сказкам Пушкина // Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10 т. Т. 3.— М.: Художественная литература, i960.— С. 526—527.
61. Бонды С. М. Из «последней тетради» Пушкина // Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов: История создания и идейно-художественная проблематика.— Л.: Наука, 1974.— С. 377—397.
62. Ботвынник Н. М. «Зачем крутится ветр в овраге.» (Библейский источник пушкинского текста) // Крымская научная конференция «Пушкин и Крым». Тезисы докладов.— Симферополь, 1989.—С. 106—107.
63. Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина: Очерки.— М.: Наука, 1974.— 208 с.
64. Бочаров С. Г. О художественных мирах: Сервантес, Пушкин, Баратынский, Гоголь, Достоевский, Толстой, Платонов.— М.: Советская Россия, 1985.— 296 с.
65. Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы.— М.: Языки русской культуры, 1999.— 632 с.
66. Бочкарев В. А. Трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов» и отечественная литературная традиция // Болдинские чтения.— Горький, 1988. С. А—13.
67. Бочкарев В. А. Трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов» и отечественная литературная традиция: Учеб. пособие для студентов.— Самара, Изд-во Сам. ГПИ, 1993.— 101 с.
68. Брагынская Н. В. Экфразис как тип текста (к проблеме структурной классификации) // Славянское и балканское языкознание.— М.: Наука, 1977.—С. 259—283.
69. Бродский Н. Л. «Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина: Пособие для учителя / Изд. 5-е.— М.: Просвещение, 1964.— 415 с.
70. Бройтман С. Н. Русская лирика XIX — начала XX века в свете исторической поэтики: Субъектно-образная структура.— М., 1997.—307 с.
71. Бруин Корнелий де. Путешествие через Московию / Пер. с фр. П. П. Барсова, пров. по голланд. подлиннику С. С. Бодянским.— М., 1873.—311 с.
72. Брюсов В. Я. Мой Пушкин: Статьи, исследования, наблюдения / Под ред. Н. К. Пиксанова.— М.; Л.: Госиздат, 1928.— 319 с.
73. Брюсов В. Я. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 7.: Статьи о Пушкине, Статьи об армянской литературе, «Учителя учителей» / Под общ. ред. П. Г. Антакольского, А. С. Мясникова и др.— М.: Художественная литература, 1975.— 528 с.
74. Буало Н. Поэтическое искусство / Перевод Э. Л. Линецкой; ред. А. А. Смирнова; вступ. ст. и коммент. Н. А. Сигал.— М., ГИХЛ, 1957.—302 с.
75. Булаховский А. Русский литературный язык первой половины XIX века: В 2 т. Т. 1. Лексика и общие замечания о слоге.— Киев: Радянська школа, 1941.— 452 с.
76. Булгаков А. Я. Из писем А. Я. Булгакова к его брату // Русский архив. Т. 1.—М., 1902.—С. 42—157.
77. Булгарин Ф. В. Второе письмо из Карлова на Каменный остров // Северная пчела. 1830. 7 августа.— С. 1-4.
78. Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы / Изд. 2.—Л., 1967.—312 с.
79. Буслаев Ф. И. О народной поэзии в древнерусской литеатуре // Буслаев Ф. И. Сочинения: В 3 т. Т. 2.— СПб.: Издание Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1910.—С. 1—63.
80. Бычков В. В. К вопросу о древнерусской эстетике (методологические заметки) // Проблемы изучения культурного наследия.— М.; Наука, 1985.—С. 303—311.
81. Вагнер Г. К. О народных основах калокагатийности в древнерусском искусстве //Советское искусствознание, 1979. Вып. 2.— М., 1980.—С. 99—121.
82. Вальденберг В. Природа и Закон в политических воззрениях Пушкина // Slavia. Casopis pro slovanskoi filologii. 1925—1926. Rocnik IV. Sesit 1.— S. 63-81.
83. Василенко В. M. Русская народная резьба и роспись по дереву.— М.: МГУ, I960.—181 с.
84. Васильев Б. А. Духовный путь Пушкина (Катакомбы XX века).— М.: Sam & Sam, 1954.— 360 с.
85. Вацуро В. Э. Литературно-философская проблематика повести Карамзина «Остров Борнгольм» // XVIII век. Сб. 8.— Л.: Наука, 1969.—С. 190—209.
86. Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. Т. 1.— М.: Художественная литература, 1974.— С. 5—40.
87. Вацуро В. Э. «К вельможе» // Стихотворения Пушкина 1820— 1830-х годов: История создания и идейно-художественная проблематика.—Л.: Наука, 1974 —С. 177—212.
88. Вацуро В. Э. Г. П. Каменев и готическая литература // XVIII век. Сб. 10.—Л.: Наука, 1975.—С. 272—275.
89. Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. Элегическая школа / Отв. ред. С. А. Фомичев.— СПб.: Наука, 1994.— 240 с.
90. Вацуро В. Э. Примечания к текстам стихотворений // Пушкин А. С. Стихотворения лицейских лет. 1813—1817.— Спб.: Наука, 1994.—С. 511—690.
91. Венгерок С. А. К. Н. Батюшков // История русской литературы
92. XIX века / Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. В 5 т. Т. 1.— М.: Мир, 1908.—С. 146—156.
93. Вересаев В. В. В двух планах: Статьи о Пушкине.— М., 1929.— 163 с.
94. Вересаев В. В. Пушкин в жизни // Вересаев В. В. Сочинения: В 4-х т.— М.: Правда, 1990.— Т. 2—3.
95. Вересаев В. В. Загадочный Пушкин / Сост. и комментарии Ю. Фохт-Бабушкина.— М.: Республика, 1996.— 399 с.
96. Верховский Н. П. Батюшков // История русской литературы: В Ют. Т. 5.—М.; Л., 1941.—С. 392—417.
97. Веселовский А. Н. Опыты из истории развития христианской ле-# генды // Журнал министерства народного просвещения. СПб.1875. Часть CIXXVIII.— С. 283—331.; Часть CIXXXIII.— С. 241—288.; Часть CIXXXIX.— С. 186—252.; Часть CXCI.— С. 76—125.
98. Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. Части XV—XVII. Вып. 5.— СПб., 1889.— 482 с.
99. Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения.— Петроград: Научное дело, 1918.— 550 с.
100. Веселовский А. Н. Из поэтики розы // Веселовский А. Н. Избранив ные статьи / Под общ. ред. М. П. Алексеева, В. А. Десницкого идр.; Вступ. статья В. М. Жирмунского; Коммент. М. П. Алексеева.— Л.: Художественная литература, 1939.— С. 132—139.
101. Веселовский А. Н. Историческая поэтика.— Л., 1940.— 560 с.
102. Виану Ту дор. Исследования по эстетике / Пер. с румынск. Е. Ло-гиновской, Н. Николаевой.— Бухарест: Универс, 1972.— 238 с.
103. Винкелъман И. И. История искусства древности.— М., 1933.— 340 с.
104. Винников И. Н. Легенда о призвании Мухаммада в свете этнографии // Сергею Федоровичу Ольдеибургу к пятидесятилетию научно-общественной деятельности. 1882—1932.— JL, 1934.— С. 124—146.
105. Виноградов В. В. Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка.— М.: Academia, 1935.— 454 с.
106. Виноградов В. В. Стиль Пушкина.—М.: Наука, 1999.— 704 с.
107. Винокур Г. О. Наследство XVIII века в стихотворном языке Пушкина // Пушкин — родоначальник новой русской литературы: Сб. научно-исслед. работ.— М.; Л.: АН СССР, 1941.— С. 493—541.
108. Волохонская Т. П. «Гений, парадоксов друг» // Христианская культура: пушкинская эпоха: По материалам традиционных христианских пушкинских чтений / Ред. и состав. Э. С. Лебедева. Вып. XXII.— СПб., 2000.— С. 23—31.
109. Вольпе Ц. С. Вступительная статья // Жуковский В. А. Стихотворения. В 2-х т. Т. 1.— Л., 1939.— С. I—XLVIII.
110. Вольпе Ц. С. Жуковский // История русской литературы: В 10-ти т. Т. 5.—М.; Л., 1941.—С. 355—391.
111. Выборки из писем Екатерины Евгеньевны Кашкиной и П. А. Осиповой // Пушкин и его современники. Материалы и исследования. № 1.—СПб., 1903.—С. 65—72.
112. Выготский JI. С. Психология искусства / Общая ред. Вяч. Вс. Иванова; Вступит, ст. А. Н. Леонтьева.— М.: Искусство, 1965.— 392 с.
113. Вяземский П. А. К кн. Шаховской при посылке стихотворений Жуковского // Сын Отечества. Спб, 1816. Ч. 29.— С. 108.
114. Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848) / Изд. подгот. В. С. Нечаева.— М.: АН СССР, 1963.— 507 с.
115. Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика /Сост., вступ.статья и коммент. JI. В. Дерюгиной.— М.: Искусство, 1984.— 458 с.
116. Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма.— М., 1978.— 200 с.
117. Галахов А. Д. Полная русская хрестоматия / Изд. 2-е.— М., 1845.
118. Гаспаров М. Я. Строфика нестрофического ямба в русской поэзии XIX века // Проблемы стиховедения.— Ереван, 1976.— С. 9—40.
119. Гаспаров Б., Паперно И. К описанию мотивной структуры лирики Пушкина // Russian Romanticism Studies in the poetic codes.— Stockholm-Sweden, 1979.—P. 9—44.
120. Гаспаров M. JI. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. / Отв. ред. Л. И. Тимофеев.— М.: Наука, 1984.—319 с.
121. Гей Н. К. Проза Пушкина: поэтика повествования / Отв. ред. С. Г. Бочаров.— М.: Наука, 1989,— 270 с.
122. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / Отв. ред. А. В. Гулыга; Пер. и прим. А. В. Михайлова.— М.: Наука, 1977.—704 с.
123. Германович А. И. Опыт анализа языка, стиля и поэтики стихотворения А. С. Пушкина «Зимняя дорога» // Русский язык в школе. 1970. №3.—С. 10—15.
124. Герцен А. И. Франция или Англия: (Рус. вариации на тему 14 декабря 1858 г.) // Герцен A.M. Собрание сочинений: В 30 т. Т. XIII.— М.: АН СССР, 1956.— С. 228—253.
125. Гершензон М. О. Мудрость Пушкина.— М., 1919.— 230 с.
126. Гершензон М. О. Статьи о Пушкине —М.: ГАХН, 1926.— 124 с.
127. Гершензон М. О. Гольфстрим // Гершензон М. О. Избранное. Т. 1. Мудрость Пушкина.— Москва-Иерусалим: Университетекая книга, 2000 — 592 с.
128. Гижицкий А. В. В. А. Жуковский и ранние немецкие романтики // Русская литература. 1979. № 1.— С. 120—128.
129. Гинзбург Л. Я. Поздняя лирика Пушкина // Звезда. 1936. № 10.— С. 160—176.
130. Гинзбург Л. Я. Пушкин и лирический герой русского романтизма // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 4.— М.; Д.: Наука, 1962.—С. 140—153.
131. Гинзбург Л. Я. Пушкин и реалистический метод в лирике // Русская литература. 1962. № 1.— С. 27—37.
132. Гинзбург Л. Я. О лирике / Изд. 2-ое., доп.— Л.: Советский писатель, 1974 — 408 с.
133. Гинзбург Л. Я. О старом и новом: Статьи и очерки.— Л.: Советский писатель, 1982.— 424 с.
134. Глинка Ф. И. Избранные произведения / Вступ. ст., подготовка текста и примеч. В. Г. Базанова. Изд. 2-е.— Л.: Советский писатель, 1957.— 502 с.
135. Гоголь Н. В. Собрание сочинений: В 6 т.— М.: Художественная литература, 1959.
136. Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями.— М., 1990.— 432 с.
137. Голосовкер Я. Э. Логика мифа / Послеслов. Н.И.Конрада, Н. В. Брагинской —М.: Наука, 1984.— 217 с.
138. Гораций. Собрание сочинений.— СПб, 1993.— 448 с.
139. Горелов А. Русская народная всеобрядовая песня // Русская народная поэзия. Лирическая поэзия: Сб. / Состав., подгот. текста, предисловие к разделам и коммент. Ал. Горелова.— Л.: Художественная литература, 1984.— С. 6—20.
140. Городецкий Б. П. Лирика Пушкина.— М.; Л.: АН СССР, 1962.—466 с.
141. Городецкий Б. П. Трагедия А. С. Пушкина «Борис Годунов»: Комментарий.— Д., 1969.— 180 с.
142. Городецкий Б. П. Русские лирики: Историко-литературные очерки.—Л.: Наука, 1974.— 158 с.
143. Горький А. М. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 28.— М.: Художественная литература, 1954. — С. 51—52.
144. Гофман М. М. Посмертные стихотворения Пушкина. 1833— 1836.— Пг., 1922.—79 с.
145. Гранин Д. Тридцать ступенек: Повести, эссе.— Л., 1984.— 110 с.
146. Греймас А. Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка // Семиотика.— М.: Радуга, 1983.— С. 483—550.
147. Грехнев В. А. Слово и большой лирический контекст в поэзии пушкинской поры (Жуковский, Тютчев) // Учен. зап. Горьков-ского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Вып. 115. А. С. Пушкин. Статьи и материалы.— Горький, 1971.— С. 3—25.
148. Грехнев В. А. Жанровый объект и лирический субъект в элегиях Пушкина // Болдинские чтения.— Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1982.—С. 106—125.
149. Грехнев В. А. Лирика Пушкина: О поэтике жанров.— Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1985.— 239 с.
150. Грехнев В. А. Пушкин и философия случая // Болдинские чтения.— Нижний Новгород, 1993.— С. 41—48.
151. Грехнев В. А. Мир пушкинской лирики.— Нижний Новгород, 1994.—372 с.
152. Грехнев В. А. Эволюция Онегина как филологический миф // Болдинские чтения.— Нижний Новгород, 1994.— С. 100—110.
153. Греч Н. И. Записки о моей жизни.— СПб.: Изд. A.C. Суворина, 1886.—583 с.
154. Григорьева А. Д. Поэтическая фразеология Пушкина. Общие заключения о поэтической фразеологии предпушкинского времени // Поэтическая фразеология Пушкина.— М.: Наука, 1969.— С. 5—292.
155. Григорьева А. Д. Язык лирики Пушкина 30-х годов. Опыты в антологическом роде // Григорьева А. Д., Некрасова H. Н. Язык лирики XIX века. Пушкин. Некрасов.— М., Наука, 1981.— С. 138—173.
156. Григорьян К. Н. Жуковский и Пушкин (к эволюции русской элегии) // На подступах к романтизму: Сб. научн. трудов.— JL: Наука, 1984.—С. 172—193.
157. Гроссман Л. Пушкин и сен-симонизм // Красная новь. 1936. Кн. 6.—С. 157—168.
158. Грот К. Я. Пушкинский лицей.— СПб, 1998.— 512 с.
159. Губарева Р. В. «Светлана» Жуковского (Из истории русской баллады) // Учен. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Т. 245.—Л., 1963.—С. 195—206.
160. Гукасова А. Г. Болдинский период в творчестве А. С. Пушкина: Книга для учителя / Под ред. Г. Н. Поспелова.— М.: Просвещение, 1973.—304 с.
161. ГуковскийГ. А. Русская поэзия XVIII века.— Л., 1927.— 215 с.
162. Гуковский Г. А. Русская литература XVI11 века.— М.: Гос. учеб-но-пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939.— 526 с.
163. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля.— М.: Художественная литература, 1957.— 416 с
164. ГуковскийГ. А. Русская литературно-критическая мысль в 1730—1750-е годы // XVIII в. Сб. 5.— М; Л.: Наука, 1962.— С. 114—115.
165. Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики.— М.: Художественная литература, 1965.— 356 с.
166. Гуляев Н. А. В. А. Жуковский // Русский романтизм: Учебное пособие.— М.: Высшая школа, 1974.— С. 61—68.
167. Гуляев Н. А. К. Н. Батюшков // Русский романтизм: Учебное пособие.— М.: Высшая школа, 1974.— С. 68—75.
168. Гуменная Г. Л. Пушкин и шутливые поэмы XVIII века (К проблеме «двупланового» повествования) // Болдинские чтения.— Горький, 1982.
169. Гурвич И. А. О развитии художественного мышления в русской литературе: конец XVIII — первая половина XIX века.— Ташкент: Изд-во «ФАН», 1987.— 120 с.
170. Гуревич А. М. О поэтических декларациях Пушкина-реалиста // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1961. №4(16).—С. 23—30.
171. Гуревич А. М. Проблема нравственного идеала в лирике Пушкина // Вопросы литературы. 1969. N 9.— С. 126—143.
172. Гуревич А. М. Тема маленького человека у Пушкина и ее романтический подтекст // Известия АН СССР. Сер. лит. и языка. 1983. Т. 42. № 5.— С. 423— 445.
173. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры / Изд. 2, испр. и доп.— М.: Искусство, 1984.— 350 с.
174. Гуревич Д. Стихотворение А. С. Пушкина «Роза» // Проблемы поэтики. Самарканд, 1980.— С. 21—32.
175. Давыдов А. П. «Духовной жаждою томим»: А. С. Пушкин и становление «срединной» культуры в России.— Новосибирск, 2000.— 244 с.
176. Давыдов О. В. Залог бессмертия: жизнь и творчество Александра Пушкина в свете сценария уничтожения поэта // «А се грехи злые, смертные.»: любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России.— М.: Ладомир, 1999.— С. 639—660.
177. Давыдов С. Последний лирический цикл Пушкина // Русская литература. 1999. № 2.—С. 86—108.
178. Давыдов С. Дыханье девы-розы // Пушкинская конференция в Стэнфорде. 1999. Материалы и исследования.— М., 2001.— С. 183—198.
179. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.— 1956.
180. Дарвин М. Н. Проблема цикла в изучении лирики: Учебное пособие.—Кемерово. Кем. ГУ, 1983 — 104 с.
181. Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина: Опыт изучения поэтики конвергентного сознания.— Новосибирск, 2001.— 294 с.
182. Дельвиг А. А. Сочинения / Изд. 2-е.— Л.; Художественная литература, 1986.— 472 с.
183. Детское чтение для сердца и разума.— М., 1789.— Ч. 18.— С. 3—69; Ч. 19.—С. 165—198.
184. Дмитриев С. С. Славянофилы и славянофильство (из истории русской общественной мысли середины XIX в.) // Историк-марксист. 1941. N 1.—С. 81—115.
185. Днепров В. Д. Идеи времени и формы времени.— Л.: Советский писатель, 1980.— 405 с.181 .Добролюбов Н. А. Александр Сергеевич Пушкин // Добролюбов Н. А. Литературная критика: В 2-х т. Т. 1.— Л., 1974.— С. 38—98.
186. Егоров Б. Ф. Поэзия А. С. Хомякова // Хомяков А. С. Стихотворения и драмы / Изд. 2-е.— Л.: Советский писатель, 1969.— С. 5—56.
187. Еремин И. П. Литература Древней Руси: Этюды и характеристики.— M.; Д., 1966.—304 с.
188. Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы / Отв. ред. Н. С. Демкова. Изд. 2, доп.— Д.: ЛГУ, 1987.— 327 с.
189. Еремин М. Пушкин-публицист / Изд. 2-е, перераб. и доп.— М.: Художественная литература, 1976.— 472 с.
190. Еремина В. И. Повтор как основа построения лирической песни // Исследования по поэтике и стилистике.— Л.: Наука, 1972.— С. 37—65.
191. Жаравина Л. В. Пушкин и Кант (этика Пушкина в философском контексте) // Литература и нравственность: тезисы всесоюзной межвузовской научной конференции. Ставрополь, 1990.— С. 16—18.
192. Живов В. Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII — начала XIX века // Анти-мир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература.— М.: Ладомир, 1996.— С 223— 289.
193. Жирмунский В. М. Религиозное отречение в истории романтизма: Материалы для характеристики Клеменса Брентано и гей-дельбергских романтиков.— М.: Изд. С. И. Сахарова, 1919.— 286 с.
194. Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Избр. труды / Отв. ред. Ю. Д. Левин, Д. С. Лихачев.— Л.: Наука, 1977.—407 с.
195. Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин: Пушкин и западные литературы. Избр. труды. / Отв. ред. М. П. Алексеев, Ю. Д. Левин.— Л.: Наука, 1978.—423 с.
196. Жития русских святых. Учебное пособие: В 6 кн.— М.: Профиз-дат, 1992.
197. Жолковский А. К. Материалы к описанию поэтического мира Пушкина // Russian Romanticism Studies in the poetic codes.— Stockholm-Sweden.— 1979.—P. 45—93.
198. Жуковский В. А. Полное собрание сочинений: В 12-ти т./ Под ред., с биографическим очерком и прим. А. С. Архангельского.— СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902.—Т. 1—12.
199. Жуковский В.А. Собрание сочинений: В 4 т. / Вступ. ст. И. М. Се-менко; Подгот. текста и примечания В. П. Петушкова.— М., Д.: Художественная литература, 1959—1960.
200. Жуковский В. А. Эстетика и критика / Вст. ст. Ф. 3. Кануновой и А. С. Янушкевича; Под. текста, состав, и прим. Ф. 3. Кануновой, О. Б. Лебедевой, А. С. Янушкевича.— М.: Искусство, 1985.— 431 с.
201. Жуковский-критик / Состав., подгот. текста, вступит, статья и коммент. Ю. М. Прозорова.— М.: Советская Россия, 1985.— 320 с.
202. Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 1—2 / Ред. О. Б. Лебедева и А. С. Янушкевич.— М.: Языки русской культуры, 1999—2000.
203. Жуковский и русская культура. Сб. науч. тр. / Под ред. Д. С. Лихачева, Р. В. Иезуитовой, Ф. 3. Кануновой.— Л.: Наука, 1987.— 504 с.
204. Жуковский и литература конца XVIII — начала XIX века / Под ред. В. Ю. Троицкого, Н. И. Балашова, К. Н. Ломунова.— М.: Наука, 1988.—320 с.
205. Журавлева А. И. «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина // Учен, зап. Ленинградского пед. ин-та им. А. И. Герцена. Т. 434. Пушкин и его современники.— Псков, 1970.— С. 90—100.
206. Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Ч. 1.— М., 1862.
207. Замалеев А. Ф. Библейские основы историософии «Повести временных лет» // Замалеев А. Ф. Лепты: Исследования по русской философии.— Сибирь, 1996.— С. 22—26.
208. Замотин И. И. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе. В 2 т. Т. 1 / Изд. 2-е.— СПб.; М.: Изд-во тов-ва М. О. Вольф, 1911.—340 с.
209. Звягинцев В. А. Значение пресуппозиции для анализа поэтического языка // Литературные направления и стили. Сб. ст., по-свящ. 75-летию проф. Г. Н. Поспелова.— М.: МГУ., 1976.— С. 70—90.
210. Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия Жуковского (1783—1852).— СПб.: В тип. М. М. Стасюлевича, 1883.— 257 с.
211. Зелинский В. Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина. Хронологический сборник критико-библиогра-фических статей. Ч. 1—3 / Изд. 3-е.— М., 1902—1907.
212. Зелинский В. Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина. Хронологический сборник критико-библиограф-ических статей. Ч. 4—5 / Изд. 4-е.— М., 1902.
213. Зилитинкевич В. С. Еще об источниках стихотворения А. С. Пушкина «Как с древа сорвался предатель-ученик.» // Проблемы современного пушкиноведения. Межвуз. сб. научн. трудов.— Л., 1981.—С. 87—90.
214. Зись А. Я. Философское мышление и художественное творчество.— М.: Искусство, 1987.— 252 с.
215. Зольгер К.—В.—Ф. Четыре диалога о прекрасном и об искусстве / Пер. с нем. Н. Б. Берковской; Вст. ст. В. П. Шестакова.— М.: Искусство, 1978.— 431 с.
216. Зорин А. Д, Немзер А. С. Парадоксы чувствительности Н «Столетья не сотрут.» Русские классики и их читатели.— М.: Книга, 1989.—С. 7—54.
217. Зубков Н. Н. О системе элегий К. Н. Батюшкова // Науч. докл. высшей школы. Филол. науки. № 5 (125). 1981.— С. 24—28.
218. Зубков Н. Н. Пушкинский лирический цикл 1836 года // Вопросы жанра и стиля в русской и зарубежной литературе.— М.: МГУ., 1979.—С. 11—20.
219. Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР.— М., 1976.
220. Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей.— М., 1974.— 140 с.
221. Иванов В. В., Топоров В. Н. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах // Типологические исследования по фольклору.— М.: Наука, 1975.— С. 38—72.
222. Иванов Вяч. Вс. Темы и стили Востока в поэзии Запада // Восточные мотивы: Стихотворения и поэмы / Отв. ред. П. А. Грин-цер.— М.: Наука, 1985.— С. 424—470.
223. Иванов Вяч. Вс. К исследованию архаизмов в «Памятнике» Пушкина // Лотмановский сборник. Вып. 1.— М., 1995.— С. 415— 419.
224. Иезуитова Р. В. В. А. Жуковский // История русской литературы: В 4-х т. Т. 2.— Л.: Наука, 1982.— С. 104—134.
225. Иезуитова Р. В. Шутливые жанры в поэзии Жуковского и Пушкина 1810-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X.— Л.: Наука, 1982.—С. 22—47.
226. Иезуитова Р. В. Роль поэтических традиций XVIII века в становлении Жуковского-романтика // На путях к романтизму: Сб. научн. трудов —Л.: Наука, 1984.—С. 158—171.
227. Изложение учения Сен-Симона (1828—1829) / Пер. с фр. М. Е. Ландау; Пред. и прим. В. П. Волгина.— М.; Пг.: Гос. издво, 1923.—333 с.
228. Измайлов Н. В. Строфы о Наполеоне и Байроне в стихотворении Пушкина «К морю» // Временник пушкинской комиссии. Т. 6.— Л.: Наука, 1941.—С. 21—29.
229. Измайлов Н. В. Стихотворение Пушкина «Мирская власть» (вновь найденный автограф) // Изв. АН СССР. Отд. лит. и языка. 1954. Ч. XII. Вып. 6.— С. 548—556.
230. Измайлов Н. В. Жуковский // История русской поэзии. В 2-х т. Т. 1.—Л.: Наука, 1968,—С. 237—265.
231. Измайлов Н. В. Из истории русской октавы // Поэтика и стилистика русской литературы: Памяти акад. В. В. Виноградова. Сб. ст.—Л.: Наука, 1971.—С. 102—110.
232. Измайлов Н. В. «Осень» (отрывок) // Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов: История создания и идейно-художественная проблематика.—Л.: Наука, 1974.— С. 222—254.
233. Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина.— Л.: Наука, 1976. — 340 с.
234. Иконологический лексикон, или Руководство к познанию живописного и резного художеств, медалей, эстампов и проч. с описанием, взятым из разных древних и новых стихотворцев / Пер. с фр. Ив. Акимова. 2-е изд.— СПб.: Академия Наук, 1786.— 328 с.
235. Ильин И. Александр Пушкин как человек и характер // А. С. Пушкин. К 200-летию со дня рождения. Статьи. Беседы. Библиография / Отв. ред. Р. А. Гальцева, Т. Г. Юрченко.— М., 1999.— С. 5—32.
236. Исторический вестник. Историко-литературный журнал. Пг., 1883. Декабрь.—С. 535—536.
237. История всемирной литературы: В 9 т. Т. 1—8 / Гл. ред. Г. П. Бе-рдников и др.— М.: Наука, 1983—1994.
238. История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т.— М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1962.
239. Каган М. С. Александр Галич — философ и эстетик пушкинского Петербурга // Из истории русской эстетической мысли.— СПб., 1993.—С. 29—47.
240. Калугин В. В. «Кънигы»: отношение древнерусских писателей к книге // Древнерусская литература: Изображение общества.— М., 1991.—С. 85—117.
241. Каменский 3. А. Русская эстетика первой трети XIX века // Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. В 2-х т. Т. 2 —М.: Искусство, 1974.—С. 25-^И.
242. Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 5 / Под общ. ред В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана.— М.: Мысль, 1966.— 564 с.
243. Кант И. Критика чистого разума.— СПб., 1993.— 294 с.
244. Кантемир А. Д. Собрание стихотворений / Вступ. ст. Ф. Я. Приймы; Подгот. текста и прим. 3. И. Гершковича; Изд. 2-е.— Л.: Советский писатель, 1956.— 546 с.
245. Канунова Ф. 3. Из истории русской повести: историко-литературное значение повестей Н. М. Карамзина.— Томск, 1967.
246. Капнист В. В. Избранные сочинения / Вступ. ст., ред. и примеч. Б. И. Коплана.— Л.: Советский писатель, 1941.— 307 с.
247. Карамзин Н. М. О происхождении Зла, поэма великого Галлера. Пер. с нем. Н. Карамзина.— М., 1786.— 60 с.
248. Карамзин Н. М. История государства Российского: В 3 кн. и 12-ти т./ Изд. 5-е.— СПб.: В тип. Эд. Праца, 1842—1844.
249. Карамзин Н. М, Дмитриев И. И. Избранные стихотворения / Вступ. ст., подготовка текста и примеч. А. Я. Кучерова.— Л.: Советский писатель, 1953.— 524 с.
250. Карамзин Н. М. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст.,подгот. текста и примечания Ю. М. Лотмана / 2-е изд.— М.; Л.: Советский писатель, 1966.— 424 с.
251. Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма / Составл., вступит, статья и коммент. А. Ф. Смирнова.— М.: Современник, 1982.— 351 с.
252. Карамзин Н. М. Письма русского путешественника / Под ред. Ю. М. Лотмана, Н. А. Марченко, Б. А. Успенского.— Л.: Наука, 1984.—718 с.
253. Карамзин Н. М. Сочинения: В 2-х т. / Сост., вступ. ст. Г. П. Ма-когоненко.— Л.: Художественная литература, 1983—1984.
254. Карташева И. В. «Портрет» Н. В. Гоголя и эстетические принципы В. Г. Вакенродера // Научн. докл. высшей школы. Филол. науки. 1984. N 4.— С. 65—73.
255. КашубаМ. В. Георгий Конисский.— М.: Мысль, 1979.— 173 с.
256. Квятковский А. П. Поэтический словарь / Научн. ред. И. Роднян-ская.— М.: Советская энциклопедия, 1966.— 376 с.
257. Кибалъник С. А. О стихотворении «Из Пиндемонти» (Пушкин и Гораций) // Временник пушкинской комиссии, 1979.— Л.: Наука, 1982.—С. 147—156.
258. Кибалъник С. А. Антологические эпиграммы Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 12.— Л.: Наука, 1986.— С. 168—172.
259. Кибалъник С. А. Венок русским каменам // Венок русским каме-нам: антологические стихотворения русских поэтов.— СПб.: Наука, 1993.—С. 3—23.
260. Кибалъник А. С. Смерть у А. С. Пушкина как поэтическая и религиозная тема // Христианство и русская литература.— СПб.: Наука, 1994.—С. 157—184.
261. Кибалъник С. А. Художественная философия Пушкина.— СПб.:1. ДБ, 1998.—200 с.
262. Киреевский И. В. Критикам эстетика.— М.: Искусство, 1979.
263. Киреевский И. В. Избранные статьи.— М.: Современник, 1984.
264. Кихней Л. Г. Из истории жанров русской лирики: стихотворное послание начала XX века.— Владивосток: ДВГУ, 1989.— 162 с.
265. Кичатов Ф. 3. «Философ резвый и пиит.» (к вопросу о влиянии кантианства на формирование философских взглядов А. С. Пушкина) // Кантовский сборник. Вып. 18.— Калининград, 1994.— С. 37—44.
266. Классическая басня / Сост., подготовка текста и примечания М. Л. Гаспарова и И. Ю. Подгаецкой.— М.: Московский рабочий, 1981.—382 с.
267. Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис.— М.: Наука, 1986.— 208 с.
268. Кожевников В. А. О «прелестях кнута» и «подвиге честного человека»: Пушкин и Карамзин // Московский пушкинист: Ежегодник. № 1.—М., 1995.—С. 151—185.
269. Козырева М. Л. Нерукотворный Спас: история первой в мире иконы // Пушкинская эпоха и христианская культура. Вып. 2.— СПб., 1994.—С. 78—82.
270. Кондильяк Э. Б. де. Трактат об ощущениях // Мир философии: Книга для чтения: В 2-х ч. Ч. 1.— М.: Политиздат, 1991.— С. 425—438.
271. Конисский Г. Собрание сочинений: В 2-х ч.— СПб.: Императорская Российская Академия, 1835.
272. Корб И. Г. Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофоровича Гвариента посла императора Леопольда I к царю и великому князю Московскому Петру Первому в 1698 году / Пер. с лат. Б. Женова, М. Семевского.— М., 1867.— 405 с.
273. Корман Б. О. Лирика и реализм.— Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986.—96 с.
274. Косиков Г. К Теофиль Готье, автор «Эмалей и Камей» // Готье Т. Эмали и камеи: Сборник / Сост. Г. К. Косиков.— М.: Радуга, 1989.—С. 5—28.
275. Котляревский Н. Литературные направления Александровской эпохи /Изд. 2-е.— СПб.: В тип. М. М. Стасюлевича, 1913.— 407 с.
276. Кошелев В. А. Творческий путь К. Н. Батюшкова: Учебное пособие по спецкурсу.— Л.: J И'ПИ им. Герцена, 1986.— 143 с.
277. Кошелев В. А. Татьяна Ларина и «русская традиция» // Проблемы современного пушкиноведения.— Псков, 1991.— С. 28—37.
278. Кошелев В. А. Первая книга Пушкина.— Томск: Изд-во «Водолей», 1997.— 224 с.
279. Краснокутский В. С. Из истории литературного объединения «Арзамас» // Филологические науки. 1974. № 4.— С. 102—109.
280. Красухин Г. Г. Четыре пушкинских шедевра.— М.: МГУ, 1996.— 126 с.
281. Крестова JI. Б. Повесть Н. М. Карамзина «Сиерра-Морена» // XVIII век. Сб. 7.— Л.: Наука, 1966.— С. 261—266.
282. Кронеберг И. Я. Афоризмы // Русские эстетические трактаты f* первой четверти XIX века: В 2-х т. Т. 2.— М.: Искусство,1974.—С. 289—294.
283. Крылов И. А. Сочинения / Под наблюд. Н. Л. Степанова. В 2-х т.— М., Правда, 1969.
284. Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII — начала XIX века: Учебн. пособие.— М.: Высшая школа, 1989.—480 с.
285. Кузнецов П. В. Жанр послания в русской лирике 1800 — 1810-х годов // Автореф. дисс. . .канд. филол. наук.— М., 2001.— 20 с.
286. Кулешов В. И. Славянофилы и романтизм // К истории русского романтизма.— М., 1973.—С. 305—344.
287. Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература.— М.: Художественная литература, 1976.— 288 с.
288. Кулиев Г. Г. Метафора и научное познание.— Баку: Элм, 1987.— 156 с.
289. Купреянова Е. К, Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Очерки и характеристики.— JL: Наука, 1976.— 450 с.
290. Кусков В. В. Представление о прекрасном в древнерусской литературе // Проблемы теории и истории литературы. Сб. статей, посвященный памяти профессора А. Н. Соколова.— М.: МГУ, 1971.—С. 58—66.
291. Кусков В. В. История древнерусской литературы / Изд. 3-е, испр. и доп.— М.: Высшая школа, 1977.
292. Кутузов А. М. О приятности грусти // Московское ежемесячное издание. 1781. Часть III.—С. 143—158.
293. Кюхельбекер В. К. Сочинения / Вступ. ст. H. М. Романова; Состав., подгот. текста, коммент. В. Д. Рака, H. М. Романова.— JL: Художественная литература, 1989.— 576 с.
294. Лазутин С. Г. Русские народные песни: Пособие для вузов.— М.: Просвещение, 1965.— 299 с.
295. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. Сб. статей.—М.: Прогресс, 1987.—С. 126—170.
296. Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя. Избр. ст.— JL: Художественная литература, 1974.— 288 с.
297. Лебедев Е. Н. Тризна. Книга о Е. А. Боратынском.— М.: Современник, 1985.— 301 с.
298. Лебедева Э. С. «Пушкин был живой вулкан.»: Облик поэта в восприятии современников // Христианская культура: пушкинская эпоха. Вып. XXII.— СПб., 2000.— С. 12—22.
299. Левин Ю. Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма // От классицизма к романтизму: Из истории международных связей русской литературы.— JL: Наука, 1970.— С. 195—297.
300. Левин Ю. Д. Оссиан в русской литературе.— Л., 1980.
301. Левкович Я. Л. «Вновь я посетил.» // Стихотворения Пушкина 1820-х—1830-х годов: История создания и идейно-худож. проблематика.— Л.: Наука, 1974 — С. 306—322.
302. Легенды и мифы о Пушкине: Сб. статей / Под ред. М. Н. Виро-лайнен.— СПб.: Гуманитарное агенство «Академический проект», 1995.—352 с.
303. Лежнев А. Проза Пушкина.— М., 1973.— 395 с.
304. Ленина Л. И. Пародийные элементы в поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» // Литературный процесс: Традиции и новаторство. Межвуз. сб. науч. тр.— Архангельск, 1992.— С. 15—31.
305. Лернер Н. О. Труды и дни Пушкина / Изд. 2-е, испр. и доп.— СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1910.— 577 с.
306. Лесскис Г. А. Пушкинский путь в русской литературе.— М.: Художественная литература, 1993.— 526 с.
307. Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. / Отв. ред. Я. Л. Левкович; Сост. М. А. Цявловский, Н. А. Тархова.— М.: Слово/Slovo, 1999.
308. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева.— М.: Советская энциклопедия, 1987.— 752 с.
309. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков:
310. Эпохи и стили.— Л.: Наука, 1973.— 210 с.
311. Лихачев Д. С. Система стилевых взаимодействий в истории европейского искусства и место в ней русского XVIII века // XVIII век. Сб. 10.— Л.: Наука, 1975.— С. 3—15.
312. Лихачев Д. С., Панченко А. М, Понырко Н. В. Смех в Древней Руси.— Л.: Наука, 1984.— 230 с.
313. Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3-х т.— Л.: Художественная литература, 1987.
314. Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст / Изд. 2-е, исправ. и доп.— СПб.: Наука, 1991.—371 с.
315. Ломоносов и русская литература.— М.: Наука, 1987.
316. Ломоносов М. В. Избранные произведения / Вступ. статья, подготовка текста и примечания А. А. Морозова.— М.; Л.: Советский писатель, 1965.— 580 с.
317. Лопухин А. П. Библейская история Ветхого Завета.— Монреаль, 1986.
318. Лосев А. Ф., Шестаков В. 77. История эстетических категорий.— М.: Искусство, 1965.— 375 с.
319. Лотман Л. Судьба царей и царств в Библии и трагизм истории в «Борисе Годунове» // Коран и Библия в творчестве А. С. Пушкина.—Jerusalem, 2000.—С. 101—108.
320. Лотман Ю. М. Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов // Ученые записки Тартуского гос. унта. Вып. 119. Труды по русской и славянской филологии. Вып. 5.—Тарту, 1962.—С. 3—76.
321. Лотман Ю. М. Структура художественного текста.— М.: Искусство, 1970.—384 с.
322. Лотман Ю. М. Опыт реконструкции пушкинского сюжета об
323. Иисусе // Временник пушкинской комиссии, 1979.— Л.: Наука, 1982.—С. 15—27.
324. Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин (биография писателя) / Пособие для учащихся.— Л.: Просвещение, 1982.— 255 с.
325. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий / Изд. 2-е.— Л.: Просвещение, 1983.— 416 с.
326. Лотман Ю. М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII века // Проблемы изучения культурного наследия.— М.: Наука, 1987.—С. 110—119.
327. Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина.— М.: Книга, 1987.— 336 с.
328. Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 1988.— 352 с.
329. Лотман Ю. М. Образы природных стихий в русской литературе (Пушкин — Достоевский — Блок) // Лотман Ю. М. Пушкин.— СПб.: Искусство-СПБ, 1995.—С. 814—820.
330. Лотман Ю. М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки 1960—1990. «Евгений Онегин»: Комментарий.— СПб.: Искусство-СПБ, 1995.—847 с.
331. Любавин М. А. Лицейские учителя Пушкина и их книги.— СПб., 1997.
332. Ляпина Л. Е. Лирический цикл в русской поэзии 1840-х—1860-х годов.— Автореф. дис. . канд. филол. наук.— Л., 1977.— 12 е.
333. Магина Р. Г. Русский философско-психологический романтизм (лирика В. А. Жуковского, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета): Учебное пособие по спецкурсу.— Челябинск: ЧГПИ., 1982.— 92 с.
334. Майенова М. Р. Теория текста и традиционные проблемы поэтики //Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8.— М.: Прогресс, 1978.—С. 424—441.
335. Маймин Е. А. Философская поэзия Пушкина и любомудров (к различию художественных методов) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 6 — М.: Наука, 1969.— С. 98—117.
336. Маймин Е. А. О русском романтизме.— М.: Просвещение, 1975. — 239 с.
337. Маймин Е. А. Русская философская поэзия. Поэты-любомудры, А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев.— М.: Наука, 1976.— 190 с.
338. Макогоненко Г. П. От Фонвизина до Пушкина: Из истории русского реализма.— М.: Художественная литература, 1969.— 512 с.
339. Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1830—1833).— Л.: Художественная литература, 1974.— 378 с.
340. Макогоненко Г. П. Из истории формирования историзма в русской литературе // XVIII век. Сб. 13: Проблемы историзма в русской литературе: конец XVIII — начало XIX века.— Л.: Наука, 1981.—С. 3—65.
341. Макогоненко Г. П. Последний поэтический цикл Пушкина // Нева. 1981. N6.—С. 173—182.
342. Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833—1836).— Л.: Художественная литература, 1982.— 464 с.
343. Малинин В. А. Пушкин как мыслитель.— Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1990.— 224 с.
344. Малъчукова Т. Г. Память поэзии: О сравнительно-типологическом изучении классической лирики: Учебное пособие по спецкурсу.— Петрозаводск: ПТУ, 1985.— 98 с.
345. Малъчукова Т. Г. О жанровых традициях в «Анфологических эпиграммах» А. С. Пушкина // Жанр и композиция литературного произведения.— Петрозаводск, 1986.— С. 64—82.
346. Малъчукова Т. Г. «Подражания древним», «Эпиграммы во вкусе древних» и «Антологические эпиграммы» в лирике А. С. Пушкина // Проблемы исторической поэтики. Исследования и материалы.— Петрозаводск, 1990.— С. 48—72.
347. Малъчукова Т. Г. Античные и христианские традиции в поэзии А. С. Пушкина. Кн. 1.— Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1997 — 196 с.
348. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма.— М.: Наука, 1976.— 376 с.
349. Манн Ю. В. Смелость изобретения. Черты художественного мира Гоголя.— М., 1979.— 115 с.
350. Манн Ю. В. Пушкин — «певец гармонии»? // Филологические науки. 1990. № 2.— С. 3—13.
351. Марков В. А. Моделирование литературной эволюции в свете идей Тынянова // Тыняновский сборник: 3-й Тыняновские чтения.—Рига, 1988.—С. 83—90.
352. Маркович В. М. Сон Татьяны в поэтической структуре «Евгения Онегина» // Болдинские чтения.— Горький, 1980.
353. Маркович В. М. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30—50-е годы).— Л.: ЛГУ, 1982.— 208 с.
354. Маркович В. М. «Повести Белкина» и литературный контекст // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIII.— Л.: Наука, 1989. — С. 63—87.
355. Маркович В. М. О значении «одесских» строф в «Евгении Онегине» // Пушкин и другие.— Новгород, 1997.— С. 80—92.
356. Мейлах Б. С. Пушкин и русский романтизм.— М.; Л.: АН СССР, 1937.—296 с.
357. Мейлах Б. С. Метафора как элемент художественной системы // Мейлах Б. С. Вопросы литературы и эстетики.— Л.: Советский писатель, 1958.—С. 193—222.
358. Мейлах Б. С. Художественное мышление Пушкина как творческий процесс.—М.; JL: АН СССР, 1962.— 250 с.
359. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Изд. 2-ое, репринтное.— М.:Ф
360. Издательская фирма «Восточная литература» РАН, Языки русской культуры, 1995.— 408 с.
361. Мережковский Д. С. Толстой и Достоевский. Вечные спутники.— М.: Республика, 1995.— 623 с.
362. Мерзляков А. Ф. Об изящном или о выборе в подражании // Русские эстетические трактаты первой четверти XIX века: В 2-х т. Т. 1.— М.: Искусство, 1974.—С. 74—93.
363. Мещерская Е. Н. Легенда об Авгаре — раннесирийский литературный памятник (исторические корни и развитие легенды).—1. М.: Наука, 1984.
364. Миккелъсон Дж. «Памятник» Пушкина в свете его философской лирики 1836 года // Творчество А. С. Пушкина. Материалы советско-американского симпозиума в Москве (июнь 1984 г.).— М.: Наука, 1985.—С. 68—80.
365. Минц 3. Г. Понятие текста и символистская эстетика // Материалы всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. 1 (5).—Тарту: ТГУ, 1974.—С. 134—139.
366. Минц 3. Г. Символ у Блока // В мире Блока. Сб. ст.— М.: Советский писатель, 1980.—С. 172—208.
367. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С. А. Токарев.— М.: Советская Энциклопедия, 1980—1982.
368. Мицкевич А. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4. Литературно-критические статьи / Под ред. М. Ф. Рыльского, М. С. Живова; Вступ. ст. М. С. Живова.— М.: Гослитиздат, 1954.— 516 с.
369. Модзалевский Б. Я. Библиотека А. С. Пушкина: Библиографическое описание // Отдельный оттиск из издания: Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 9—10.— СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1910.— 442 с.
370. Мокиенко В. М. Образы русской речи. Историко-этимологичес-кие и этнолингвистические очерки фразеологии.— Л.: ЛГУ, 1986.— 280 с.
371. Морозов М. Избранное / Ред. кол. Е. М. Буромская-Морозова и др; Вступ. ст. М. В. Урнова.— М.: Искусство, 1979.— 669 с.
372. Морозов П. О. Комментарий // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. 1 / Под ред. С. А. Венгерова.— 1907.— С. 474.
373. Москвичева Г. В. Герой в трагической ситуации («Пир во время чумы») // Болдинские чтения.— Нижний Новгород, 1995.— С. 97—110.
374. Москвичева Г. В. К проблеме трагического в драматургии Пушкина // Болдинские чтения.— Нижний Новгород, 1997.— С. 35— 50.
375. Муравьев А. Н. Путешествие ко святым местам в 1830 году: В 2 ч. Ч. 1.— СПб., 1832.— 298 с.
376. Муравьева О. С. Пушкин и Наполеон (пушкинский вариант «наполеоновской легенды») // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIV.—Л.: Наука, 1991.—С. 5—32.
377. Муръянов М. Ф. Пушкинские эпитафии.— М.: Наследие, 1995.— 112 с.
378. Муръянов М. Ф. Из символов и аллегорий Пушкина.— М.: Наследие, 1996.—280 с.
379. Мурьянов М. Ф. Пушкин и Германия.— М.: Наследие, 1999.— 446 с.
380. Мусатов В. Художественные традиции в современной поэзии: Учебное пособие.— Иваново: ИвГУ, 1980.— 88 с.
381. Надеждин Н. И. Лекции по археологии // Русские эстетические трактаты первой четверти XIX в.: В 2-х т. Т. 2.—М.: Искусство, 1974.—С. 459—478.
382. Надеждин Н. И. О современном направлении изящных искусств // Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: В 2-х т. Т. 2.— М.: Искусство, 1974.—С. 417—459.
383. Недзвецкий В. А. Русский социально-универсальный роман XIX века: становление и жанровая эволюция.— М.: Диалог-МГУ, 1997.— 264 с.
384. Некрасова Е. А. Идеостиль В. А. Жуковского // Бакина М. А., Некрасова Е. А. Эволюция поэтической речи XIX—XX в. Перифраза. Сравнение.— М.: Наука, 1986.— С. 134—146.
385. Непомнящий В. С. Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пушкине.— М.: Советский писатель, 1983.— 368 с.
386. Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина / Изд. 2-е, доп.— М.: Советский писатель, 1987.— 448 с.
387. Непомнящий В. С. Пророк // Пушкинист: Сб. Пушкинской комиссии ИМЛИ им. A.M. Горького. Вып. 1. /Состав. Г. Г. Красу-хин.—М.: Современник, 1989.— С. 188—222.
388. Непомнящий В. С. Феномен Пушкина как научная проблема. К методологии историко-литературного изучения // Диссертация в форме научного доклада на соискание уч. ст. доктора филол. наук.—М., 1999.—63 с.
389. Никитина С. И. Об общих сюжетах в фольклоре и народномизобразительном искусстве // Народная гравюра и фольклор в России XVII—XIX в. К 150-летию со дня рождения Д. А. РовинШского: Мат. научн. конф. (1975).— М.: Сов. художник, 1976.— С. 320—350.
390. Никишов Ю. М. «Евгений Онегин» как динамическая художественная система. Автореф. докт. дисс.— Свердловск, 1988.— 30 с.
391. Никишов Ю. М. Первый духовный кризис Пушкина (осень 1816 — весна 1817) // Известия АН. Сер. лит. и языка.1997. Т. 56. № 1.—С. 24—30.
392. Новалис. Фрагменты // Литературная теория немецкого романтизма.— Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934.— С. 121—146.
393. Щ 388. Новая повесть о преславном Российском царстве // Памятникилитературы Древней Руси: конец XVI — начало XVII века / Под ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева.— М.: Художественная литература, 1987.— С. 24—57.
394. Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт сопоставления структур.— М., 1984.— 250 с.
395. Новикова А. М. Русская поэзия XVIII — первой половины XIX в. и народная песня: Учебное пособие.— М.: Просвещение, 1982.— 192 с.
396. Новожилова Л. И. Эстетика Канта // Лекции по истории эстетики. Кн. 2 /Под ред. М. С. Когана.— Л.: ЛГУ, 1974.— С. 60—78.
397. Новые тексты Пушкина // Летописи государственного литературного музея. Кн. 1. Пушкин.— М., 1936.
398. Нольман М. Система пушкинских образов // Вопросы литературы. 1971. N9.—С. 96—111.
399. Норов А. С. Путешествие по Египту и Нубии в 1834—1835 г. Ч. 1.— СПб., 1840.— С. 46—48.
400. Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве / Вступ. ст., коммент.
401. В. И. Сахарова.— М.: Современник, 1982.— 223 с.
402. Ольховников Д. Б. Предметное и символическое в метафорическом мышлении // Текст как объект лингвистического анализа и перевода. Сб. ст.—М.: АН СССР, 1984.—С. 81—91.
403. Орлов П. А. Трагедия Пушкина «Борис Годунов» и «История государства Российского» Карамзина // Филологические науки. Науч. докл. высшей школы. 1981. № 6.— С. 5—10.
404. Орлов П. А. Творчество К. Н. Батюшкова и литературные направления начала XIX века // Филологические науки. Науч. докл. высшей школы. 1983. № 6.— С. 10—22.
405. Павлищева О. С.: Письма к мужу, Н. И. Павлищеву, в 1831 и ф 1832 г. из Петербурга // Пушкин и его современники: Материалыи исследования. Вып. 15.—СПб., 1911.— С. 43—135.
406. Палиевский 77. В. Внутренняя структура образа // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер / Ред. кол. Г. А. Абрамович, Н. К. Гей и др.— М.: АН СССР, 1962.— С. 72—114.
407. Палиевский П. В. Русские классики: Опыт общей характеристики.—М., 1987.—315 с.
408. Памятники мировой эстетической мысли: В 5-и т.— М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1962—1970.
409. Панкратова И. Л., Хализев В. Е. Опыт прочтения «Пира во время чумы» А. С. Пушкина // Типологический анализ литературного произведения.— Кемерово: Изд-во КемГУ, 1982.— С. 53—66.
410. Панкратова И. Л., Хализев В. Е. Опыт прочтения «Пира во время чумы» А. С. Пушкина // Типологический анализ литературного произведения.— Кемерово, 1982.— С. 53—66;
411. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ.— Л.: Наука, 1984.—230 с.
412. Перелъман X., Олъбрехт-Тытеха Л. Из книги «Новая риторика: ^ трактат об аргументации» // Язык и моделирование социальноговзаимодействия. Сб. ст.— М.: Прогресс, 1987.— С. 207—264.
413. Переписка А. С. Пушкина: В 2-х т. / Вступ. ст. И. Б. Мушиной; Состав., коммент. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон и др.— М.: Художественная литература, 1982.
414. Петрунина Н. Н. Проза Пушкина: пути эволюции / Отв. ред. Д. С. Лихачев.— Л.: Наука, 1987.— 336 с.
415. Печерин В. С. О греческой эпиграмме // Современник. 1837. №3.—С. 73—89.
416. Пиккио Р. История древнерусской литературы / Пер. И. В. Дерга-# чевой, Е. Л. Лившиц, С. Г. Яковенко.— М.: Кругъ, 2002.— 352 с.
417. Письмо В. А. Жуковского канцлеру И. фон Мюллеру. 12 мая 1846 г. // Новый сборник по славяноведению.— СПб., 1905.— С. 342—344.
418. Платон. Тимей // Платон. Сочинения: В 3 т. Т. 3. Часть. 1.— М.: Мысль, 1971.—С. 455-541.
419. Плетнев П. А. Статьи. Стихотворения. Письма / Составл., вступит. ст. и примеч. А. А. Шелаевой.—М.: Советская Россия, 1988. — 384 с.
420. Подгаецкая И. Ю. «Свое» и «чужое» в поэтическом стиле. Жуковский — Лермонтов — Тютчев // Смена литературных стилей: На материале русской литературы XIX—XX веков.— М.: Наука, 1974.— С. 201—250.
421. Полевой Н. А. Сочинения Державина // Русская критика от Карамзина до Белинского.— М.: Детская литература, 1981.— С. 116—122.
422. Поляков М. Я. Вопросы поэтики и художественной семантики / 2-е изд., перераб. и доп.— М.; Советский писатель, 1978.— 446 с.
423. Поплавская И. Комментарий // Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 1.— М.: Языки русской культуры, 1999.—С. 536—537.
424. Портнова Н. А. Формирование романтической лирики В. А. Жуковского. Автореф. дисс. . канд. филол. наук.— Куйбышев, 1968.—20 с.
425. Портнова Н. А. Нравственный идеал лирики В. А. Жуковского // Вопросы русской, советской и зарубежной литературы.— Новосибирск, 1971.—С. 38—57.
426. Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях.— СПб., 1877.
427. Послание страдальца Христова Авраамия к христолюбцу некоему, свидетельства о последнем времени // Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества.— СПб.: Тип. М. Л. Александрова, 1912.— С. 157—162.
428. Постное О. Г. Тема смерти в ранней лирике А. С. Пушкина // «Вечные» сюжеты русской литературы («Блудный сын» и др.). Сб. науч. тр.— Новосибирск, 1996.— С. 59—68.
429. Постное О. Г. Пушкин и смерть: Опыт семантического анализа.—Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000— 198 с.
430. Потебня А. А. Из записок по теории словесности //Потебня А. А. Эстетика и поэтика.— М.: Искусство, 1976.— С. 286—461.
431. Проданик Н. В. Топосы смерти в лирике А. С. Пушкина // Автореф. дисс. . канд. филол. наук.— Омск, 2000.— 20 с.
432. Пропп В. Я. Русская сказка / Отв. ред. К. В. Чистов, В. И. Еремина.— Л.: ЛГУ, 1984.— 335 с.
433. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки / Отв. ред. В. И. Еремина, Н. М. Герасимова; 2-е изд.— Л.: ЛГУ, 1986.— 366 с.
434. Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи.— М., 2000.— 405 с.
435. Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. — М.: Новое литературное обозрение, 2000.— 462 с.
436. Пулъхритудова Е. М. Литературная теория декабристского романтизма в 30-е годы XIX в. // Проблемы романтизма. Сб. статей.—М.: Искусство, 1967.—С. 232—292.
437. Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы / Отв. ред. А. П. Чудаков; Состав. Е. М. Иссерлин, Н. И. Николаев; Вступ. ст., подготовка текста и прим. Н. И. Николаева.— М.: Языки русской культуры, 2000.— 864 с.
438. Путешествие через Московию Корнелия де Бруина / Пер. с фр. И. П. Барсова.— М., 1873.
439. Путилов С. В. «Идеальная муза» Жуковского (о некоторых стилистических особенностях лирики поэта) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1983. № 1.— С. 11—16.
440. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Под общ. ред. В. В. Григоренко и др.; Вст. ст. В. Э. Вацуро; Подгот. текста, сост. и примеч. В. Э. Вацуро и др.— М.: Художественная литература, 1974.
441. Пушкин в русской критике: Сб. ст. / Вступит, ст. и прим. В. Дорофеева и Г. Черемина; Изд. 2-е., доп.— М., 1953.— 688 с.
442. Пушкин — критик / Сост. Е. Н. Лебедев, В. С. Лысенко; Примеч. В. С. Лысенко.— М.: Советская Россия, 1978.— 672 с.
443. Пушкин А. С. «Русский титул» или без цензуры / Состав., комментарий Александр X.— М., 2001.— 192 с.
444. Пушкин А. С. Письма к жене / Отв. ред. А. Л. Гришунин; Подгот. Я. Л. Левкович,— Л.: Наука, 1986,— 360 с.
445. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т.— M.; JL: АН СССР, 1937—1949.
446. Пушкин А. С. Собрание сочинений. Т. 1 / Общая ред. В. С. Непомнящего; Составление В. А. Кожевникова; Примеч. В. А. Кожевникова, В. С. Непомнящего.— М.: Наследие, 2000.— 528 с.
447. Пушкин А. С. Стихотворения лицейских лет. 1813—1817 / Ред. В. Э. Вацуро.— СПб.: Наука, 1994.— 716 с.
448. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: BIO т.— M.; JL: АН СССР, 1950—1951.
449. Пушкин в прижизненной критике 1820—1827 / Под общей ред. В. Э. Вацуро, С. А. Фомичева.— СПб.: Гос. пушкинский театральный центр, 1996.— 528 с.
450. Пушкин в русской философской критике: конец XIX — первая половина XX в. / Состав., вступит, ст., биобиблиогр. спр. Р. А. Гальцева.— М.: Книга, 1990 — 527 с.
451. Пушкин. Итоги и проблемы изучения. Коллективная монография / Под ред. Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова, Б. С. Мейлаха.— М.; Л.: АН СССР, 1966.— 664 с.
452. Пыпин А. Н. История русской литературы: В 4 т. Т. 4.— СПб.: В тип. M. М. Стасблевича, 1899.— 648 с.
453. Пяткин С. Н. Функциональная системность Болдинского периода творчества А. С. Пушкина (осень 1830-го года). Автореф. дисс. . канд. филол. наук.— Коломна, 2000.— 18 с.
454. Радищев А. Н. Избранные произведения.— М.: Художественная литература, 1952.— 650 с.
455. Рассадин Ст. Драматург Пушкин. Поэтика. Идеи. Эволюция.— М.: Искусство, 1977.— 359 с.
456. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы / Пер. с англ. Н. В. Воробьева.— М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1957.— 556 с.
457. Рассел Б. История западной философии. В 2-х т. Т. 2.— Новосибирск, 1994.—350 с.
458. Реизов Б. Г\ Понятие свободы у Пушкина // Вопросы литературы. 1966. N 12.—С. 109—134.
459. Рижский М. И. Библейские вольнодумцы.— М., 1992.— 230 с.
460. РовинскийД. Русские народные картинки. Кн. III. Притчи и листы духовные.— СПб., 1881.— 720 с.
461. Розанов М. Н. Об источниках стихотворения Пушкина «Из Пин-демонти» // Пушкин. Сборник второй.— М.: Госиздат, 1930.— С. 111—142.
462. Рублева О. Л. Лексический анализ стихотворения «Осень» // Пушкин в школе. Современное прочтение.— Владивосток: ДВГУ, 1999.—С. 53—55.
463. Рубцов Н. Посвящение другу / Вступ. ст. С. Вакулова; Составл. В. А. Оботурова.— Л.: Лениздат, 1984.— 254 с.
464. Рукописи А. С. Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 года. Тетрадь № 2374. Комментарий.— М, 1939.
465. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты / Подгот. к печати и коммент. М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалев-ский, Т. Г. Зингер.— М; Л.: Academia, 1935.— 926 с.
466. Русская критика XVIII—XIX века: Хрестоматия / Сост. В. И. Кулешов.— М.: Просвещение, 1978.— 607 с.
467. Русская эпиграмма второй половины XVIII — начала XX в. / Вступит, ст. Л. Ф. Ершова; Состав., подгот. текста и примеч. В. Е. Васильева и др.; 2-е изд.— Л.: Советский писатель, 1979.— 968 с.
468. Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ровинский. Кн. III. Притчи и листы духовные.— СПб., 1881.— С. 361—362.
469. Русский венок Байрону.— М., 1988.— 150 с.
470. Русский поэты XIX века: Хрестоматия / Сост. Гайденков Н. М.; Изд. 3-е., доп. и перераб.— М.: Просвещение, 1964.— 650 с.
471. Савельева Л. Н. Античность в русской поэзии конца XVIII — начала XIX века: Учебное пособие по спецкурсу.— Казань: Казан. ГУ, 1980.—120 с.
472. Савченко Т. Т. О композиции цикла 1836 года А. С. Пушкина // Болдинские чтения.— Горький: Волго-Вятское кн. изд-во., 1979. — С. 70—81.
473. Сакулин П. Взгляд Жуковского на поэзию // Вестник воспитания. 1902. Май. № 5.— С. 50—72.
474. Сакулин 77. Н. В. А. Жуковский // История русской литературы XIX века: В 5-ти т. Т. 1.—М.: Мир, 1908.—С. 136—146.
475. Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. Ч. 1.— М.: М. и С. Сабашниковы, 1913.—616 с.
476. Сандомирская В. Б. Из истории пушкинского цикла «Подражания древним» (Пушкин и Батюшков) // Временник пушкинской комиссии, 1975.—Л.: Наука, 1979.—С. 15—30.
477. Сахаров Б. Пушкин читает Игореву песнь // Наш современник. 1985. N 12.— С. 132—151.
478. Сахаров И. П. Сказания русского народа о семейной жизни своих предков. Ч. 1 / Изд. 2.— СПб.: В Гуттенберговой тип., 1837.— 210 с.
479. Свирщевский А. А. Пушкин в сельском населении и школе Ярославской губернии // Тр. Ярославского губернского статистического комитета. Вып. 10.— Ярославль, 1899.— С. 1—89.
480. Сегал Д. Ранняя лирика Пушкина: структура, семантика, поэтика // После юбилея.— Jerusalem, 2000.— С. 20—43.
481. Селезнев Ю. Проза Пушкина и развитие русской литературы (к поэтике сюжета) // В мире Пушкина. Сб. ст. / Состав. С. Машин-ский.— М.: Советский писатель, 1974.— С. 413—446.
482. Селье Г. От мечты к открытию: Как стать ученым / Пер. с англ. Н. И. Войскунской.— М.: Прогресс, 1987.— 366 с.
483. Семенко И. М. О роли образа «автора» в «Евгении Онегине» // Труды Ленинградского библиотечного института им. Н. К. Крупской. Т. 2.—Л, 1957.—С. 127—146.
484. Семенко И. М. В. А. Жуковский // Жуковский В. А. Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 1.— М.; Л.: Художественная литература, 1959.— С. V—LII.
485. Семенко И. М. Поэты пушкинской поры: Батюшков, Жуковский, Денис Давыдов, Вяземский, Кюхельбекер, Языков, Баратынский.— М.: Художественная литература, 1970.— 295 с.
486. Семенко И. М. Жизнь и поэзия Жуковского.— М.: Художественная литература, 1975.— 256 с.
487. Семенко И. М. Батюшков и его «Опыты» // Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе.— М.: Наука, 1977.— С. 433—492.
488. Сендерович С. Алетейя. Элегия Пушкина «Воспоминание» и проблемы его поэтики.— Wiener Slawistisher Almanach. Sonder Band.— Wien, 1982,— 280 p.
489. Сендерович M, Сендерович С. Пенаты: исследования по русской поэзии.— Michigan, USA, 1990.— 276 p.
490. Серман И. 3. Поэзия К. Н. Батюшкова // Учен. зап. ЛГУ. Сер. филол. науки. Вып. 3.— Л., 1939.— С. 229—283.
491. Серман И. 3. Поэтический стиль Ломоносова / Отв. ред. П. Н. Бе-рков.— М.; Л.: Наука, 1966.— 260 с.
492. Серман И. 3. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира.— Л.: Наука, 1973.—284 с.
493. Серман И. 3. К. Батюшков. «Мои Пенаты». Послание к Жуковскому и Вяземскому // Поэтический строй русской лирики.— Л.: Наука, 1973.—С. 53—63.
494. Серман И. 3. Крылов-баснописец // Иван Андреевич Крылов: Проблемы творчества / Под ред. И. 3. Сермана.— Л., Наука, 1975.—С. 221—279.
495. Сидяков Л. С. Лирическое «я» в болдинских стихотворениях Пушкина 1830 года // Болдинские чтения.— Горький: Волго-Вятское кн. изд-во., 1980.— С. 60—73.
496. Сидяков Л. С. Примечания // Стихотворения Александра Пушкина / Отв. ред. Ю. М. Лотман, С. А. Фомичев; Изд. подгот. Л. С. Сидяков.—СПб.: Наука, 1997.—С. 458—623.
497. Сказание Авраамия Палицына // Изборник. Сборник произведений литературы Древней Руси / Вступ. ст. Д. С. Лихачева, состав. и общая ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева.— М.: Художественная литература, 1969.— С. 487—508.
498. Сказания о начале славянской письменности / Отв. ред. В. Д. Ко-ролюк; Вступ. ст., перевод и коммент. Б. Н. Флори.— М.: Наука, 1981.—198 с.
499. Скатов Н. Н. Два стихотворения Пушкина («Деревня», «Вновь я посетил.» // Русская речь. 1975. № 4.— С. 28—37.
500. Скатов Н. Н. Русский гений.— М.: Современник, 1987.— 352 с.
501. Сквозников В. Д. Реализм лирической поэзии: Становление реализма в лирической поэзии.— М.: Наука, 1975.— 368 с.
502. Словарь языка Пушкина: В 4-х. т.— М.: Наука, 1961.
503. Слово о рохманех и о преславном их житии // Александрия: Роман об Александре Македонском по русской летописи XV в.— М.; Л.: Наука, 1965.—С. 143—144.
504. Слонимский М. Мастерство Пушкина / Изд. 2-е.— М.: Художественная литература, 1963.— 528 с.
505. Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем.— М.: Наука, 1977.— 203 с.
506. Смирнов И. П. Место «мифопоэтического» подхода к литературному произведению среди других толкований текста (о стихотворении Маяковского «Вот как я сделался собакой») // Миф. Фольклор. Литература.— Л.: Наука, 1978.— С. 186—203.
507. Смирнов К. История церкви Спаса Нерукотворного Образа // Пушкинская эпоха и христианская культура.— СПб., 1993.— С. 78—79.
508. Соболев П. В. Очерки русской эстетики первой половины XIX века. Курс лекций: В 2-х ч. Ч. 1.— Л., 1972.— 264 с.
509. Соймонов А. Д. А. С. Пушкин // Русская литература и фольклор (первая половина XIX века).— Л.: Наука, 1976.— С. 143—209.
510. Соколов В. В. Средневековая философия: Учебное пособие.— М.: Высшая школа, 1979.— 448 с.
511. Соколова К. И. Элегия П. А. Вяземского «Первый снег» в творчестве А. С. Пушкина // Проблемы пушкиноведения. Сб. научн. тр.— Л.: ЛГПИ, 1975.— С. 67—86.
512. Соловьев В. С. Родина русской поэзии // «Вестник Европы». 1897. № 11,—С. 347.
513. Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика / Состав, и вступ. ст. Р. Гальцевой и И. Роднянской; коммент. А. А. Носова.— М.: Искусство, 1991.— 701 с.
514. Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный всадник». История текста // Пушкин. Исследования и материалы. Т. III.— М.; Л.: АН СССР, i960.— С. 268—344.
515. Сологуб Ф. К всероссийскому торжеству // Мир искусства.— 1899. № 5.— С. 37—38.
516. Спивак Р. С. Русская философская лирика. Проблемы типологии жанра / Научн. ред. Н. К. Гей.— Красноярск: Красноярский ГУ, 1985.— 140 с.
517. Старк В. 77. Стихотворение «Отцы-пустынники и жены непорочны.» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. X.—Л.: Наука, 1982.—С. 193—203.
518. Старк В. П. Притча о сеятеле и тема поэта-пророка в лирике Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIV.— Л.: Наука, 1991.—С. 51—64.
519. Стенник Ю. В. Традиции торжественной оды XVIII века в лирике Пушкина периода южной ссылки («Наполеон») // XVIII век. Сб. 10.—Л.: Наука, 1975.—С. 105—120.
520. Степанов Г. В. Образный строй лирики Пушкина // Степанов Г. В. Язык. Литература. Поэтика: Сб. ст. / Отв. ред. Д. С. Лихачев.—М.: Наука, 1988.—С. 169—176.
521. Степанов Л. Н. Лирика Пушкина: Очерки и этюды / 2-е изд.— М.: Художественная литература, 1974.— 368 с.
522. Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения: Семиологи-ческая грамматика.— М.: Наука, 1981.— 360 с.
523. Сумароков А. П. Избранные произведения / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. П. Н. Беркова; Изд. 2-е.— Л.: Советский писатель, 1957—608 с.
524. Сумцов И. Ф. К истории южно-русской литературы в семнадцатом столетии. Вып. 3. Иннокентий Гизель.— Киев., 1884.— 44 с.
525. Сумцов Н, Ф. Исследования о поэзии А. С. Пушкина // Харьковский университетский сборник в память А. С. Пушкина (1799— 1899).—Харьков, 1900.—С. 1—350.
526. Сурат И. О «Памятнике» //Новый мир. 1991. № 10.— С. 193— 196.
527. Сурат И., Бочаров С. Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества.— М.: Языки славянской культуры, 2002.— 240 с.
528. Тархов А. Повесть о петербургском Иове // Наука и религия. 1977. № 2.— С. 62—64.
529. Тархов А. Судьба Евгения Онегина // Пушкин А. С. Евгений Онегин. Роман в стихах.— М.: Художественная литература, 1980.— С. 5—28.
530. Тархова Н. А. Сны и пробуждения в романе «Евгений Онегин» // Болдинские чтения.— Горький: Волго-Вятское кн. из-во., 1982.—С. 52—64.
531. Тетрадь Н. Всеволожского, публ. Б. В. Томашевского. Летописи государственного литературного музея. Кн. 1. Пушкин.— М., Журнально-газетное объединение, 1936.
532. Ткачева Н. Н. Пушкин и Анненский: заметки к «скульптурной» теме // Пушкин А. С.: эпоха, культура, творчество. Традиции и современность.— Владивосток: ДВГУ, 1999.— С. 161—169.
533. Тоддес Е. А. К вопросу о каменноостровском цикле // Проблемы пушкиноведения. Сб. научн. тр.— Рига, 1983.— С. 26—44.
534. Тодоров Цв. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». Сб. ст.— М.: Прогресс, 1975.— С. 37—113.
535. Тойбин И. М. К проблеме художественного историзма в пушкинской лирике 1830-х годов // Проблемы историзма в художественной литературе. Научн. труды Курского пед. ин-та. Т. 24 (117).—Курск, 1973.—С. 25—59.
536. Тойбин И. М. Пушкин. Творчество 1830-х годов и вопросы историзма.— Воронеж, 1974.— 280 с.
537. Тойбин И. М. Пушкин и философско-историческая мысль в России на рубеже 1820 и 1830-х годов.— Воронеж, 1980.— 123 с.
538. Токарев С. А. Религия в истории народов мира / Ред. Е. Локарев; Изд. 2-е., исправ. и доп.— М,: Политиздат, 1965.— 623 с.
539. Толстой И. И. Пушкин и античность // Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Кафедра русской литературы. Т. 14.— Л., 1938.— С. 71—85.
540. Томашевский Б. В. Источник стихотворения «Как с древа сорвался предатель ученик.» // Пушкин и его современники. Материалы и исследования. Вып. XXXVIII—XXXIX.— Л.: АН1. СССР, 1930.—С. 78—81.
541. Томашевский Б. В. Строфика Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 2.—М.; Л.: АН СССР, 1958.— С. 49—184.
542. Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение: Курс лекций.— Л.: Учпедгиз., 1959.—535 с.
543. Томашевский Б. В. Пушкин и Петербург // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 3.— М.; Л.: АН СССР, 1960.— 37—45.
544. Томашевский Б. В. Пушкин: В 2-х т. / Изд. 2-е.— М.: Художественная литература, 1990.
545. Топоров В. Н. Трагическое у Батюшкова // Тез. докл. к научн. конф., посвященной 200-летию со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова.— Вологда, 1987.— С. 11—13.
546. Триодь постная.— М., 1659.— 709 л.
547. Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории // Трубецкой С. Н. Сочинения.— М., 1994 — С. 43—480.
548. Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826).— М., 1964.—488 с.
549. Тынянов Ю. Н. Предисловие//Русская проза.— Л., 1926.
550. Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы.—Л.: Прибой, 1929.— 596 с.
551. Тынянов Ю. Н. Пушкин и Кюхельбекер // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники / Отв. ред. В. Виноградов; Состав, и подготовка текста В. А. Каверина и 3. А. Никитиной; Коммент. А. Л. Гришунина и А. П. Чудакова.— М.: Наука, 1969.— С. 233—294.
552. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Отв. ред. В. А. Каверин, А. С. Мясников.— М.: Наука, 1977.— 574 с.
553. Тыркова-Вилъямс А. В. Жизнь Пушкина: В 2-х т. / Подгот. текста, послеслов. С. А. Никитина.— М.: Три века истории, 2000.
554. Тютчев Ф. И. Сочинения: В 2-х т.— М.: Правда, 1980.
555. Уваров С. С. О греческой антологии.— СПб., 1820.
556. УрновД. М. Соотношение творчества и жизненного материала // Контекст. 1982.-—М.: Наука, 1983.—С. 136—164.
557. У сок Е. Н. Философская поэзия любомудров // К истории русского романтизма.— М.: Наука, 1973.— С. 107—128.
558. Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей: Реликты язычества в восточнославянском культе Николы Мирликийского.— М.: МГУ, 1982.— 248 с.
559. Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII— начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни.— М., МГУ, 1985.— 215 с.
560. Успенский Л. А. Богословие иконы православной церкви.— М.: Изд-во западно-европейского экзархата. Московский патриархат, 1989.—475 с.
561. Устюжанин Д. Маленькие трагедии А. С. Пушкина.— М., 1974. — 190 с.
562. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т.— М., 1967.
563. Федоров В. В. О природе поэтической реальности.— М.: Советский писатель, 1984.— 184 с.
564. Филиппов Г. В. Русская советская философская поэзия. Человек и природа.— Л.: ЛГУ, 1984.— 207 с.
565. Фоменко И. В. Лирический цикл как метатекст // Лингвистические аспекты исследования литературно-художественных текстов.—Калинин, 1978.—С. 112—127.
566. Фоменко И. В. О жанровом своеобразии лирического цикла // Проблемы эстетики и творчества романтиков.— Калинин, 1982.—С. 32—45.
567. Фомичев С. А. О лирике Пушкина // Русская литература. 1974. N2.—С. 43—53.
568. Фомичев С. А. «Подражания Корану». Генезис, архитектоника и композиция цикла // Временник пушкинской комиссии. 1978.— Л.: Наука, 1981.— С. 22—45.
569. Фомичев С. А. Последний лирический цикл Пушкина // Временник пушкинской комиссии, 1981.— Л.: Наука, 1985.— С. 52—66.
570. Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция.— Л.: Наука, 1986.—304 с.
571. Фомичев С. А. Памятник нерукотворный // Русская литература. 1990. №4.— С. 215—217.
572. Фомичев С. А. «Комедия о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» А. С. Пушкина // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 48.— СПб.: Наука, 1993.— С. 421—428.
573. Франк-Каменецкий И. Г. Растительность и земледелие в поэтических образах Библии и в гомеровских сравнениях // Язык и литература. Т. IV.— Л.: АН СССР, 1929.— С. 122—143.
574. Франк-Каменецкий И. Г. Отголоски представления о матери-земле в библейской поэзии // Язык и литература. Т. VIII.— Л.: АН СССР, 1932.—С. 120—145.
575. Фрезер Д. Д. Фольклор в Ветхом завете / 2-е изд., исправ. и доп.
576. М.: Политиздат, 1985.— 511 с.
577. Фрейднеберг О. М. Поэтика сюжета и жанра: период античной литературы.— JL: Художественная литература, 1936.— 454 с.
578. Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова.— М.: Наука, 1971.— 383 с.
579. Фридман Н. В. Романтизм в творчестве А. С. Пушкина.— М., 1980.—210 с.
580. Фризман Л. Г. Жизнь лирического жанра. Русская элегия от Сумарокова до Некрасова.— М.: Наука, 1974.— 167 с.
581. Фунтусов В. С. Пушкин как культурно-антропологический тип // Пушкин А. С. Эпоха, культура, творчество. Традиции и современность. Часть 1. Дополнение.— Владивосток: ДВГУ, 1999.— С. 103—106.
582. Хализев В. Е. Жизненный аналог художественной образности (опыт обоснования понятия) // Принцип анализа литературного произведения.—М., МГУ, 1984.— С. 32—41.
583. Халфин Ю. А. «Луны при свете серебристом». О некоторых особенностях поэтики романа Пушкина «Евгений Онегин» // Литературная учеба. 1983. № 2 — С. 201—206.
584. Харитонович Д. Э. Средневековый мастер и его представление о вещи // Художественный язык средневековья.— М.: Наука, 1982.1. С. 24—39.
585. Хворостъянова Е. В. Имя и конфликт в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина // А. С. Пушкин: эпоха, культура, творчество. В 2-х ч. Ч. 1.—Владивосток, ДВГУ, 1999.— С. 42-^6.
586. Херрин Дж. Женщины и иконопочитание в ранней Церкви // Восточно-христианский храм. Литургия и искусство.— СПб., 1994.— С. 79—98.
587. Хомяков А. С. Остров // Московский наблюдатель. Журнал энциклопедический. Ч. VI.— М., 1836.— С. 16—18.
588. Хомяков А. С. Стихотворения и драмы / Вступит, ст., подготовка текста и примеч. Б. Ф. Егорова.— Изд. 2-е.— JL: Советский писатель, 1969.— 595 с.
589. Хрестоматия по древнерусской литературе / Сост. М. Е. Федорова и Г. А. Сумникова; Изд. 3-е.—М.: Высшая школа., 1986.— 256 с.
590. Художественная культура в докапиталистических формациях: Структурно-типологическое исследование.— JL, 1984.
591. Цветаева М. И. Мой Пушкин.— М., 1967.— 315 с.
592. Цявловский М. А. Послание «К Жуковскому» («Благослови, поэт!.») // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине.— М., 1962.— С. 105—130.
593. Чаадаев П.Я. Сочинения и письма / Под ред. М. О. Гершензона: В 2-х т. Т. 2.— М.: В тип. А. И. Мамонова. Путь, 1914.— 342 с.
594. Черкизова О. В. Лирическое авторское сознание в жанровой системе романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Автореф. дисс. . канд. филол. наук.— Свердловск, 1991.— 18 с.
595. Чернов И. А. Из лекций по теоретическому литературоведению. Часть 1. Барокко.—Тарту, 1976.— 230 с.
596. Черных П. Я. Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник» // Русский язык в школе. 1949. № 3.— С. 35—36.
597. Черняев Н. И. «Пророк» Пушкина в связи с его же подражаниями Корану // Русское обозрение. Т. XLIII. М., 1897. № 3.— С. 431—491.
598. Чистова И. С. К кому обращено стихотворение А. С. Пушкина «К ней»? // Русская речь. 1996. № 5.— С. 3—10.
599. Чистякова Н. А. Греческая эпиграмма // Греческая эпиграмма.— СПб.: Наука., 1993.—С. 325—365.
600. Чумаков Ю. Н. Татьяна, княгиня N, Муза (из прочтений VIII главы «Евгения Онегина») // Концепция и смысл.— СПб., 1996.— С. 101—114.
601. Чумаков Ю. Н. Стихотворная поэтика Пушкина / Научн. ред. М. Н. Виролайнен.— СПб.: Гос. пушкинский театральный центр, 1999.—432 с.
602. Шайтанов И. О. Константин Николаевич Батюшков (1787— 1865) // Батюшков К. Н. Стихотворения.— М., 1987.— 320 с.
603. Шапир М. Из истории «пародического балладного стиха» (пером владеет как елдой) // Анти-мир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература.— М., Ладомир. 1996.— С. 232—266.
604. Шапиро A. JI. Русская историография с древнейших времен до 1917 года.—М, 1993.
605. Шевырев С. П. История поэзии: В 2-х т. Т. 1 / Изд. 2-е.— СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1887.— 214 с.
606. Шевырев С. П. Жизнь и поэзия по воззрению Жуковского // Жуковский Василий Андреевич. Его жизнь и сочинения. Сб. истер литер, ст. / Сост. В. Покровский.— М., 1904.— С. 288—298.
607. Шекспир В. Отелло // Шекспир В. Полное собрание сочинений: В 8 т. Т. 6.— М.: Искусство, I960.— С. 281—425.
608. Шеллинг Ф. В. Й. Философия искусства / Пер. с немец., вступит, ст. П. С. Попова и М. Ф. Овсянниковой.— М.: Мысль, 1966.— 496 с.
609. Шенле А. Между «древней» и «новой» Россией: руины у раннего Карамзина как место «modernity» // Новое литературное обозрение. 2003. № 59.—С. 125—141.
610. Шестаков В. П. Гармония как эстетическая категория: Учение о гармонии в истории эстетической мысли.— М.: Наука, 1973.— 256 с.
611. Шиллер Ф. О наивной и сентиментальной поэзии // Шиллер Ф.
612. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6: Статьи по эстетике.— М.: Художественная литература, 1957.— С. 385—477.
613. Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина».— СПб.: Из-во С-Петерб. ун-та, 1996.— 372 с.
614. Шоу Т. Проблема единства позиции автора-повествователя в «Евгении Онегине» // Автор и текст.— СПб., 1996.— С. 120—129.
615. Эйделъман Н. Я. Карамзин и Пушкин. Из истории взаимоотношений // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 12.— JL: Наука, 1986.—С. 299—304.
616. Эйхенбаум Б. М. Комментарий // Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений: В 5 т. Т. 4.— М.; Л.: Academia, 1935.— С. 475—562.
617. Эйхенбаум Б. М. О поэзии.—Л., 1969.—415 с.
618. Эйхенбаум Б. М. Карамзин // Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии.— Л.: Художественная литература, 1986.— С. 18—28.
619. Эккерман И. 77. Разговоры с Гете в последние годы его жизни.— М., 1981—687 с.
620. Энгелъгардт Б. Историзм Пушкина (к вопросу о характере пушкинского объективизма) // Пушкинист. Вып. 2.— Петроград, 1916.—С. 1—158.
621. Эрдманн М. Consuetudo ex alto. «Привычка» в романе Пушкина «Евгений Онегин» и в монашеских правилах Св. Бенедикта Ну-рийского // Христианство и русская литература. Сб. 3.— СПб.: Наука, 1999.—С. 105—112.
622. Эткинд Е. Г. Разговор о стихах.— М., 1970.— 240 с.
623. Эфрос А. Рисунки поэта.— М., 1933.— 517 с.
624. Юкина Е., Эпштейн М. Поэтика зимы // Вопросы литературы. 1979. №9.—С. 171—204.
625. Юм Д. О норме вкуса // Френсис Хатчесон, Давид Юм, Адам
626. Смит. Эстетика.— M.: Искусство, 1973.— С. 301—325.
627. Юрьева И. Ю. «Библию, Библию»: Священное Писание в творчестве Пушкина // Московский пушкинист. Вып. IV.— М.: Наследие, 1997.—С. 119—143.
628. Юрьева И. Ю. «Нельзя молиться за царя Ирода.» // Вестник РАН. 1997. Т. 67. № 6.— С. 525—528.
629. Юрьева И. Ю. Пушкин и христианство.— М, 1999.— 280 с.
630. Якоб Л. Г. Начертание эстетики, или наука вкуса // Русские эстетические трактаты первой трети XIX в.: В 2-х т. Т. 2.— М.: Искусство, 1974.—С. 81—145.
631. Якобсон Р. О. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика.—М.: Радуга, 1983.— С. 462-482.
632. Якобсон Р. О. Работы по поэтике.— М.: Прогресс, 1987.— 464 с.
633. Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии.— М., 1985.— 287 с.
634. Янушкевич А. С. Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского.— Томск: Изд-во ТГУ, 1985.— 285 с.
635. Gre^goire H. Horace et Pouchkine // Les etudes classiques. 1937. Vol. 6. № 4.— P. 525—535.
636. Lachmann R. Smitatio und Intertextualitdt/ Drei russishe Versionen von Horaz «Exegi monumentum» // Poética. 1987. Bd. 19.— S. 197—222.