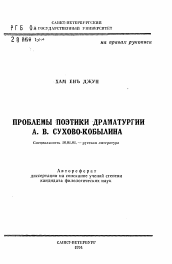автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Проблемы поэтики драматургии А.В. Сухово-Кобылина
Полный текст автореферата диссертации по теме "Проблемы поэтики драматургии А.В. Сухово-Кобылина"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИ!! Р Г Б ОМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УШШЕРСИТЕТ
2 о ИЮН ъм
на правах рукописи
ХАМ ЕНЪ ДЖУН
ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ ДРАМАТУРГИИ А. В. СУХОВО-КОБЫЛИНА
Специальность 10.01.01. — русская литература
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1994
Работа выполнена па кафедре историй русской литератур! Санкт-Петербургского государственного университета.
Научный руководитель — доктор филологических паук, профессор И. Н. Сухих
Официальные оппоненты: доктор искусствоведения, профессор А. Я. Альтшуллер кандидат филологических наук, доцент Н. А. Казакова
Ведущая организация — Санкт-Петербургская государственная Академия Культуры
Защита состоится «. » . 1994 года в . ^ . ча
на заседании специализированного совета К 063. 57. 42 по присущ дению ученой степени кандидата филологических наук в Сапк Петербургском государственном университете (199164, Санкт-П тербург, Университетская наб., 11).
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиоте] им. А. М. Горького СПбГУ.
Автореферат разослан «.<?.» . . . 1994 года.
Ученый секретарь специализированного совета, кандидат филологических наук
А. И. Владимире
Критическое и научно-исследовательское изучение творческого наследия А. В. Сухово-Кобылина имеет уже почти полуторавеко-вую историю. За это время были высказаны самые различные оценки: так, прижизненная критика, достаточно высоко, хотя и не без оговорок, ставившая «Свадьбу Кречинского», отказалась принять две последние пьесы трилогии. Но в дальнейшем подтвердилась правота одного из благожелательных критиков (П. П. Гнеди-ча), увидевшего в них «пьесы будущего».
Трилогия завоевала самое широкое признание, стала классикой русской драматургии и подверглась самому скрупулезному изучению. Усилиями многих исследователей (Л. П. Гроссмана, Н. А. Милонова, К. Л. Рудницкого, И. М. Клейнера, М. Я. Бесса-раб, С. Б. Рассадина, Е. С. Калмановского, В. М. Селезнева и др.) была проделана большая работа по восстановлению истории создания, публикации, сценического воплощения трилогии; привлечен обширный материал писем и дневников писателя, воспоминаний современников, прижизненной критики, фактов биографии автора и событий русской истории, помогающих в ее понимании.
К сожалению, поэтика Сухово-Кобылина оказалась изучена гораздо хуже. После новаторских работ Л. П. Гроссмана, начиная с 1930-х годов, возобладал социологический подход, следуя которому исследователи сосредоточивали основное внимание на общественно-политическом и социально-критическом значении трилогии. 3 такой интрепретации «Свадьба Кречинского» представала обыч-ю как пьеса о разложении дворянства, «Дело» — как гневный протест против произвола николаевской бюрократии, а «Смерть Та-эелкина» — как обличение чиновничьей хищности, либерального фразерства и полицейских бесчинств. Изучение поэтики пьес своди-юсь к анализу характеров героев, а также отдельных «художест-¡епных особенностей» (языка, сюжета, композиции и т. д.). Строке правило — подходить к идейной стороне произведения только [ерез анализ его поэтики —как правило, не соблюдалось.
Работы последних лет (С. Б. Рассадина, Е. К- Соколинского, 3. А. Туниманова, О. Л. Кудряшова и др.) значительно улучшили гу ситуацию. Была показана глубокая связь трилогии с фольклор-гыми мотивами, научно осмыслена многослойная структура ее гзыка, конкретизировано в применении к ней понятие гротеска.
Однако большинство исследователей не решало задачи создания единой концепции творчества драматурга, хотя сам Сухово-Кобылин настаивал на том, что его очень разнородные пьесы представляют собой трилогию.
Кроме того, существует еще ряд проблем, не получивших должного освещения в научной литературе. К ним относится вопрос о характере связи между художественным творчеством автора и его философскими интересами. До сих пор господствует тенденция рассматривать драматурга и философа Сухово-Кобылина раздельно, полагая, что «трудно придумать более полярную противоположность диаволову водевилю' Варравпиых и Расплюевых, чем гегелевский догмат о разуме, как основной сущности всех вещей»1.
Это суждение кажется бесспорным, но, тем не менее, именно гегелевский догмат о разуме вынесен в эпиграф трилогии. Мы предполагаем, что философская ориентация автора заключалась не только в принятии определенных положений гегельянства, но и в самом способе мышления, в осмыслении мира в философских категориях. В диссертации впервые предпринимается попытка создания целостной концепции творчества Сухово-Кобылина в свете гегелевских диалектических законов и категорий. В этом состоит научная новизна работы.
Помимо неоднократно попадавших в поле зрения ученых фольклорных мотивов, пьесы Сухово-Кобылина (особенно «Дело») насыщены библейскими цитатами и реминисценциями, многие из которых до сих пор не раскрыты.
Кроме того, большой интерес вызывает проблема типологиче--ского сходства между спецификой изображения Сухово-Кобыли-пым бюрократии и полиции в двух последних пьесах и структурными особенностями тоталитарных государств, возникших в XX веке.
Осмысление мифологического подтекста и 'проекция в будущее' — наиболее живые темы современного литературоведения. Обращение к ним определяет актуальность диссертации.
Таким образом, цели и задачи исследования состоят во всестороннем исследовании малоизученной поэтики драматургии А. В. Сухово-Кобылина, в создании концепции, позволяющей решить вопрос о художественном единстве трилогии, в попытке осмысления интертекстуалыюго слоя пьес, а также в соотнесении художественного мира драматурга с реалиями и литературой XX века.
Теоретической основой диссертации послужили труды русских формалистов и близких к ним ученых 1920-х годов (Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, С. Д. Балухатого и др.), структуралистов
1 Гроссман Л. П. Преступлений Сухово-Кобылина. Л., 1928, с. 225.
10. М. Лотмана, И. П. Смирнова), работы М. М. Бахтина о гро-еске и хронотопе, а также исследования ряда современных зару-ежпых ученых.
Практическая значимость диссертации состоит прежде всего выявлении большого числа явных и скрытых цитат п ремини-цепцин, объяснении многих утраченных современным русским зыком слов н выражении и некоторых реалии. Скопцептрирован-ые в приложении, эти сведения могут послужить основой для рас-шреппя существующего комментария и возможного перевода трн-огнн па корейский язык. Кроме того, выводы и наблюдения, сде-аппые в диссертации, могут быть использованы в спецкурсах творчестве Сухово-Кобылина и русской драматургии XIX века.
Апробация работы была проведена па заседаниях асппраптско-о семинара кафедры истории русской литературы СПбГУ. По те-¡е диссертации принята к печати статья.
Объем основного текста диссертации — 210 страниц, общин бъем диссертации со списком использованной литературы и прн-оженнем — 241 страница.
Структура диссертации определяется характером исследуемого ¡атерпала и поставленными задачами. Работа состоит из введения, егырсх глав, заключения, списка литературы и приложения.
Краткое содержание работы
Во введении дается краткий обзор литературы о Сухово-Кобы-нпе и формулируются задачи исследования.
Глава первая — «Человек перед лицом Случайности» — посвя-дена анализу комедии «Свадьба Кречппского». Центростремительное построение позволяет связать доминанту пьесы с вопросом | характере главного героя. Фамилия Кречинский происходит от [азвання хищной птицы — кречета, который «никогда не берет до-¡ычп с земли, но не хватает ее и па лету, а бьет сверху»2. Кре-¡ннскпй — игрок, который в своих жизненных играх имитирует (оедниок, вступая в борьбу, только когда он чувствует себя силь-[се соперника. При этом он всецело полагается па свое интеллектуальное превосходство, стремится все заранее рассчитать. Такое •тпошеппе к жизни исключает вмешательство случайных факторов, ¡оделнрует закономерную картину мира. Уверенность героя г. сво-гл силах подтверждается его иронией по отношению ко всем проблемам, волнующим других героев: к спору Муромского и Атуевоп ) преимуществах 'патриархального' и 'светского', к любви Лпдоч-(н, к 'соперничеству' Ыелькипа.
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т., М., 989, т. 3, с. 193.
Кречннский несерьезен по отношению ко всему, кроме игры и азарта. Деньги для него — не конечная цель, а средство, открывающее путь к большой игре. Традиционные в драматургии конфликты (спор города и деревни, борьба двух соперников за одну женщину, жажда денег) здесь оказываются мнимыми. Реален только поединок человека с судьбой. Кречинский борется не с людьми, а с обстоятельствами, и главной проблемой пьесы становится соотношение случайного и закономерного.
Расчеты Кречннского строятся па привычных, закономерных отрицательных качествах человека: стремление к собственной выгоде и удовольствию. Так, топкий замысел аферы с солитером основан на том, что ростовщик обязательно даст низкую цепу, и тогда можно будет, торгуясь, спрятать булавку в бумажник, а потом вынуть модель. Учитывая отрицательные качества людей, герой не принимает в расчет бескорыстия и благородства—отсюда происходит недооценка Нелькина.
Но не только благородные побуждения Нелькина подвели Кречннского: против него выступил еще и Случай в чистом виде. Решающую роль в крушении планов героя сыграли обстоятельства, ничем, кроме случайности, не мотивированные: Нелькин случайно подслушивает монолог Кречинского, в котором тот рассчитывает свои шансы, н случайно же оказывается в доме Муромских в момент передачи булавки Лидочкой Расплюеву. Роль орудия Случая Сухово-Кобылин доверяет самым старым, истертым комедийным приемам — подслушиванию и подглядыванию. 'Гегелевское' отношение к миру, заявленное в эпиграфе трилогии, оказывается иронически переосмыслено: 'разумно" (то есть, в его понятиях — расчетливо) относившийся к миру герой был побежден достаточно несерьезным для него противником, на стороне которого был Случай, выразившийся в банальном совпадении. «Русский перевод»3 эпиграфа — «Как аукнется, так и откликнется» — оказывается шире гегелевского оригинала: он постулирует не только взаимообусловленность 'разумности мира' и 'разумного' к нему отношения, но и идею неизбежной ответственности человека за свои поступки. Расчетливость оказывается не равна 'разумности'.
Подлинное отношение автора к морально-философской проблематике пьесы оказывается достаточно сложным. Этическая ущербность, в том числе неспособность учесть положительные качества людей, оказывается катастрофичной ('неразумной'); однако
3 Сухово-Кобылпп А. В. Картины прошедшего. Л., 1989, с. 5. В дальнейшем ссылки па это издание будут даваться и тексте с указанием п скобках страницы.
рн этом остается еще более высокий уровень обобщения — сфера истого случая, непредвиденных обстоятельств, которые отрицают саму разумность мира, причем эти обстоятельства принимают юрму самых банальных совпадений.
Композиция «Свадьбы Кречннского» подчинена задаче раскры-ия соотношения случайного и закономерного. Первое действие ротекает в доме Муромских, где не бывает катастроф, где есть еткие критерии и стереотипы поведения па любой случай жпз-и — в 'закономерном' хронотопе. Здесь Кречииский, точно все рас-читав, добивается полного успеха ввиду своего явного иптеллек-уального превосходства. Первый акт оставляет впечатление полон завершенности действия: победа главного героя, зависевшая олько от его личных качеств, кажется окончательной.
Однако второе действие вводит зрителей в совершенно другой пр — мир картежников, в котором непредвиденные обстоятельсг-а возникают на каждом шагу. Если первый акт строился па па-асташш успеха Кречннского, то второй основан па контрастном ринципе нагнетания неприятностей, которые на этот раз не зави-ят от воли и личных усилий героя. В кульминационном эпизоде, огда Кречииский придумывает план с подменой булавки, происхо-ит перелом, и удача возвращается к нему. Финал второго денст-чя оказывается типологически близок к финалу первого: перед ами вновь победа Кречннского, которую, как кажется, ничто не может нарушить. Получается, что герой выигрывает как в 'зако-омерпом' мире первого акта, так и в 'случайном' второго.
Третье действие состоит из двух частей, структурно близких со-гветственпо к первому п второму акту. Поведение Кречннского, опавшего в безвыходную ситуацию, отмечено артистизмом и само-Зладаннем. Все его реакции — это реакции игрока при проигры-¡е. Он озабочен не своей будущей судьбой, а тем, что игра, рас-■штанная до мелочей («Не сорвется!» (42)), все же проиграна «Сорвалось!!!» (63)).
Таким образом, анализ действия в пьесе подтверждает тезис ведущей роли оппозиции 'случайное/закономерное' в организации г структуры.
Вторая глава — «Человек перед лицом Необходимости» — ана-пзирует драму «Дело». Здесь герой, па стороне которого остают-т азторскне симпатии, Муромский, сталкивается с хорошо органи-пванной машиной подавления личности, стремящейся распространи свои нечеловеческие законы на весь изображенный мир.
Бюрократия в пьесе предстает как единая структура, отличающаяся внутренней системной организацией. Автор создает эффект гскоиечной иерархической перспективы. Границы бюрократиче-;<ой системы оказываются 'размыты': ее вершина (Весьма Важное
Лицо) теряется в бесконечности абсолютной власти, а штжш! звенья растворяются в безличности. Бюрократия стремится ш влечь в сеоя, помим о чиновников, люден самого разнообразног социального статуса, а в пределе — всю Россию. Пространстве! пому ее расширению соответствует и временное: второе действи драмы разворачивается в праздник, когда «и в лавках не торг; ют» (87); бесконечно тянется дело Муромских, и даже смерт 'просителя' не закрывает его.
Важной чертой оказывается внутренняя монолитность бюр: кратнн: бунтари (Шило) из нее изгоняются. Впрочем, сама во: можность ухода вызывает сомнения. Так, Тарелкин, мечтая о этом, говорит об уходе, как о смерти.
Основное дело, которым занимаются чиновники — взятки — н< обходимы для их существования и являются основным смыслом и службы. Беззаконие в рамках Системы становится нормативны? взяточники начинают рассматривать свою деятельность как чес нын труд. Внутри бюрократии развиваются свои понятия о добр и зле, 'этика', и даже 'эстетика' — своего рода 'культура'. Та Крек — это героическое прошлое Системы, ее предание и иедос; гаемый образец. История служившего при ¡¡ем Варравина — обр; зец воспитания настоящего чиновника, который Варравнн, дости иув власти, продолжает в 'воспитании' Тарелкина.
Умение обращаться с просителями предполагает вежливост 'честность' (взять взятку и сделать дело); «промышленная» взятк выражает чиновничье представление о справедливости; даже В' личина прогресса определяется процентом уменьшения взятки г сравнению с прошлым. Чиновники способны испытывать самь разные человеческие эмоции по поводу взятки — от тоски ; .мечты.
Брать и давать взятку — это сложное искусство, выдающиес образцы которого демонстрируют Варравнн и Тарелкин. Разумев1 ся, как 'юриспруденция', так и 'культура' чиновников находятс в полном противоречии с настоящей законностью л подлинно культурой.
Таким образом, Бюрократическая Система оказывается, по-в] димому, неуязвимой в столкновении с «частными лицами», 01 олицетворяет собой необходимость, идею чистого подчинения, и те напоминает тоталитарные государства XX века. Но в данном сл; чае, благодаря активности Муромского, дело оказывается «изгаж но» (117), чиновникам приходится пойти на явное уголовное пр ступление, и только смерть Муромского избавляет Варравина ( ответственности.
Положительные герои «Дела» демонстрируют, в основном, неспособность к борьбе с Системой. Они либо стремятся самоустраниться (Лидочка), либо абсолютно бессильны (Нелькип), либо предлагают средства, заведомо обреченные на неудачу (Атуева). В борьбу может вступить только человек, очень далекий от законов бюрократии, наивный и горячий — Муромский. Однако и он оказывается, в большинстве случаев, фигурой пассивной: им либо руководят другие лица (Тарелкин, Иван Сидоров), либо он подчиняется жесткой необходимости (дать взятку для спасения чести дочери). То есть поступки его вынуждены.
Активным героем Муромский становится только в те моменты, когда он не подчиняется необходимости, а идет против нее. При этом он не действует рационально, а свободно выражает свои эмоции. Но спонтанная активность героя приводит к ухудшению его положения, а в дальнейшем — к еще большей зависимости от Системы. Таким образом, проблема 'разумного' поведения перед лицом Необходимости оказывается достаточно сложной.
Бюрократия выработала определенное 'разумное' отношение к миру, дела которого она должна решать, обеспечивая в то же время собственное существование. Основную черту ее модели мира Варравин называет «обоюдоострость» (97). Любой набор фактов, с которым сталкиваются чиновники, должен быть истолкован двояко: в сторону виновности просителя, если он не заплатит, и в сторону его невиновности — если заплатит. Такая модель создается, в одних случаях, за счет отказа от решающей роли чисто юридических доказательств, и за счет строгого следования букве закона — в других. Кроме того, необходимо умение толковать чужие слова по-разному, используя игру слов. Варравин настолько уверен в этом своем умении, что говорит Муромскому: «Вы не беспокойтесь: вы всегда скажете то, что нам нужно» (96).
Таким образом, 'разумность' и 'необходимость' для Системы оказываются тождественны. Вся ее деятельность направлена па полное подчинение человека, и в то же время сама подчинена необходимости поддерживать свое существование. Для человека, попавшего в колесо бюрократической машины, есть только один 'разумный' выход — подчиниться. И если бы Муромский поверил письму Кречипского н дал ту взятку, которую изначально требовал от пего Варравин, он бы не погиб. Но вместо этого Муромский стал поступать 'неразумно' с точки зрения Системы, разрушив основу основ ее деятельности — «обоюдоострость» дела. В этой ситуации и Варравин пошел на неразумный поступок: уголовное преступление, после которого его должны были оставить «в подозрении» (135).
Диалектика разумного и неразумного в «Деле» такова, что именно 'неразумный' герой способен нанести вред Системе: Варравин в случае плохого для него исхода нового дела собирается уйти на покой. Но Муромский в пьесе умирает. Это не дань драматической традиции, а принципиальное решение автора, исходящее из философского положения, указанного в эпиграфе трилогии. Если действительное разумно, то противостоящий ему погибнет. Другое дело, что 'действительное' принимает в «Деле» черты кошмара, наваждения, приобретает облик гротескного чудовища.
Вторая пьеса Сухово-Кобылина отличается от первой более глубоким интертекстуальным слоем. Предвосхищая поиски писателей XX века, драматург придает изображаемым событиям мифологическое освещение—путем сложной системы сравнений, скрытых цитат и реминисценций.
Восприятие засилья бюрократии как дьявольского наваждения, «репетиции» конца света, свойственно в первую очередь Ивану Сидорову— староверу, для которого эсхатологические сравнения — не пустой звук, а подлинное признание близости светопреставления. Чиновничья Система предстает в драме в двух своих ипостасях — в прошлом и настоящем. Ключевыми фигурами их являются соответственно Крек и Варравин. Оба эти героя получают мифологическую интерпретацию. Крек путем реминисценций отождествляется с Вельзевулом — 'князем бесов', которому подчинено бесовское войстко, а Варравин — с Антихристом, основателем последней деспотии, которая сделает так, «чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откр. 13, 15). «Образ зверя» в пьесе представлен большим спектром зооморфных сравнений. Иван Сидоров цитирует 103-й псалом, псалом о сотворении мира— одно из самых ярких свидетельств разумности мироустройства с точки зрения мифологического сознания. Но из всего псалма он выбирает строки, говорящие о самых дисгармоничных из божьих созданий—о пресмыкающихся («гадах»), которые не могут не хотеть есть и поедают своих ближних.
Таким образом, через скрытую библейскую цитату тема необходимости взятки для существования бюрократии относится со сквозной философской темой трилогии. Сравнение с «гадами» — наиболее устойчивое во всей пьесе, и возникающая в связи с ним тема дисгармоничности — яркая черта гротеска.
Гротеск как «амбивалентная ненормальность» 4, проникает в структуру «Дела» многими способами. Наряду с зооморфными сравнениями («волки-сыромахи», «ров львиный», «бык», «собака»,
* Thomson Ph. The Grotesque- L., 1972. p. 27.
свинья» и т. д.) встречаются прямо противоположные — 'охот-шчьи' («звероловы», «западня», «капкан» и т. д.). Так создается [«бивалентный образ чиновничества, совмещающий несовмести-юе — зверя и охотника.
Есть и глобальные сравнения, например, сравнение с Левнафа-юм — неуязвимым библейским чудовищем, которое впоследствии "ом ас Гоббс отождествил с всесильным государством.
К гротескным мотивам относится и мотив 'расчленения тела', осуществляемый в пьесе как на вербальном уровне (Варравин — голова» Системы, Тарелкнп — «руки», а туловище «особо» (84)). ак и буквально (Тарелкин в финале снимает парик и вынимает скусственные зубы). Все эти приемы преследуют цель теми пли ными средствами метафорически определить Систему и способ-твуют созданию образа гротескно-непредставимого чудовища.
Сухово-Кобылин, по-видимому, был хорошо знаком с гегелев-кой интерпретацией гротеска. «Гегель характеризует гротеск тре-[я чертами: смешением разнородных областей природы, безмер-остью в преувеличениях и умножением отдельных органов. -'...> Организующей роли смехового начала в гротеске Гегель овсе не знает <...>»5. Все эти черты легко найти в «Деле».
Таким образом, появление гротескных элементов в форме ро-актического 'отрицающего' гротеска можно объяснить философ-кими интересами Сухово-Кобылина,
Третья глава—«В мире словесных значений» — посвящена нп-зрпретации «Смерти Тарелкина». В последней пьесе мы встречайся с особым характером драматического слова — словом, втирающимся в реальность и подчиняющим ее себе. Мотивы узнава-гш/'неузнаваний героями друг друга всегда оказываются связаны авторитетным свидетельством. Так, длительное неузнаваине пе-еодетого Тарелкина обусловлено тем, что сам «Генерал Варравин охороны справлял — сомнение невозможно!» (162). Свидетельств а «кавказского героя», «ученого этакого мужа» (170) (несущест-ующего капитана Полутатаринова) о том, что пойманный /бъект — «вуйдалак», оказывается достаточно, чтобы в это пове-ила полиция. Узнавание Тарелкина отталкивается не от его осо-ых примет, а от гротескно-абстрактного словесного 'портрета', ко-зрый ничего не описывает. 'Переименования' Расплюева в квар-зльиого надзирателя достаточно, чтобы его не узнали хорошо ¡агощие его по делу Муромских Варрин и Тарелкин. Брандахлы--ова, прожившая с покойным Копыловым одиннадцать лет, отожествляет совершенно незнакомого ей Тарелкина с Копыловым, этому что полиция назвала его так.
5 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневс->вья н Ренессанса. М., 1990, с. 31.
Все эти случаи вытеснения реальности авторитетным слово; объясняются тем, что для человека, привыкшего к строгой бюрс кратичсской регламентации всех сторон жизни (а таким впосле; ствпи станет человек тоталитарной эпохи), невозможно сомпенн в истинности авторитетного слова всех видов: будь то слово не чалышка, свидетельство 'героя' или 'ученого', официальный док} мент или слова представителя карательных органов.
'Авторитетное слово' — не единственный способ вытеспени реальности, который использует Сухово-Кобылин. Другим важны способом создания абсурдно-комического эффекта в пьесе являет ся реализация идиом. Фразеологизмы, тропы, каламбуры — любы смещения прямого значения слов — возвращаются автором к и прямому значению и буквально реализуются на сцене. Так, целы эпизоды организованы реализацией идиом 'залезть в чужой ка{ ыан' (обворовать) и 'взять за шиворот' (поймать); 'лгать, как н мертвого'; 'червячка заморить' (закусить) и др. 'Смерть' Тарелю на связана с реализацией метафоры 'загнать живого в гроб' (з; мучить).
Особую роль играют в пьесе каламбуры. На принципе кала,\ бура построена вся ее вторая часть: одному означающему (по! манному субъекту) приписывается сразу несколько означаемы: По мнению полиции, он одновременно и «вуйдалак», и Тарелкш и Копылов: «Расплюев. <. ..> этот Вуйдалак таперь на две поле вины разбился — одна выходит Тарелкин, а другая — Копылое (168). Свидетельские показания, подтверждающие оборотничеств! представляют собой чистый каламбур. Каламбурны и собстве! ные показания Тарелкина против себя. Каламбуры, выполняйте обычно комическую функцию, связаны здесь с ситуациями пыто: массовых арестов, всевластия следствия и другими характерным особенностями тоталитаризма, которые в зародыше сумел разгл: деть Сухово-Кобылин.
Но «Смерть Тарелкина» не только поднимает политические моральные вопросы, важность которых была осознана лишь поз; нее. Сама поэтика пьесы обращает современного читателя к про( лемам, ставшим в центр гуманитарных дискуссий нашего времен] соотношение языка и реальности; обусловленность языковой ка] типы мира опытом прошлого и собственно внутриязыковыми пр| цессами; дезориентирующее влияние языка на мысль. Прием ре, лизации непрямого значения слова, использованный Сухово-Кобг л иным, предвосхищал эти поиски.
Гротескный подход позволил автору построить мир пьесы I готовых словесных 'блоков', и этот мир оказался не только нелег смешным, но и страшным. Каждый читатель трилогии интуитивт чувствует гротескную природу ее героев — их 'нечеловечносп Способы 'расчеловечивания', которыми пользуется Сухово-Коб! 12
лин, оказываются различными. Строя образ Тарелкииа, автор всячески избегает по отношению к своему герою слова 'человек'. Вместо этого появляются различные заменители — 'кукольные' п зооморфные.
'Амбициозность' героя проявляется в стремлении доказать, что и он тоже человек. Тарелкин представлен как 'разъемный' персона:'::, состоящий из механически соединенных частей. Его подлинное, естественнее человеческое лицо оказывается постоянно скрыто от зрителя: сняв атрибуты одной маски, он тут же надевает атрибуты другой (Копылова). 'Скрепляющая' функция имени персонажа также оказывается ослабленной иронической аллегорией.
Тарелкин уже в «Деле» представлен как почти гротескная фигура. Иначе обстоит дело с Расплюевым. В задачу автора входило отождествление шулера из «Свадьбы Кречииского» с «квартальным поручиком» последней пьесы — несмотря па полную перемену действенных функций персонажа. Такое решение было потенциально заложено в первой пьесе: уже там 'страдающий' от побоев герой мечтает поменяться положением с себе подобными.
Сухово-Кобылипу не просто чуждо традиционное сочувствие к «.маленькому человеку», — предвосхищая Достоевского, Чехова и литературу XX века, он уже уверен, что в таком человеке заложен тиран, деспот. И в «Смерти Тарелкииа» автор показывает, при каких условиях государственная машина становится орудием всеобщего разрушения, — решая эту тему, как ни странно, через характер такого героя, как Расплюев.
Доверчивость и наивность Расплюева первой пьесы, повторяющего слова 'хозяина', даже не понимая их значения, демонстрирует полное отсутствие своего собственного представления о мире н готовность заполнить эту пустоту мнением другого, уважаемого им (за «ум», силу, власть) человека. То же самое качество у Расплюева третьей пьесы, получившего власть, становится гибельным для окружающих. Оно оборачивается некритическим принятием любой идеологии «ученых этаких мужей», указавших врага и 'научно' его назвавших. В XX веке нашлись миллионы людей, по-расплюевски доверчиво поверивших, что «мцыри» ('буржуи', 'евреи') 'пыот народную кровь'. Сухово-Кобылин очень рано сумел разглядеть подобный тип сознания.
Сознание Расплюева внеморально. Нормальные человеческие понятия о добре и зле для него не существуют; они отождествляются с понятиями о физически приятном пли неприятном. В гротескном мире «Смерти Тарелкина» на место морального критерия становятся архетипнческие структуры, соотносящие живое с неживым, сознательное — бессознательным, человеческое — с животным. Единство двух Расплюевых, в частности, скрепляется метафорической ассоциацией героя с собакой, проходящей через обе
пьесы. Эксплицирование этой ассоциации однозначно указывает па то, что уже в герое «Свадьбе Кречннского» был заложен гротескный потенциал, который полностью реализовался только в 'словесной реальности' последней пьесы, где слова переходят в действия. В результате сведения зловещих 'нелюдей' в одном хронотопе и трансформаций уже изображенных героев создается мир, внутри которого не существует понятий о добре и зле, мир гротескной абсурдности, близкий к будущей реальности тоталитаризма.
Четвертая глава — «Образ Целого» — посвящена проблеме художественного единства трилогии. Наличие формальных показателей такого единства — сквозных персонажей, сюжетных скрепой—еще не определяет 'общей идеи' автора. Ее следует искать на уровне основополагающих структурных составляющих пьес; в данном случае предлагается решать этот вопрос через анализ хронотопа трилогии.
Место действия первой пьесы — Москва — существует в двух ипостасях: для «деревенских жителей» (7) Муромских — это культурный центр, 'город'; для петербургского светского льва Кречннского — провинция, 'деревня'. Муромский и Атуева демонстрируют два возможных отношения к городской цивилизации — негативное и позитивное. Успехи 'коммерческих' жизненных игр Кречннского, рассчитанных на интеллектуальное превосходство, обусловлены преимуществами 'столичного' героя. Если для Муромского Москва—это нечто деструктивное (разоряющее, бесцельное), и, следовательно, — случайное, для Кречинского, вооруженного 'столичным' ритмом — нечто легко предсказуемое, закономерное.
Но соотношение этих диалектических категорий оказывается сложнее того, которое выводится из точек зрения самих героев. 'Закономерный' хронотоп дома Муромских, в котором его хозяин стремится поддержать 'деревенские' порядки, оказывается помещен внутри московского ('случайного' с точки зрения самого героя) хронотопа. И па это накладывается другое осложнение: в дом Муромских вторгается Кречинский, носитель иных, деструктивных тенденций. 'Хронотоп Кречинского' песет на себе явные следы описанного М. М. Бахтиным «авантюрного» хронотопа<:; здесь оказывается важна оппозиция 'успеть/не успеть', разрывается нормальный жизненный причинный и целевой ряд, «время случая» соотносит человеческую жизнь с категорией судьбы, и моменты его «не могут быть предусмотрены с помощью разумного анализа» 7.
г См. Бахтин М. М. Формы времени л хронотопа и романс // Бахтин М. М. Воспросы литературы и эстетики, М., 1975, с. 234 — 408.
7 Там же, с. 245.
Столкновение двух миров — 'случайного' и 'закономерного' — обусловлено сложным переплетением двух хронотопов, и двойственное 'метапространство' Москвы дает возможность для этого.
Тема 'чужого пространства', начатая в первой пьесе, получает развитие в «Деле», где действие переносится в Петербург. Доминанта 'петербургского хронотопа' драмы — механичность связей между людьми (как между «рабочим колесом» и «колесами, шкивами и шестернями» (67) бюрократической машины). Петербург и чиновничья Система оказываются в пьесе тождественны: все петербургские персонажи — это чиновники; характеристики бюрократии, о которых говорилось ранее, оказываются изоморфны 'образу города'. Муромские разоряются Петербургом, теряя дома и вотчины, зато чиновники укореняются именно в столице.
Противопоставление Петербурга Москве получает дальнейшее развитие. Показательна характеристика чиновника Чибисова в «Данностях», в которой Петербургу приписывается двойственность, скрывающая отрицательную семантику под положительной, а Москве — простота, прямота, привычка называть вещи своими именами. Муромские плохо ориентируются в петербургской 'двойственности', они пытаются судить о столице по тем 'разумным' меркам, к которым они привыкли в провинции и Москве. Такой способ ориентации в сильно структурированном и разобщенном обществе оказывается неадекватным и ведет к катастрофе.
Существенной чертой, отличающей «Дело» от первой пьесы, является проекция событий па 'большой' хронотоп мифа и истории. Pío в то же время заметно и усиление конкретных примет города и исторического времени. Драматическое (событийное) время в пьесе также становится более 'реальным', приближенным по своему течению к сценическому времени. Здесь обращает на себя внимание устранение примет «авантюрного хронотопа». Теряет свое значение оппозиция 'успеть/не успеть', что хорошо видно из сравнения положения запутавшихся в долгах Тарелкина и Кре-чинского. 'Одновременность/разновременность' столкновений героев в определенном месте пространства также оказывается менее важна: бюрократия перераспределяет все формы общественной жизни по соответствующим департаментам, так что проситель непременно попадет в кабинет нужного чиновника в отведенное время. Взяточничество—не авантюра, а налаженный процесс, практически исключающий элементы удачи, случайности, совпадения и т. п. Это область господства необходимости.
Муромские, привносящие в Петербург свой 'деревенский' хронотоп, оказываются для Системы в роли случайного, дестабилизирующего явления. Но именно бунт Муромского оказывается единственно 'разумным' поведением. Таким образом, обе пьесы дви-
жутся единством и борьбой противоположностей — 'случайного' к 'закономерного' хронотопов, но во второй пьесе происходит инверсия полюсов: то, что было закономерным в Москве, становится СЛУЧи иным в Петербурге.
В «Смерти Тарелкина» мы встречаемся с редким случаем серьезного нарушения хронотоппческого единства произведения. Действие пьесы организовано не столько логикой событий, закономерно вытекающих одно из другого, сколько 'словесной реальностью', заменяющей референтный мир реализованными идиомами. Пространственно-временная локализация становится условна. Приметы Петербурга теряют свое разнообразие и оказываются вариантами словесных значпмостей. Почти все упоминаемые ло-кусы имеют отношение либо к 'могиле', либо к 'тюрьме'. С этими понятиями соотносятся и места сценического действия: квартира Тарелкина ('могила') и полицейская контора ('тюрьма'). Разоренные, лишенные уюта, мертвые локусы «Смерти Тарелкина» представляют мир, уже ввергнутый в катастрофу. Борьба 'гадин' осуществляется в пространстве, полностью лишенном человечности, 'выморочепном месте', открывающем простор для нечистой силы.
Бесконечность, которая в «Деле» представала в виде иерархической перспективы, здесь мыслится почти буквально — как опустошенный мир, мир не реальности, а чистых словесных значений. История подвергается саркастическому осмеянию: исторические события либо проецируются на 'подвиги' персонажей («Расплюев. Я Шамиля взял!!!» (167)), либо оказываются частью фантастической биографии несуществующего человека («кавказский герой» капитан Полутатарниов).
Высокая мера условности, размывающая хронотоп пьесы в некое вневременное 'царство зла', проявляется и в том, что действие выходит за рамки сценического пространства в зрительный зал. У многих монологов появляется адресат—зритель, а последний монолог Тарелкина предполагает даже ответ со стороны публики. Это связано с тем, что суждения о разумном и неразумном, случайном и закономерном, 'нейтрализованные' внутри художественного мира пьесы, теперь полностью перепоручаются зрителям.
Небольшой раздел четвертой главы посвящен специфике пьес С'ухово-Кобылина как синкретических жанровых образований, совмещающих конструктивные особенности эпического и драматического литературных родов. Анализ афиш и ремарок убеждает в том, что многие смыслы, доступные читателю, оказываются принципиально не воспроизводимы па сцене. Система лейтмотивов и разноуровневых перекличек, а также интертекстуальный'слой, по-
троенный на ремшшсцептной основе, оставляет открытой возмож-осгь разнообразных интерпретаций, подразумевает работу над екстом, недоступную театральному зрителю.
Синкретизм трилогии показывает, что творчество Сухово-Ко-ылипа представляло собой попытку реформирования драмы, редшествозавшую чеховской реформе и альтернативную ей.
В заключении прослеживается развитие синтетической фило-сфскон темы во всей трилогии. Тема разумного отношения к мн-оуетрсйству развивается по степени нарастания трудности для еловека выбора этого отношения. Трудно оправдать мир, в кото-ом все решает случайность. Еще труднее найти разумное поведение перед лицом жесткой необходимости. Но самое трудное — рнзнать абсурдное абсурдным, если оно захватило и уничтожило се разумное.
В приложении, озаглавленном «Предлагаемые дополнения к ;оммеитариям «Картин прошедшего» А. В. Сухово-Кобылина серии 'Литературные памятники'», приводятся 125 комментариев, которые раскрывают скрытые библейские и литературные аггаты, а также толкуют слова, отсутствующие в современном |усском языке.
По теме диссертации будет опубликована статья:
«Библейские реминисценции и элементы гротеска в «Деле» \. В. Сухово-Кобылина» // Вестник С.-Петербургского уннверси-■ета. 1994, № 23. История, языкознание, литературоведение. Зып. 4 (в печати).
Заказ 184. Тиран: 100 акз. Объем 1 и. л. 18.05.94 г. Бесплатно