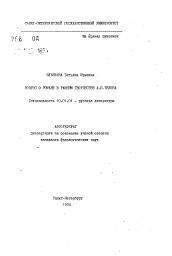автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Вопрос о романе в раннем творчестве А. П. Чехова
Полный текст автореферата диссертации по теме "Вопрос о романе в раннем творчестве А. П. Чехова"
САШ'-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Г 6 О Д ^Равах РУКОПИСИ
ИЯШИНА Татьяна Юрьевна • ВОПГОС О РОМАНЕ В РАННЕМ ТЮРЧЕСТВЕ А.П.ЧЕХОВА Специальность 10.01.01 - русская литература
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание-ученой степени кандидата филологических наук
Санкт-Петербург - 1994
Работа выполнена на кафедре истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета.
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор А.Б.Муратов Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор К.Д.Гордович кандидат филологических наук, доцент Н.М.Малышева Ведущая организация: Санкт-Петербургская государственная академия культуры
/ Защита диссертации состоится 1994 г.
ча0» та заседании специализированного совета К 063,57.42 по присуждению ученой степени кандидата филологических наук в Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 11,
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке имени А.М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета.
Автореферат разослан ".¿2" 1994 г.
Ученый секретарь - кандидат
специализированного совета филологических: наук,
доцент А.И.Владимирова
Адтуачьность и новизна исследования. Проблема романа в историко-литературном процессе Х1Х века - центральная для литературоведения. Принципиально же не романное творчество А.П.Чехова постоянно подталкивает исследователей к решению вопроса о том, как соотносятся рассказа и повести писателя с историко-литературным процессом, или - в каком соотношении с романной традицией они находятся.
Этот вопрос встал уже в критике /А.С.Суворин, Н.К.Михайловский и др./, и современники Чехова много и часто писали о тщетных попытках писателя создать роман; обсуждался он и в литературоведении /Б.М.Эйхенбаум, Н.Я.Берковспий, Б.И.Бурсов и др./. Мнения разделились. Часть исследователей считает чеховский рассказ зрелой поры его творчества адекватом романа, другие /С.Д.Балухатый, Н.Я.Берковсккй, И.Н.Сухих/ - в драматургии писателя видят ту "большую форду" в искусстве, которую он долгие годы искал и не находил. В последнее время в связи с проблемой романа активно обсуждается вопрос о сборниках Чехова.
Письма Чехова 1880-х гг. наглядно свидетельствуют о том, что проблема романа не особенно занимала тогда писателя. В современных литераторах Чехов ценит прежде всего умение быть объективным /не подыгрывать читателю, не "зашориваться" "предвзятыми идеями и системами"/, оригинальным /не "дуть в рутину", наблюдать жизнь не "в потемках и сырости водосточных труб"/, разнообразным /владеть разной формой/. Как справедливо писала К.Д.Муратова, Чехов в это время "не связывал еще с большой формой серьезных литературных задач", и "роман привлек молодого автора не более широкими возможностями отображения жизни, а как особый вид литературы, в котором ему хотелось попробовать свои силы"!
Тем не менее именно в ранний период творчества писателя отчетливо проступает определенная тенденция: он сделал несколько попыток создать роман и неоднократно высказывал свое'отношение л романной традиции. Как связанные с интересом Чехова к роману обычно рассматривают его большие произведения, созданные в 1880-х гг. /"Ненужная победа", "Цветы запоздалые", "Драма на охоте"/. Кроме того в связи с вопросами большой жанровой формы находятся и некоторые "мелочишки" Чехова: "Летающие оотрова".
1 Муратова К.Д. Возникновение социалистического реализма в русской литературе. М.;Л., 1966, СИЗ.
"Тыояча одна страсть или Страшная ночь" и др. Каков смысл всех этих своеобразных "упражнений" в романном роде и какой след они оставили в творчестве Чехова - такова главная общая цель диссертационной работы.
Эта обшая цель предопределяет решение некоторых частных проблем: восстановление газетно-журнального контекста "больших" чеховских текстов, обследование некоторых специфических вопросов, диктуемых конкретным материалом /русская рецепция М.йокаи - "Ненужная победа", "газетный роман" - "Драма на охоте" и т.п./. Она же предопределила включение в диссертацию анализа повести "Степь"-нереализованной попытки создать роман в период "перелома" в творческой эволюции Чехова. Сравнение "Степи" с "большими" произведениями писателя периода его юмористической деятельности позволяет поставить вопрос о принципиальном отличии их с точки зрения проблемы романа, как она вставала в раннем творчестве Чехова.
Материалом исследования послужило творчество А.П.Чехова 1880-х гг., материалы газеты "Новости дня" /с начала ее издания -ишь 1883-го г. - по 1885-й г./, журналов "Будильник", "Мирской толк", "Свет и тени", "Кругозор", "Москва" и др. за период 18801884-го. гг.; все переведенные на русский язык и опубликозанные в русской прессе произведения Мора йокаи, и критика на них. В работе использовались материалы рукописной картотеки В.Бахтина /ИРЛ.И/, картотеки Умикян /НРБ/.
Аптобапия работы. Материалы диссертационной работы обсуждались на аспирантском семинаре при кафедре истории русской литературы СПбГУ /февраль, 1991/ и на заседании кафедры истории русской литературы СПбГУ /январь, 1994/.
Практическое значение. Результаты исследования могут быть использованы в общих и специальных вузовских курсах по истории русской литературы второй половины Х1Х века.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, насчитывавшего 368 наименований, приложения.
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и новизна, рассматривается степень изученности поставленной проблемы, определяются цели и задачи исследования. Введение также содержит анализ писем Чехова, посвященных изучаемому вопросу, и чеховских "мелочишек", в которых затронута "проблема романа".
Петаая глава - "Драма на охоте" в газете "Новости дня" -посвящена произведению, вызвавшему противоречивые суждения в литературе о Чехове. Исследователи, писавшие о "Драме на охоте", рассматривали это произведение как газетный роман /"Драма на охоте" была опубликована в разделе газетного (фельетона. "Новостей дня"/, как уголовный роман, ориентированный на произведения Э.Га-борио и А.А.Шкляревского /оба писателя упоминаются в самом тексте повести/, как оригинальное произведение, связанное с принципами складывавшейся в 1880-х гг. поэтики Чехова. В диссертации "Драма на охоте" рассматривается в ее тесной связи о материалами газеты, в которой она была напечатана. Автор диссертации исходил при этом из того убеждения, что периодические издания, в которых печатался Чехов, не бнли "все на одно лицо". У каждого из них был свой круг излюбленных тем и сюяетов, кавдое из них ориентировалось на конкретного читателя, и Чехов это учитывал.
Анализ материалов газеты "Новости дня" /с момента выхода ее первых номеров и до 1885-го г. - времени окончания публикации "Драмы на охоте"/, осуществленный в полном объеме впервые в реферируемой работе, показывает: Чехов явно стремился к тому, чтобы его роман был прочитан как произведение, органичное для этой газеты. "Драма на охоте" связана с материалами газеты: грозы, полиры, мошенники разных мастей, отравления фосфорными спичками, говорящий попугай - свидетель преступления, убийца, готовящий мемуары о своей жизни, - все эти факты, обыгрываемые Чеховым, находят прямое соответствие в многочисленных материалах "Новостей дня". В этом смысле чеховский текст оказывается близок газетному фельетону. Одновременно он близок и "газетному роману", преследующему цель поразить сознание читателя, расшевелить его. Это достиг,элось за счет мелодраматизма -.основного структурного элемента таких произведений. Чеховский роман вполне сопоставим с ними. "Автор питает слабость к эгДюктам и сильным фраза!/!"? использует элективную мелодраматическую композицию с эффектным" началом, концовкой'и эпилогом, "акцентированным" завершением отдельных частей произведения; в романе Чехова много говорится о предсказаниях и предчувствиях персонажей /вое сбываются/, вещих
п
Чехов А,П. Поли.собр.соч. и писем. Сочинения. М., 1975. Т.З. С.246. Далее чеховские произведения цитируется по этому изданию с указанием в скобках после цитаты номера тома и страницы.
снах, герои его много и о увлечением рыдают, рвут на себе волосы. Все это очень органично поэтике массового романа. Сам Камышев похож на героя такого романа. Таким он видится редактору, которому приносит свою повесть, и сам однажды ловит себя на том, что ведет себя, как "Jeune premier, исполняющий самое патетическое место в своей роли"/3, 327/. Впрочем, очевидно, что собственно сюжет камышевской повести связан именно я только с именами Габорио и Шкляревского. Судьба Ольги Скворцовой /"девушки в красном"/, особенно в том виде, в каком она предстает в изложении судебного следователя /"...Кизнь Ольги в последнее время состояла из оплошного романа. Роман этот бал такого сорта, что обычно оканчиваются уголовщиной. Старый любящий муж, измена, ревность, побои, бегство к любовнику-графу через месяц-два после свадьбы. .. " - 3, 384/ - может напомнить уголовные романы из "великосветской" жизни Габорио, а образ судебного следователя, живущего ореди будущих участников жизненной драмы и описывающего ее впоследствии, - произведения Шкляревского. Но подчеркнуто мелодраматический элемент стиля "Драмы на охоте" ориентирует такой сюжет на "газетный роман".
Впрочем, повесть Камышева "лучше и интереснее очень многих уголовных ро!/,анов"/3, 409/ именно тем, что этим шаблоном не исчерпывается. Уголовно-мелодраматический сюжет - только повод-стержень, вокруг которого закручивается исповедь убийш - начинающего. писателя, а вмеоте о ней - и разговор о большой форме, ее героях, типах, излюбленных деталях. Что и предопределило "кое-какие" литературные достоинства произведения, отмеченные чеховским редактором.
'. Шаблон в повести не один, их много. О шаблоны буквально спотыкается рассказчик. В анализ вводятся, кроме откаченных в комментариях к Полному собранию сочинений, новые примеры. В частности, "разворачивается" тезио Г.Л.Вялого об "ощутительном намеке" на "Преступление и наказание" в финале "Драмы на охоте", обнаруживаются более или менее ощутительные намеки на знакомые по Пушкину, Гоголю и другим писателям ситуации и положения. В целом произведение оказывается гигантской литературной свалкой, гуляя по которой можно встретить и лирический пейзаж, достойный кисти Тургенева, и сюжетную ситуацию из "великосветского' романа » 1» Маркевич, наткнуться на гоголевского персонажа, или героя Доде. Все перемешалось. Эта путаница необходима самому
герою. Камышев сознательно затуманивает повествование сетью литературных ассоциаций, сам прячась то за маску Онегина-Печорина, то "притворяясь" гоголевским персонажем. Урбенину же проча судьбу Арбенина-Отелло. Это игра с читателем.
В целом же оригинальность произведения проявляется в неожиданном скжетном разрешении уголовной ситуации: убийцей оказывается сам судебный следователь, расследующий, таким образом, собственное преступление.
Рассмотрение "Драмы на охоте" "внутри" "Новостей дня" /в соотнесении с газетной хроникой, беллетристикой/ наглядно демонстрирует абсолютную органичность этого произведения принятому здесь /в газете, газетах, быть может/ типу повествования: в духе Габорио, в духе Шкляревского, "набивших уяе оскомину читающей публике". Серьезных литературных задач тут нет. Приметы и отголоски большой литературной традиции: ее излюбленные детали, образы и даже особое "увлечение" Достоевским - не противоречит этому. Все это вполне умещается в газетном романе, тем самым предоставляя талантливым авторам практически неограниченные возможности.
Адресат "Драда на охоте" - "газетная" публика, хладнокровно переваривадиая "страшные" уголовные романы, с сознанием, привыкшим скользить по поверхности факта, не вдумываясь и не вчитываясь в текст. Средний читатель, чей уровень "брал в соображение" Кшгшиев, когда писал повесть. Двигало ем желание "начхать всем на головы". И судя по непрекращающимся дискуссиям по поводу "Драмы на охоте", ее автору это удалось.
Вторая глаяз диссертации - "Маленькие, романы" А.П.Чехова в "мелкой" прессе 80-х гг." - посвжена "Цветам запоздалым" и "Ненужной победе". В первой части главы "Цветы запоздалые" рассматриваются в сравнении с написаниями на сходный сюжет - "Зеленой косой" и "Скверной ксторией".
"Цветы запоздалые" и "Скверная история" структурно схожи, несмотря на сушественнке различия в объеме. Начало, сразу вводящее в курс дела, рассказ о деле и акцентированный поворот к развязке, оформленный словесно почти товдественно; следующее за ним объяснение стремительно приближает финал, превращая одно произведение в "скверную историю", а другое - в грустную элегию о несостоявшейся любви. Сходство произведений не ограничивается "структурными" соответствиями. "Нзпросыхаюиая" "богемная"
коыпания во главе о поручиком Набрыдловым из "Скверной истории" как бы перекочевывает "за кулисы" "Цветов запоздалых". Она отзовется в пьяных кутежах Егорушки да в образе Калерии Ивановны, бесцеремонно распоряжающейся в чужом доме. Разница двух произведений определяется журнальным контекстом и материалом, из которого обе повести вырастают.
"Источник" "Скверной истории" - журнал "Свет и тени" с его вниманием к взаимоотношениям полов /неверность жен, мужей, ловля женихов, браки по расчету и т.п./ и жизни богемы. "Цветы запоздалые" выросли в несколько иной среде, хотя и схожей. "Мирской толк", как и "Свет и теки", издававшийся и редактировавшийся поэтом Н.Л.Пушкаревым, представлял собой издание с б,олее широким общественным кругозором. И хотя здесь тоже публиковались уголовные романы или "исторический роман из жизни русских тайных сектантов" И.Кондратьева "Иерихонская роза" /он публиковался и в журнале "Свет и тени"/, общий тон определял, с одной стороны, Л.Пальмин, а с другой - любовные истории подобно роману А.Алексеевой "Один из многих" или повести Д.Н. "Бабочка" /из журнала "Кругозор" - 1880 г./ и др. Основное унылое, безнадежное, элегическое настроение "Бабочки", ее главные герои Линовские /хворающая мама, дочь, "здоровая на вид", но ташая, как свечка, из-за любви к "эктору Гриневичу, и умершая внезапно в ясный солнечный весенний день; сам доктор Гриневич, возбуждавший не мало толков в городе шт /, ряд других примет могут напомнить многие мотивы и ситуации чеховского повествования. В "Одном из многих" тоже есть доктор, хотя и не практикующий, Текинов, влюблявшийся во 'всех героинь "наперерыв". Маша /имевшая больную бабушку - именно там Текинов проявляет свои медицинские способности/ - его первая жена. Затем - долгое мучительное увлечение графиней - светской львицей, и, наконец, "настоящая любоьь" к ее падчерице Анне. Их отношения развиваются утрированно сложно, со взаимными недопониманиями и "роковыми" случайностями. На пути к счастливому финалу они неоднократно будут "доказывать" что-то друг другу, совершать "непонятные" поступки^ Вероятно, такие романы имел в виду повествователь "Цветов запоздалых", когда сoodmaji о читательском кругозоре Маруси: "Она недаром начиталась романов, в которых женятся и выходят замуж назло любимым людям, назло, чтобы дать понять, уколоть, уязвить"/1, 416/.
Главная героиня чеховской повести - княжна Маруся смотрит
на жизнь сквозь призму литературных шаблонов. Ее увлечение тургеневскими романами приводит к тому, что она логику живой жизни подменяет литературной. Логикой поведения знакомых литературных персонажей поверяются и объясняются мотивы поведения окружающих ее людей. Так, пьянство Егорушки объясняется безнадежной любовью, мучаюшей "отставного гусара", а сам Егорушка видится "непонятым, непризнанным" Рудиным, сломленным судьбой. Вообще текст чеховской повести заставляет не раз вспомнить образы и ситуации романов Тургенева. Вместе с тем одна из финальных фраз, мотивирующих дальнейшие трагические события /"...не цвести цветам поздней осенью"/, напоминает, что чеховская повесть названа по одной полустроке апухтинского стихотворения, очень популярного в 80-е голы, как и творчество А.Н.Апухтина в целом.
Тургеневско-апухтинское элегическое осмысление человеческой судьбы - камертон "Цветов запоздалых".
Произведение с еше более серьезной репутацией, связанное с темой "Цветов запоздалых" и "Скверной истории" - "Зеленая коса". Оно населено реальными лицами, близкими друзьями Чехова. Общий . тон повествования /о дачных проделках веселой компании молодых людей, гостящих, у княгини Мккшадзе/ - идиллически-водевильный. Здесь нет разочарований, горя и страданий. Все удается и легко устраивается. Маленький переворот в доме княгини, устроенный компанией, расстроившей помолвку княжны Ольги с князем Чайхид-зевнм и соединившей влюбленных /княжну и поручика Евграфа Егорова/ с волшебной легкостью завершился временным удалением компании "с глаз долой". А затем ... мир склеился сам собой.
Троекратное .использование сходной темы /интересна, безусловно, последовательность создания этих произведений: серьезная идиллия —анекдот --> элегия/ все же не указывает на поиски жанровой формы, а скорее свидетельствует о выборе фабулы, варьи-руюиейся в зависимости от "адресата". Мы не- видим и здесь серьезных литературных задач. Главным оказывается вновь читатель, для которого и написаны произведения. Такой читатель в повести "Цве-. ты запоздалые" - Маруся, воспитанная на "душещипательных, сентиментальных романах", среди которых почетное место занимали й романы Тургенева. Чехов относится к своей героине с нежной иронией и в конце повествования словно реабилитирует "для нее" литературную традицию. Финальная часть повести /переоценка Топорковым своей жизни и погоня за утраченным счастьем/ абсолютно
серьезна. Но лишь на мгновение жизнь в чеховской повести восстанавливает права литературной традиции, вслед за этим, в эпилоге произведения. - насмешка над читателем, расположившимся, быть может, "элегически" скорбеть над несбившейся любовью. Топорков, вернувшись из Франции, продолжает зарабатывать пятирублевки, взял к себе в дом Егорушку, потому что его "подбородок напоминает еку подбородок Маруси, и за это позволяет он 2гор.ушке прокучивать свои пятирублевки. Егорушка очень доволен"/!, 431/.
Во второй части 2-ой главы рассматривается "Ненужная победа". В 1882-м году у А.П.Чехова состоялся примечательный разговор с А.Д.Курепиным о существенном различии современной отечественной я зарубежной беллетристики. Частный предмет спора - Кор йокаи, известный и очень популярный в то время в России венгерский романист. Чехов высказался о нем отрицательно, завязалось пари, результатом которого явился рассказ "Ненужная победа". Забвение этого факта приводит к истолкованию произведения, по меткому определению A.B.Амфитеатрова, как "бездарного серьеза", тогда как современники видели в нем "злую иронию".
В диссертации ставится цель восстановить историю восприятия Мора Йокаи в России, т.е. выявить произведения венгерского писателя, опубликованные в русской прессе до появления на страницах "Будилbhi' ta" чеховского рассказа, и критические отклики на них; а также - охарактеризовать творческую манеру (-'окай, "венгерского Дюма", как его называла русская пресса в 1880-е гг.
Строго говоря, "Ненужная победа" имеет отношение лишь к двум романам Йокаи /из шести, опубликованных к этому времени/ -популярному в России в 80-е гг. "Новому помещику" и "Черным бриллиантам". Но Чехова, конечно, интересовал не столько венгерский романист и возможность подражать ему, сколько то романные традиции, которые "просвечивают" сквозь его произведения, - традиции романа карьеры, в частности, столь ошугимые в "Черных бриллиантах". Сопоставительный анализ произведений М.Йокаи и Чехова показал, что традиции романа карьера, реанимируемые Йокаи, • истолковываются им "по-новому", с искажением классической нормы такого романа: нарушается основной конфликт, лежащий в основе романа карьеры, появляется "новая" героиня, что ведет к деформации жанровых традиций.
Чехов разворачивает свой сшет, свой роман карьеры, без тех отзтуплений от канона, которые позволяет сибе г'окаи. Однако
"просвечкваюшая" сквозь роман венгерского писателя традиция /вульгаризированная км/ и прямо названная в чеховском произведении "бальзаковскими мечтам", представляется автору "Ненужной победы" детски-сказочно^. а тем самым и абсолютно чужой - ненуя-.щут победа. Отсюда и та дистанция, которой стремится отделить себя автор от своего произведения: в финале рассказа он приписывает авторство некоему репортеру д'Омарену; этот репортер, узнав о смерти Ильки, поселяется в гольдаугенском лесу и пишет повесть. "Проезжая в прошлом году чрез гольдаугенский лес, я познакомился 6 д'Омареном и читал его повесть. Переведенная на русский язык, она и предлагается нашим читателям"/1, 337/.
Чехов, несомненно, перевыполнил взятке на себя обязательства: это повесть, написанная в духе Мора "йокаи, находящаяся в связи с "романом карьеры". "Ненужная победа" демонстрирует, что есть гсаница, леяашая между классической традицией и ее эпигонами-популяризаторами. Но это качество произведения Чехова следует отнести на счет «го таланта, В "Ненужной победе" нет следов пародийного задания или жанровой полемики. Поэтому она тоже не была подступом Чехова к болыио!' жанровой форме. Это упражнение-задание с заранее известным результатом. Пари "на публику", читавшую современный переводной рокан в духе Йокаи со сложной за-ниамтельной фабулой, большим количеством действующих лиц, с яркими открытыми конфликтами, с непреложным торжеством добродетельных героев в йинаяе. Чехов хорошо зная рецепт: венгерская /или любая другая/ экзотика, красивые сальные герои, честная борьба с нечестными персонажами, вознаграждение, и "будут читать и примут за переводную о венгерского".
В споре с А.Д.Курепиным А.П.Чехов утверждал, что русский писатель относится к своему делу серьезно. Если дв махнуть рукой на это, то можно писать и как Мор йокаи, и как многие, многие другие совремзнные беллетристы. Но повесть Чехова "Степь" -попытка молодого литератора писать серьезно. Ей посвящена де^у; глава диссертационной работы - "Чеховский дебют в "толстом" журнале".
Одним из главных стиглулов написания "Степи", как известно, были письма-советы Д.В.Григоровича. Д.В.Григорович настойчиво рекомендовал Чехову писать большую вещь и предлагал даже сюжет. Впоследствии Чехов признавался, что отчасти воспользовался им в "Степи". В диссертации показано, что критические суждения о прозе
Д.В.Григоровича, в целом совпали с оценками "Степи": излишняя растянутость, "скучность" повествования из-за чрезмерной описа-телькости, злоупотребление описаниями природа, размытость внутренней организации повествования, его фрагментарность и этнографизм. "Степь" можно прочитать "под Григоровича", особенно некоторые ее пейзажи. Не случайно, Чехов был убежден, "что пока на Руси существуют леса, овраги, ,-етние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни Вас /Григоровича - Т.И./, ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут Гоголя"/П2, 175/. Он бил убежден и в том, что "Степь" должна понравиться Григоровичу. В ней есть все для этого. Однако ожидаемого понимания не произошло: слишком разными оказались представления Чехова и Григоровича о том, что делает повествование романом. По Григоровичу, "все дело в исполнении и также в задаче, главное задаче ... представить картину нравов такой-то среды или угла, высказать какую-нибудь общественную мысль..." Эта тенденция, почерпнутая из насущных проблем общественной жизни, и цементировала панорамные произведения Григоровича. Но Чехов не за это ценил писателя старшего поколения. Художник, по его убежедшш, должен судить только о том, что понимает, а "об обшине, о судьбах капитала, о вреде пьянства, о сапогах, о женских болезнях..." должны судить специалисты. "Художник наблюдает, выбирает, догадывается, ком-понует,'/ПЗ, 45/. заботясь лишь о том, чтобы у всего им написанного был бы "общий тон и запах".
В диссертации показано, что одним из мотивов, определяющих такой тон.в произведении о самоубийстве 17-летнего мальчика является мотив смерти. Частотность употребления некритических символов и образов в "Степи" удивительна: они встречаются практически на каждой третьей странице текста, а в 1-й и во 2-й главах -на каждой. Теш смерти появляется уже на второй странице "Степи": проезжая на бричке мимо кладбища, Егорушка вспоминает умершую бабушку, глаза которой н^ хотели закрыватьдя после смерти, и на них положили пятаки. Во 2-й главе говорится о песне травы, в которой она, "полумертвая, уже погибшая, ... уверяла, что ей страстно хочется гать..."/7. 24/. В 4-й главе - этот же ютив страстной жажды жизни, молодости и расцвета сил, торжества красоты, тем не менее гибнущей даром для мира, повторится и сольется с другим мотивом - одиночества и мотивом сиротства, брошен-ности на произвол судьбы. В 6-й главе повествование возвращается
к теме 1-й главы - кладбише и могила бабушки, вера Егорушки в собственное бессмертие. Таковы главные вехи развертывания мотива. Но между ними герои "Степи" и рассказчик много раз упоминают или говорят о смерти. Так, в 3-й главе - о.Христофор рассуждает о пределе своей жизни, в конце повествования он, прощаясь с Егорушкой, завеиает поминать себя, коли помрет. В 4-й главе - Пан-телей бормочет о смерти, которая ждет всех, и как бы иллюстрацией к его словам служат страшные рассказы Дымова и того же Панте-лея в 5-й главе. С этимг рассказами ассоциативно связаны упоминания о душах умерших и похороненных в степи людей, одиноких могилах, покосившихся крестах, "рассыпанных" по степи черепах, упоминания о покойниках, короткой жизни человека и т.д., и т.п.
Восемь главок стенного повествования примерно одинаковы по объему и представляют собой не совсем "отдельные рассказы", как об этом писала критика. Они объединяются в пять относительно самостоятельных описаний /"как пять фигур в кадрили", по разъяснениям Чехова/. Причем повествование сосредоточивается вокруг пар героев: сначала Кузьмичов и о.Христофор ведут беседы, а Егорушка и Дениска, который "не перестал еще бить маленьким", скачут на одной ноге наперегонки и наблюдают за кузнечиком; чуть позже составятся и другие пары: Соломон - Дымов, никого не боящиеся, никого не почитавшие, ничем ня стесняющие себя, насмешливо-презрительно смотрящие на жизнь, и - о.Христофор - Пантелей.
Сюжет повести, при всей его "затерянности" в степных пейзажах, все же вычленяем. Девятилетний мальчик "с разрешения дяди и с благословления о.Христофора" едет учиться в гимназию. Этого пожелала его мать,."любившая образованных людей и благородное общество". Со скоростью быстро едущей брички проходят перед читателем приметы той, прошлой жизни мальчика. То. чем она была наполнена и что било Егорушке дорого. Оставленная позади жизнь отзовется в повести лишь один раз. В переполненной степными впечатлениями голове мальчика вновь возникнет образ бабушки, спящей на кладбище. Но степь "подкорректирует" это воспоминание. Новая жизнь, начинающаяся для Егорушки на городской окраине в конца повести, также вполне предстазима в общих чертах: учение в гимназии губернского города, быт окраины которого уже отдельными штрихами очерчен Чеховым в последней главе. В этом смысле 8-я глава представляет собой перелом в степном сюжете, отрезая от Егорушки все, что "до сих пор было перевито". Дядя, Кузьмичов,.
который булет помогать Егорушке, и, очевидно, навещать его иногда, бывая в городе по делам; подруга матери мальчика Настасья Петровна, приютившая его ... - с этим миром будет связан дальнейший сюжет. Что станет о Егорушкой? Кем он станет? "Доктором ли, судьей ли. инженером ли..."? Неясно. Однако связи с пережитым в степи должны быть существенные для дальнейшего повествования. Все, что было пережито, не исчезнет "навсегда, как дым", вопреки его-рушкиным предчувствиям. Детская память сохранит многое. И эта память детства, степь, то, что здесь было сказано о жизни и "прочувствовано" самим мальчуганом, та цепочка мучительных вопросов и недоумений, которая выросла на пути путешествия, должна была, очевидно, развернуться в будущем сюжете. "Теперь Егорушка все принимал за чистую монету и верил каждому олову, впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своем веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том, чего не вшо"/7, 72/, Это уже размышления взрослого героя, бог весть как сохранившиеся в повести рудиментом большого повествования и доказывающие изначальный "романный" замысел произведения.
Повесть без интриги, скучна, однообразна. Но разве не такого впечатления и добивался Чехов от своего произведения?1Реализуя художественный замысел, перенося конфликт из человеческой сферы в пейзаж, прошивая как будто крупными стежками все главы повести цепью ритмических повторов словосочетаний и слов, Чехов накрепко связывает повествование б единое полотно. Эти повтоэы в сознании читателя складываются в зыбкие образы, кочующие по страницам степного рассказа. В диссертационной работе предпринимается попытка "учета" всех повторов, оплодотворяющих эти образы.
Повторы "расползаются" по всему повествованию, и когда слышится плач чибиса /2-я гл./ или грустный крик птицы сплвка /6-я гл./, то кажется,'что плачут они о том же, о чем плачет трава: "...в своей песне она <. .л убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она оде молода, и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прошения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя..."/7, 24/. Эта иллюзия заворачивает, и уже не помнится, что пела эту песню "длинноногая" баба.
просеиваюшая что-то около своей изба, тем более, что сама она похожа на птицу /"в короткой исподнице, длинноногая и голенастая, как цапля"/, так же как графиня Драницкая, подобно большой черной птице, проносится мимо-Егорушки и у самого его лица взмахивает крыльями, И не успев как следует разглядеть ее, мальчик тут *е "почему-то" вспоминает одинокий тополь, виденный им на холма, перенося всо полноту ассоциаций, возникших у повествователя при вдае одинокого тополя /"кто его посадил и зачем он здесь - бог его знает"/, на неожиданное появление на грязном постоялом дворе сиятельной очень красивой, стройной и. очевидно, очень одинокой женщины. И. кажется уже, что о ее судьбе, а не о "судьбе" тополя размышлял повествователь: "Счастлив ли этот красавец? Летом зной, зимой отужа и метели, осенью страшные ночи, когда видишь только тьму и не слышишь ничего, кроме беспутного, сердитого ветра, а главное - всю газнь один, один,.."/?, 17/. Так Чеховым создается зыбкий печальный и очень поэтичный образ /птипа, трава, тополь/ венской доли, од.,нокой красоты, погибавшей даром, доли степи, исторически одинокой доли России /"Наша матушка Расия всему свету га-ла-ва!"/. По пути своей памяти проводит писатель девятилетнего мальчика к новой, неведомой для него жизни. "Какова-то будет эта жизнь?" - спрашивает он в финале, обрисовав в своем рассказе "совокупную судьбу" русского человека, в которой торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни оборачиваются напряжением, тоской и одиночеством.
Еще одно чеховское"произведение - "Счастье" - "степной субботник", сотканный из рассказов старого пастуха о зарытом счастье - цельная картинка, обрамленная "вставочными орнаментами вроде овец" для "оптического обмана" читателей, легко представила в качестве отдельного фрагмента в структуре "Степи". Там даже как будто есть для этого специальное место - варкамовская отара овец, охраняемая двумя пастухами да "злющими" собаками. Сама завершенность рассказа определяется этими вставочными орнаментами да молчаливостью "бессмысленной" степи. Степь молчит. В "Степи" же она заговорила и вышла в главные герои произведения, заставляя считаться с собой остальных персонажей, формируя и навязывая им свое настроение, свою скуку и усталость от одиночества. Душ о "суровой и прекрасной родине", навеянные сознанию художника степью, прорываются в повествовании капельками авторских откровений о русском человеке, который "любит
вспоминать, но но любит жить", а саму жизнь ощущает чудесной /егорушкино сознание/ и страшной /Дымов: "йизнь наша пропащая, лютая!"/ одновременно, "а потому какой страшный рассказ ни расскажи на Г^си, как ни украшай его разбойничьими гнездами, длинными ножиками и чудесами, он всегда отзовется в душе слушателя былыо..."/?. 72-73/. Нигде до "Степи" и после нее мы не встретим у Чехова таких "дум", нигде не будет так открыто и прямо говориться о России, Родине, о русском человеке ... В этом смысле "Степь" - совершенно уникальное явление в творчестве Чехова.
Мысль писателя"движется от "пейзажных" впечатлений к легендам, рассказам и сказкам, и тогда, как бы на новом витке отталкиваясь от этих же впечатлений, удается набрать ту духовную высоту, на которой можно облететь степь "вместе с ночной птицей" и ощутить, выражаясь словаки современного поэта, сиротство как блаженство. Все эти размышления повествователя, все, что ему удалось "увидеть и постичь душою", - суть интуитивные догадки, общее ощущение русской жизни, которая"бьет русского человека так, что мокрого, моста но остается, бьет на манер тысячепудового камня"/П2, 190/. Это именно ощушение, а не объяснение /чего требовал Д.В.Григорович/. правильно найденные вопросы, конкретные ответы на которые может дать только сама яиэнь. И тогда из заявленной экспозиции, вместившей в себя все необходимые мотивы, вырастет роман, быть может. Пока же у Чехова введение в роман "замкнулось" в повесть, - стало самостоятельным жанром. Таким образом, Чехов отчасти действительно воспользовался сюжетом Григоровича, Главная часть сюжета осталась за пределами повести: в будущем, погав в Питер или в Москву, как писал Чехов, Егорушка кончит непременно плохим. Прямых намеков на такое развитие сюжета в "Степи" нет /если не считать упоминания повествователя о том, что Кузьмичов при прощании с Егорушкой разговаривал так, "как будто в зале был покойник"/, а значит повествование в ней внутренне завершено. "Степь" оказалась повестью. Но она может рассматриваться и как начало романа, ибо ее повествование заключает в себе систему необходимых для реализации такого замысла мотивов.
В заключении содержатся общие выводы исследования. Проведенный анализ показал, что становление и выработка чеховского стиля и слога происходило в диалоге с газетной беллетристикой, с романными традициями и трафаретами массовой литературы, популярного чтения /вроде Мора Йокаи/, игры с русской романной
клаосикой /Тургенев. Достоевский и др./, а главное: в диалоге с читателем, массовым, рядовым, с читателем тех изданий, в которых писатель сотрудничал в 80-е гг., его сознанием, его литературными пристрастиями, особенностями восприятия беллетристических произведений.
Отношение Чехова к большой жанровой (форме, выразившееся в рассмотренных нами произведениях, было связано не с поисками собственной жанровой разновидности романа, как об этом часто писали исследователи. Канровое новаторство Чехова связано с рассказом, генезис которого, как показывают современные исследования, восходит к анекдоту и притче. И не случайно ранний Чехов в сознании читателя прошлого века и века настоящего, - автор коротких рассказов, а не .автор "Ненужной победи" или "Драм на охоте". Но Чехов действительно пробовал себя з "большом жанре". Однако эти попытки были вполне в русле "массовой" беллетристики и должна рассматриваться наряду с другими жанровыми опытами, как необходимое составлявшее такой беллетристики. Позиция Чехова отличалась от "массовой" беллетристики, но это отличие - "внутривидовое", я оно может быть выявлено только на фоне произведений, печатавшихся в юмористических журналах или фельетонах газеты. Чехов добросовестно проверяет готовые беллетристические форм на продуктивность, вмещая в них столько серьезного содержания, сколько эта форма выдерживает. И уже ранние чеховские тексты демонстрируют "абсолютный результат" многих форм: переводной роман, газетный и т.д., - все, что данная форта может вместить. И то, что результаты этя получались не всегда полноценными: размытая эстетическая природа, мелодраматические "крены" и т.п. -скорее должны рассматриваться как подчеркнутое обнаружение искусственности принципов, на которых стро!иоя та или кная "эпигонствующая" романная форма, а не как чеховские неудачи з "работе" с большой формой. Чехов не выходит за пределы этих принципов, лишь по-своему комЗинирует их, и тем самым как бы вскрывает их условность. 3 итоге для читателя может стать очевидной такая искусственность жанра; но менее искушенный читатель вполне примет роман Чехова всерьез /как это было, например, с "Ненужной победой"/. Кроме того, чеховские штудии в области большой жанровой форш связаны о "эстетическим осадком" большой традиции в массовом сознании и литературе. Чехов находит его в произведениях самых разных авторов. У йокаи /"Ненужная победа"/ это большой
социалышй роман, связанный с именами Бальзака и Стендаля. Тургеневский "любовный романтизм" стал почвой для многочисленных грустных маленьких романов, трансформирующих высокий романтизм оригинала в направлении "жестокого" романса. Достоевский с его вниманием к "изгибам души" среднего человека может стать предметом спора в уголовном романе. "Неудача" с созданием романа /"Степь"/ дает представление о собственной чеховской прозе "на переломе", когда он захотел стать "большим художником" и уместил весь русский роман со всеми его масштабными размышлениями о судьбах России и народа, ее населяющего, сущности русского национального характера в повесть. Поскольку главным оказывается общее впечатление, общее эстетическое чувство и умение художника передать этот "русский дух" в произведении так, чтобы в одном маленьком рассказе больше бн"чуялась Россия, чём во всех романах Бобо-рыкина".
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. кльюхкна Т.Ю. Чехов и тургеневский роман /"Цветы запоздалые"
и тургеневская традиция/ // Молодые ученые и студенты - науке: Тез, докл..науч. конф. Кемерово, 1989. С.53-54.
2. Ильюхина Т.Ю, К проблеме романа в творчестве А.П.Чехова /"Драма на охоте" и традиции русского рселака/ // Молодив ученые Кузбасса - народному хозяйству: Тез. докл. обл. научно-практической конф. Кемерово, 1990. С.76.
3. Ильюхина Т.Ю. "Маленький роман" в рассказе /"Некужная победа* А.П.Чехова/ // Творчество Мандельштама в вопросы истори-чзской поэтики. Кемерово. 1990. С.134-141.